Три власти (сборник) Сычева Лидия
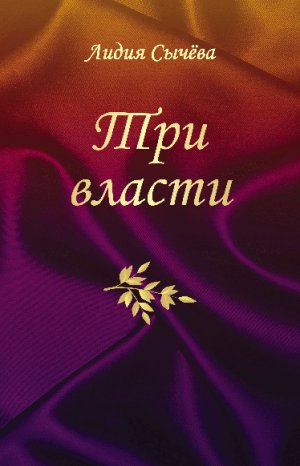
Звёздные ночи в июле
Три власти
Ветреный, сизый вечер. Осень, стынь. И всюду – свинцовый цвет: в низко насупленном небе, в брусчатке Красной площади, в решетках Александровского сада, в шинелях ладных и вежливых военных, что проверяют документы у Троицких ворот.
Сергей спрятал паспорт во внутренний карман пиджака, и не спеша – время у него было – зашагал по мосту, ведущему в Кремль. Он остро досадовал на себя, на свою неловкость, непривычность к подобным процедурам – был он, кажется, слишком суетлив, когда подавал документ и приглашение в конверте, напечатанное на отличной, очень плотной бумаге цвета топлёного молока: «Уважаемый… Имеем честь… Будем рады видеть Вас на приеме… Сбор гостей…» Впрочем, другие приглашенные, как он заметил, тоже чуть волновались, нервничали. Сердце его билось радостно, беспокойно – будто в ожидании чуда, которое обязательно должно с ним сегодня произойти.
Сумерки быстро сгущались. Он миновал куб из стекла и бетона – здание Дворца Съездов – и, повинуясь интуиции (спросить не у кого, другие гости давно его обогнали, да и стыдно было бы признать себя новичком), повернул направо. Дул резкий, пронизывающий ветер, было зябко, словно ранним утром, когда из тёплого дома выходишь на неприветливую улицу. Тьму пространства разрезали толстые, мощные лучи прожекторов. Свет падал мягкий, тёпло-золотистый. Ноги сами вели его в нужном направлении – и Сергей вдруг узнал, угадал Соборную площадь, столько раз виденную им в учебниках истории, в документальной хронике и даже в кино.
Он оказался один, совершенно один, на этом небольшом квадратике кремлёвской земли, стеснённой древними соборами, где, как он помнил, покоились древние государи земли русской.
Ветер внезапно стих, контуры храмов темными громадами вырисовывались в небе, и что-то таинственное, древнее, грозное, много больше, чем человеческая жизнь, неожиданно явилось перед ним.
Сергей ошеломлённо сделал несколько шагов и, наконец, застыл в центре площади. И вдруг он со страхом, а после с ликованием услышал, как бьется сердце великой страны. Он мог поклясться – эти глухие, размеренно-тяжелые удары доносились из тьмы веков; они были могуче-основательными, глубинными, но – он повел плечами, так жутко ему стало – иногда будто замирали, пропадали, и всё равно услышанные тоны казалось величественным, прекрасными. Глаза его мгновенно стали влажными.
Он был, конечно, взвинчен, взволнован, восприятие его было слишком нервным, острым; Боже мой, вихрем пронеслось в его голове, неужели, ощутив то, что сейчас почувствовал он, можно чего-то бояться?! В смысле – бояться умереть, пострадать за это великое сердце, чтобы оно билось дальше и дальше, всегда?!
Ему казалось, что он мчится на лыжах с огромной горы, и душа его трепещет – он должен сейчас разбиться, погибнуть, но он всё летел и летел; так вот, успевал он думать, неужели почувствовав свою призванностъ владеть и властвовать, можно ещё чего-то хотеть?! Смешными в этот миг – вроде детских игрушек – казались ему мирские сокровища: дворцы, яхты, счета в банках, экзотические острова. Все они будто лежали у его ног, а он предпочёл им вечность… Он вдруг почувствовал себя Иваном Грозным, Македонским, Цезарем и ему казалось, что это он правил настоящим, прошлым и будущим разноплеменной империи.
Перед тем, как пройти в зал приёма, нужно было зарегистрироваться у симпатичных молодых людей (они называли номер столика, Сергею достался 21-й), и этот церемониал собрал даже небольшую очередь – человек в 10–15. От резкого запаха стойких духов, от чужих обостренных энергий, которыми, казалось, была переполнена атмосфера просторного и роскошного помещения, у него закружилась голова. Сергей старался, чтобы взгляд его не был пристальным, он чувствовал в себе особую собранность, ясность и чёткость в движениях, которая когда-то появлялась у него перед горнолыжными соревнованиями (теперь он забросил спорт – жаль, конечно). Он пытался смотреть мягко, вести себя раскованно, естественно, но был напряжен и видел то, на что в обычные дни совсем не обращал внимания.
Были здесь дамы после сорока, одетые по-женски, но с такими закаменевшими лицами, что он понял – множество государственных или деловых обязанностей давно поглотили их пол, и они даже не подозревают о радостях физической любви; были богачи, миллионеры (или даже миллиардеры), они вели себя как завсегдатаи, их «статус» выдавали не бриллиантовые запонки, а многолетняя привычка к дорогой одежде и «светскость», с которой они вели беседы с себе подобными; были растерянные новички со свежими, как правило, плохими прическами и неуклюжими нарядами; были чиновники – «кувшинные рыльца» – от сидячей работы у них сильно обвисала та часть тела, откуда растут ноги, странно, что таких физических явлений не наблюдается, допустим, у водителей автобусов, подумал Сергей; были здесь и иностранцы – с авангардизмом в одежде и чувством глубокой растерянности и непонимания на лицах, они фотографировали интерьеры на мобильные телефоны, и никто не останавливал, не мешал им.
Сергей мучительно узнавал лица, что когда-то видел по телевизору: образы – экранный и реальный – сильно разнились. На прием пригласили и трёх его коллег – учёных-физиков, но это были «мэтры», светила, к которым он никогда бы не решился подойти. Они смотрели на происходящее без всякого ликования, скорее устало, будто пришли не в Кремль, а на очередное заседание кафедры, и это удивляло, ранило Сергея.
Наконец всех пригласили в Георгиевский зал. Высоко, на балконе, оркестр играл классическую музыку, сияла позолота, официанты в белых перчатках скромно стояли у стены. Стол Сергея был почти рядом с «президиумом», но вместо Первого лица прием открыл малоизвестный человек из администрации, с некрасивым телом, которое не скрывал дорогой костюм, с ассиметричным, неприятным лицом. Он говорил в микрофон простые, обыденные слова, явно стараясь понравиться собравшимся, и его речь усиливала акустика сводчатого потолка (новички всё озирались вокруг, созерцая кремлёвское великолепие). Сергей внимательно вслушивался в «послание»: может быть, вещал человечек, облеченный властью, жить следует для того, чтобы однажды оказаться в этом зале… Слова перевирали, переворачивали вверх тормашками то чувство, которое Сергей испытал на Соборной площади и ему стало остро-больно. «Не так, не так!» – упрямо шевелил он губами.
Бело-золотой зал, белые скатерти, белая посуда, белые стулья. И – сияние хрусталя в огромных люстрах, в резных бокалах. За столом – они постепенно все познакомились – оказались несколько сотрудников МИДа (это были обычные протокольные люди с брюшками, может быть, в юности за рубеж их звала не романтика дальних странствий, а возможность купить вне очереди шкаф или машину, – думал Сергей), были и «простые смертные» – молодой наивный парень, лауреат конкурса «Учитель года»; пожилой сельский врач, тоже с заслугами; скромная, с узкими плечами, девушка-виолончелистка, стипендиатка фонда «Надежды России». Были и две немки – кажется, бизнесменши. Одна из них постоянно улыбалась, похоже, она не прочь была завести знакомство с загадочными русскими, другая – задорная, лохматая, напоминала ласкового мопсика. Они не знали языка, но мидовцы перевели – дамы предложили, когда наступила их очередь произносить тост, выпить «за этот великолепный зал». Официанты подливали вино в бокалы (крепких напитков не подавали); «Прекрасное Бордо!» – несколько раз повторил, качая головой, один из дипломатов. Учитель года, родом, кажется, из Вязников, листал меню (на двух языках, несколько страниц кремовой бумаги наподобие грамотки было скреплено витой золотой веревочкой) и тихонько ахал: «Камчатские крабы с муссом из авокадо… Филе бранзины с овощным ризотто в соусе «шампань»…» Сергею, несмотря на «прекрасное Бордо», стало грустно. Он почти ничего не пил, не ел.
Потом был концерт. На небольших подмостках пела крупная женщина, сильно декольтированная, у неё были густые и пышные чёрные волосы, на ослепительно-белых её ключицах – таких нежных и сильных – замечательно блистали тёмно-коричневые камни колье, и платье тоже было насыщенного, тёмно-коричневого цвета. У неё был партнёр, учтивый пожилой баритон с круглым и мягким голосом, и когда он пел, то чувствовалось, что он знает все возможности своего «инструмента», голос его слушался, и казалось, что солист управляет знакомой, хорошо объезженной лошадью и давно уже не ждёт от неё никаких неожиданностей.
Холёный конферансье, скрывающий за безупречными манерами лёгкое пренебрежение к собравшимся, объявил очередной номер. Женщина в декольте осталась одна. И с первых звуков знакомого, многократно слышанного романса, время будто замедлилось, стало глубже, и с каждым новым словом поток иного мира, иной жизни, всё сильней захватывал Сергея. Он вдруг забыл, где он, что он… Он слышал только историю любви, которую рассказывала ему певица, и чуть не заплакал от переживаемого потрясения – в её голосе была большая и трагическая власть, и странно было чувствовать эту волю и силу от обычной, в общем-то, женщины. В сознании его мелькнула Соборная площадь; как же так, мысленно удивился он – за певицей не было ни тысячелетней Руси, ни космических войск, ни глухих закоулков сумрачной страны с полуразрушенными избами. Был только её дар, её голос, простой смертной женщины, но в эти минуты он готов был стать перед ней на колени. Он не мог оторвать от неё глаз – на певицу хотелось смотреть и смотреть, слушать и слушать, пить это божественный голос, в котором тонуло его сердце. Он подумал: неужели где-то есть мор, голод, болезнь; несчастье, смерть, безденежье; только красота, чистота, только эта райская музыка напоминала о том, что есть на свете страдание, но и страдание было неземным, возвышенным – женщина пела об угасающей неразделённой любви. Она пела… Неужели это что-то изменило в мире, что-то качнуло, сдвинуло в душах людей?!
Под впечатлением музыки он быстро и нервно шагал по Троицкому мосту; власть трагического и покоряющего искусства захватила его совершенно, целиком.
Он вошел в подземный переход, ведущий к метро, пахнуло спертым, несвежим воздухом, и он внутренне сжался, закаменел, предчувствуя встречу с обыденной и горькой жизнью: нищими старухами, что, трясясь от болезней и старости, будут просить сейчас деньги на жизнь, калеками, которые, шокируя жуткими увечьями, собирают средства на протезы, бомжами, выглядывающими из-за тёмных киосков как существа иного, потустороннего мира.
Но в переходе было пустынно, малолюдно, и только лысый музыкант играл на скрипке «Полонез Огинского»; играл привычно, «заезжено», одной техникой, думая, наверное, о чём-то другом, а не о «прощании с родиной». Сергей поспешил мимо, чтобы не растерять своего настроения, как вдруг заметил мальчика, может быть, лет пятнадцати, который чуть в стороне потрясенно слушал скрипача.
Это был обыкновенный, русый подросток, с простым, румяным лицом. Глаза его блестели, рот полуоткрылся в удивлении. Вся гамма чувств – от высокой печали до возвышенной радости – тенью пробегала по его лицу, в руках мальчишка судорожно мял чёрную вязаную шапчонку, которую стащил с головы. «Как в храме», – подумал Сергей.
И вдруг он понял, угадал, что мальчик впервые в жизни слышит эту музыку, и ему стало нестерпимо жаль эту обворованную душу; а потом он остро позавидовал его радости, его потрясению и благодарно взглянул на скрипача.
После чопорно-богатого, сияющего позолотой зала приемов, метро и люди в нём казались Сергею припорошенными угольной пылью. Все они были одеты будто в робы – в чёрные, большей частью, одежды, лица их виделись определенными и грубыми, наполненными внутренним отчаянием. В глаза бросилась застарелая вагонная грязь, а реклама вдруг поразила запредельным убожеством и крикливостью. Он с удивлением, по-новому, взглянул на картинки, где улыбающиеся девицы предлагали майонез, толстяки в очках – кредиты, семейка с оскаленными зубами – бульонные кубики. Ему стало страшно – все эти рекламные образы хотели разорвать его, засосать внутрь своих торговых сетей, использовать и выбросить. Сергей зябко повёл плечами. Он с сожалением оглянулся вокруг, нет, никто из пассажиров не замечал опасности! Народ устало дремал или читал лживые газеты или некрасивые, дешевые книги. Вагон чуть покачивался, гремел, стучал… И вдруг он увидел, узнал, сначала радостно, потом разочарованно, а после уже восхищенно – женщину, которая только что пела в Кремле.
Она ничем не выделялась среди обитателей метро – джинсы, короткая чёрная куртка с капюшоном. Он смотрел и не мог оторвать взгляда: она была не роковая красавица, а почти дурнушка, с круглым, простым лицом; но он-то знал её власть и силу, знал её право покорять – с первых звуков, тактов; и теперь он был сражен её будним преображением, но оттого она стала ему ещё дороже, родней. Она принадлежала этим людям, «припорошенным пылью», этому грязному вагону, залепленному уродливой рекламой, и было в этом что-то трогательно-возвышенное, настоящее. Рядом с ней стоял пожилой баритон, её партнёр, они говорили, и по выражению их лиц Сергей понял, догадался – они не только хорошо понимали друг друга, они – любили. Они вышли на следующей остановке, что-то негромко обсуждая, и двинулись рядом, близко, и в этом было много тайного и радостного.
…Да, была ещё одна власть – власть любви (наутро он думал об этом), и вдруг он понял, что она, любовь обыденная, мирская, для него ничего не значит по сравнению с той глубинной властью, которую он ощутил вчера. В России возможно только самодержавие, он почувствовал это явно, сильно и знал, что если бы ему принадлежала такая власть, он не отдал бы её никогда, никому.
Сергей вышел на улицу. День было пронзительно-солнечный, и после холодной ночи ярко голубело небо, по чёрным тротуарам тут и там лежали огромные кленовые листья, оранжевые, жаркие. Природа словно на время отодвинула громаду города, и главным сегодня было это слепящее солнце, эти удивительно белые, огромные, будто надутые изнутри, кучевые облака, эти стойкие стройные клёны, трепещущие в предчувствии неизбежной зимы.
Потом он быстро шел, потом почти бежал – легко, не чуя под собой ног – на свидание, потом он любил и целовал женщину, которую давно, страстно и мучительно желал; и после, когда они шли рядом, сидели в кафе, когда говорили и не могли наговориться, и когда он с радостью и приязнью снова и снова смотрел в её глаза, и слушал её признания, он вдруг подумал, что все царства мира, все венцы кесарей он бы сейчас отдал за то, чтобы никогда, ни на минуту не разлучаться с ней. Он, волнуясь, высказал это ей вслух, а она улыбалась, качала головой, гладила его по руке, и говорила, что не верит…
Звёздные ночи в июле
– Пожалуйста, сюда, Андрей Георгиевич, – нервнооживленно приглашала его молоденькая тележурналистка. Угрюмые малые ставили свет, оператор с богемной бородкой укреплял камеру на штативе.
Браташов смиренно, всем своим видом показывая: «Что поделаешь, я в вашей воле», – подчинялся командам. Журналистка (Елизавета Зингер или Дингер, он не расслышал) была скорее стильной, чем красивой – искусно накрашенная, худощавого сложения, в одежде, которая напрочь скрывала наличие каких бы то ни было форм – если они, конечно, имелись. Браташов знал силу своего обаяния и одарил это юное созданье долгим внимательным взглядом – он уважал телевидение, и всегда с особым тщанием относился к подобным съемкам. Даже небольшой сюжет, мелькнувший в новостях, может решить многое.
С детства у Браташова было хорошо развито боковое зрение, и сейчас он видел, как после его взгляда еще нервнее и лихорадочнее стали движения Елизаветы Зингер-Дингер, она засуетилась, заспешила, расставляя меланхоличных и молчаливых осветителей, которые всем своим видом говорили: «А нам всё по фигу. Нам что шкафы, что софиты, что бомжи, что киношники. Гоните бабки – у вас вечно обслуживающий персонал в пролете». Браташову нравились угрюмость и неспешность, с коими эти малые двигались по площадке… Он подумал: не подбодрить ли ему девушку еще одним лучезарным взором, но решил, что это будет уж слишком щедрым авансом с его стороны. «Потом. После съемки», – дал он себе задание, и чуть прикрыл, якобы от слепящего света, глаза.
Нынче утром, разглядывая себя в зеркало, он усмехнулся: «Достиг верховной власти я». Браташов стал фигурой номер один в отечественном кино – по степени влияния, популярности и по масштабам новых проектов. Он нравился себе – в шестьдесят у него было крепкое, сбитое, мускулистое тело, не отягощенное излишним жировым запасом, у него – загорелое лицо голливудского героя-любовника, частокол собственных (а не вставных) зубов, спрятанных за густыми усами с проседью и внимательные глаза со счастливым свойством – их цвет мог меняться в зависимости от настроения… Сейчас они были серыми с искрами – признак здоровья и довольства собой. Браташов облачился в светлую хлопчатобумажную пару, босыми ногами забрался в мягкие мокасины – это по новейшей московской моде. В задумчивости он провел рукой по лбу, плавно переходящем в лысину – она его тоже красила, будучи знаком многодумья и любви к размышлительности. На мизинце ярко сверкнул крупный перстень с бриллиантом – Браташов носил его не из-за любви к драгоценностям, а как символ власти и состоятельности. Он привык режиссировать свою жизнь и всегда себя видел как бы со стороны, глазами потенциального «зрителя». И сейчас этот кадр – известный кинодеятель у зеркала – ему нравился.
– Приступим, – заискивающе сказала Зингер-Дингер, и он ей поощряюще кивнул. Интерьеры, где велась съемка, были затянуты мешковиной – стол-куб, пара кресел, боковые навесные панели, создающие некое подобие стен. Тележурналистка присела на самый краешек мешочного кресла и сцепила руки так, что у нее побелели пальцы. Браташов направил на камеру взгляд бесконечно уверенного и преуспевающего человека – глаза его были ровно-синие. Хорошо поставленным голосом (спасибо ГИТИСу в молодости), внятными, доступными народу фразами, он стал говорить о состоянии отечественного кино, о трудностях творческого процесса и о национальной идее, которая так необходима России. А суть идеи проста – каждому нужно много и терпеливо работать на своем месте.
– А сейчас, – бодро присоединилась к нему журналистка, – Андрей Георгиевич в честь открытия нового кинокомплекса с двенадцатью залами задует свечи на праздничном торте.
Двое молодцев в поварской униформе внесли аляповатое произведение кулинарного искусства в виде гигантского средневекового замка (или коттеджа нового русского). Сооружение – тут и там – было утыкано витыми свечками. Браташов, обаятельно улыбаясь, изображая радость именинника, «выполнил почетную миссию»…
В нижнее, «демократическое» кафе кинокомплекса он спустился со своим коммерческим директором. Тут не было элитной мешковины и кресел, народ теснился за красными пластиковыми столикими, прихлебывал дрянной кофе из бумажных стаканчиков, который бесплатно разносили всем желающим симпатичные молоденькие девчонки-официантки (шла очередная рекламная акция). Браташов неспешно тянул «фирменный» кофе, слушал и не слушал нудный бубнеж Владика про новый проект. Вкус суррогатного напитка вдруг вернул его в голодную и такую далекую теперь юность, и он вспомнил то, к чему давно уже не возвращалась его память. Мальчиком он смотрел кино на летней площадке, вечером экран натягивали между стволами засохших деревьев. Билет стоил 50 копеек. Или нет, двадцать. Впрочем, если опоздать, прийти на 10–15 минут позже, то вообще можно было обойтись без денег – площадка не была огорожена.
Он ездил сюда, на «Хамловку», на велосипеде. Как давно это было – совсем в другой жизни, – поразился вдруг Браташов. Этот городишко – Славкино – был страшно далеко от Москвы, а он – ещё дальше от своей нынешней «верховной власти». Ну вот, что-то он делал, чего-то желал, бегал в угаре, и очнулся уже в нынешнем своем состоянии, а те мальчики, что гоняли вместе с ним на великах, позже служили в армии (в ракетных войсках), учились в ГИТИСе, они почему-то так и остались в тех своих стоячих скучных жизнях… Застыли верстовыми столбиками в его памяти. А он уехал, умчался далеко-далеко от них – приятелей детства, бедной юности и честолюбивой молодости. Думы эти взволновали Браташова. Он почему-то именно сейчас понял – ну, не одними же личными заслугами и талантами двигалась его жизнь?! Кто-то нес его на своих крыльях, оберегая от слишком чувствительных ударов судьбы, отводя от дурных и подлых людей, направляя к кратчайшей тропинке-восхождению, которую, наверное, видел только он – темно-серыми в тоске глазами… Положа руку на сердце, он вовсе и не считал себя гением. Ну, талантливый, ну, не жадный. Всегда умел ладить с людьми – не заискивая, женился на москвичке (по любви), тесть – влиятельнейший туз тогдашнего кино…
– Андрей Георгия, можно с Вами сфотографироваться? – две девушки, трепеща от волнения, стояли рядом. Вопрошала та, что побойчее, страшненькая от неудачно наложенного грима, косметики то есть. Браташов понимающе кивнул, Владик осчастливил девушек, щелкнув «мыльницей». А между столиков уже пробиралась дама бальзаковского возраста с эффектным цветным платком на голове, давно и безнадежно влюбленная в Браташова. «Вы гениальный режиссер. Вы такой актер, которому нет равных не то, что у нас, но и в Европе, не говоря уж о Голливуде с их примитивными штамповками», – он морщился от этой суперлести, дама была ему неприятна – у нее был дар все его действительные заслуги преуменьшать неумеренным восхвалением. Браташов оставил Владика на расправу фанатке, а сам позорно бежал через служебный вход.
Серебристый «Мерседес» мчал его за город, домой, в коттеджный поселок «Яблонево» – к чистому воздуху, воде, тишине и лесу, а также к круглосуточной охране на въезде и элитным соседям из мира серьезного бизнеса и больших денег. Судьба наградила его не только известностью, но и состоянием. Бедности он не знал и боялся её. Беда – да, творческие муки – да, но унизительную тень нищеты он чувствовал только в детстве.
Браташов прокручивал в голове эпизод с нынешней телесъемкой. «Мне неинтересны люди неверующие», – это он, хорошо, пожалуй, завернул. А вот: «Все устали от разговоров, пора делать дело, это и есть наша национальная идея», – похоже, несколько топорно, даже для сегодняшнего ТВ… У него была давняя, укоренившаяся с юности привычка – анализировать прожитый день, и теперь иногда ему начинало казаться, что он не живет, а смотрит про себя кино. Фильм о буднях делового человека, давно уже не принадлежащего себе. Лента, поставленная всемогущим Главным Режиссером. А у него, героя этого кино, кажется, почти не было прав на импровизацию в «кадре»…
В дороге легко думается, и ему вдруг пришла мысль о том, что мафиози, ставший впоследствии легальным бизнесменом, или военный преступник через 20 лет после совершенных злодеяний, становятся совсем другими людьми, а тех, прежних, нет. Наказание, если оно не настигло человека вовремя, спустя годы уже не имеет ни смысла, ни силы. Он, Браташов маленький, и он, Браташов нынешний, – совсем разные люди. И от этого открытия ему почему-то стало горестно.
Почему же? Мысль его заработала напряженно. Преступление, да, преступление, – это было ключевым словом в надвигающемся размышлении, и оно как-то связывалось с его жизнью, и с тем обыденным, что происходило сегодня. Он невольно поморщился. Ну, открыл новый киноцентр. Не храм искусства, и не мастерскую, и даже не советский «общепит» – а так, «фаст-фуд». «Быстрая еда», мгновенные эмоции. Ничего вечного. Впрочем, может в этом и есть высшая мудрость жизни?! Браташов усмехнулся той спасительной лазейке, которую предлагал ему разум. Нет, он, конечно, «не орел», но и не такой уж трус, чтобы оправдывать себя за явную подлость. Но об этом потом, потом… Когда полетел Гагарин, ему было восемнадцать, страна отправляла ракеты в космос, строила города. Теперь «малые предприятия» выпускают пластмассовые безделушки, мэры открывают ларьки, деятели искусств – он вспомнил себя сегодня – торговые центры. Что-то главное замутилось, исчезло. Искусство украдено.
Но при чем тут он, Браташов? «А кто же?» – услужливо и ехидно ответил «закадровый» голос. Не ребята же с Хамловки? Кто-то честно спился, кто-то помер, кто-то тихо жил в своей маленькой жизни. Они – «простые люди». А Браташов, такой же обычный и смертный, должен был грести «против течения», бороться и жертвовать, не жалеть себя ради других. Ради этих «простых», которые прожигали жизнь в доступных удовольствиях. А у него – «долг», «самоограничение», «идея». И в утешение – дар, талант, энергия. Много в нем было сил, данных ему неизвестно кем и неизвестно для чего.
Он шел к своей нынешней «верховной власти» – тут Браташов поморщился от воспоминаний – нет, не по трупам, конечно, а от компромисса к компромиссу, меняя талант на видимые личные блага. Ну, так вышло, так сложилось. Плетью обуха не перешибешь, стенкой лба не пробьешь, Москва слезам не верит – народная мудрость. Расчетливо менял, и не все «оптом», а по капельке. И все равно главный смысл утратился, ушел. Незаметно, но прочно и навсегда. По иронии судьбы, это случилось одновременно с распадом страны. С тех пор Браташов жил по инерции, «деловыми интересами», удачно присосавшись (ну, перед самим собой чего хитрить!) к нынешнему строю. Изображая из себя величину перед Зингер-Дингер…
Но он-то знал, что если бы его дар состоялся до конца, то действительность вокруг была бы совершенно иной!.. Браташов никогда не придавал «своей жизни в искусстве» вселенского значения. Нет, о другом шла речь! Тонкая настройка души сбилась. Он по-иному видел, чувствовал, говорил. Мир исказился в его восприятии – «на входе», а «на выходе» он только множил «кривые зеркала», обманывая себя и других. И это – «фабрика грёз»?! Жизнь так коротка, и люди думают, что когда они набивают ее всякой чепухой – погоня за бытовыми удобствами, комфортом, изысканными блюдами, ощущением богатства, машинами, дорогами домами – этим самым они и ловят жизнь за хвост. Но это заблуждение. Жизнь дана для чего-то более существенного. И это главное у Браташова было. Когда-то…
А впрочем, наша убежденность в чем-то – просто весьма высокая степень заблуждения. (Почему-то в самые тяжелые, безотрадные минуты жизни именно эта мысль настойчиво преследовала Браташова.) В состоянии убежденности у человека есть точка опоры, посох, с помощью которого он идет по болоту жизни. И вдруг – посох выпадает из рук… Так кто же прав: те, кто убеждены, или те, кто во всем сомневается?! Или те, кто вообще не дает себе труда думать?
…Браташов смотрел на мелькающие в окне закатное небо – в Москве стояли «белые ночи», и в начале двенадцатого было еще светло. Синие тучи с багровыми поленьями зари ужасно стояли у горизонта. Почему-то, когда он видел такое небо, ему было страшно, тревожно. Ему всегда было страшно и тревожно, когда он выходил после просмотра плохого фильма. Ему не хотелось жить. И он недоумевал: как же другие этого не ощущают?! Как они могут смеяться, шутить – будто ничего не произошло?! И это было единственное чувство, теперь связывающее его с детством. Правда, когда он был мальчишкой, у него не было нынешних обязанностей – досматривать бред больных душ до конца. Он прыгал на велик (предмет неоднократных насмешек сверстников, рама машины была скроена по «женскому» образцу) и гнал в ночи, гнал, свободный и счастливый, куда глаза глядят. И всё забывалось, и небо было высоким и звездным, и много было жизни впереди, много тайн и открытий. И там, на далекой Хамловке, он никогда не видел такого страшного – с горящими поленьями далекой зари – неба. Зарезанный закат. Браташов поднял тонированные стекла, закрыл глаза. «Мерседес» мягко летел по совершенно пустой трассе…
Муж и жена, обнаженные, перед зеркалом
Мне хотелось остановить время и задержаться в этом милом городе (а для кого-то он был «дырой», «обыденностью»), здесь, где так горько пахло у озера тополиной корой, где тихо трепетали берёзы, нашептывая будущее, где были тёплые скамейки (на каждую из них я садилась, чтобы запомнить увиденное). Этот собачий брёх, петушиные перепевы по утрам, комариные ночи, тёмные срубы старых домов, кирпичные цеха дореволюционных фабрик, блеск ещё теплой, ласковой воды, бегущей на берег мелкими рыжими волнами, эта изнурительно-длинная служба в высоком храме, где по потолку идут Св. Иоаким и Св. Анна – мудрость и молодость… Так я возвращалась к себе, к той жизни, которой я должна была бы жить.
Этот старинный город был озарен моей зрелостью, ушедшей молодостью и моим чувством к тебе. Меня удивляли здешние дома – особо статные, с глазастыми окнами, высокими крышами (на одной из них кудрявым чубом вился хмель). Новые дома уступали старым в статности, дело было в пропорциях, в том невидимом глазу чуть-чуть, что придавало давним постройкам особо горделивый, подтянутый вид.
Здесь были широкие, с высокими деревьями – тополями, клёнами, липами, березами – улицы, которые носили революционные имена: Интернациональная, Октябрьская, Каляевская, Калинина, К. Маркса.
В старом дворе, рядом с оградой храма, у ржавого детского грибка (песок никем не тронут) седой задумчивый мужчина играл в шахматы. Вчера он бился с молодым парнем, сегодня – со своим сверстником. Огромная овчарка лежала на боку, лениво наблюдала за мудрёной игрой. Думала, наверное: до чего же вы глупый народ, люди!
Ехала я сюда на электричке. Три женщины, давно и хорошо знакомые друг с другом, читали газету бесплатных объявлений: требуется встречающий швейцар у ресторана, работа 12 часов (час работы, час отдыха), сутки через двое; форма выдается.
– Зимой будешь стоять в мини-юбке, замёрзнешь, отморозишь бебехи…
– А я под колготки гамаши надену, с начёсом…
– Да кому ты с начёсами нужна, им подавай голые коленки…
– Ха-ха-ха!
Это были красивые, циничные от пережитых бед женщины – с горьким выражением глаз, с морщинками у губ. В них была особенная уверенность, какая бывает у людей, рассчитывающих только на себя…
Солнце светило высоко, ярко, пуста была дорога (праздник), только по просёлочной колее трясся в одноколке мужик – везла его белая лошадка, да рыжая хромая собачонка прибилась ко мне (может быть, ждала подаяния).
Мне было грустно от дум, и солнечно – так высоко и славно светило солнце, так широко и щедро разбрасывало оно свои лучи по всей округе. Я словно возвратилась в юность – и всё вспоминалось мне мелкое, обрывочное, несущественное, будто это была чужая, а не моя жизнь. Как приземист и невысок сосновый лес, насаженный когда-то для укрепления песков, как спокойны вдали меловые горы, обещающие за своими спинами иную, романтическую даль… И ничуть не мешая этому возвышенно-грустному настроению, в кармане затренькал мобильный телефон.
Это звонил ты. Мне было так хорошо, будто ты был рядом, держал меня за руку, и нам не о чем было говорить – всё и так чувствовалось, понималось… Густой звук твоего голоса поил моё сердце любовью, и она, любовь, словно охватывала всю округу – через меня, в сердце которой пела твоя мелодия. Боже мой, подумала я, да есть ли кого такая красота, как есть она у меня?!
…Последняя моя работа называлась «Москвичи». Я увидела эту картину в жизни – всю композицию – не прибавить, не убавить. На автобусной остановке, под железным козырьком сидели два кавказца. Один грузный, небритый, рубашка на животе в том месте, где она заправлялась в брюки, разошлась, так что видно было волосатое тело – смуглое, будто грязное. Второй кавказец был среднего сложения, тоже небрежно одет – стоптанные туфли, «немнущиеся» брюки, дешевая ковбойка. Они грызли семечки – у ног уже была изрядная куча шелухи. Лица их не отражали никакой мысли – только тупую усталость и занятость механической работой лущения семечек. Видно было, что они недавно – вчера, допустим – пили и выпили много, глаза их были в мешках, складках.
Здесь же, на скамейке, на краешке сидел коренной москвич, человек, судя по всему, интеллигентной профессии – изможденное, издуманное лицо, очки; он был предпенсионного возраста и, похоже, сумасшедший – что-то бубнил себе под нос, шевелил бескровными губами. Он был бледен, слаб и хрупок. У его ног стояла хозяйственная сумка на колёсиках – старая, от перестроечных времен, когда возникали перебои с продуктами. А чуть поодаль – огромная урна, доверху набитая мусором – пакеты от чипсов, пивные банки, оберточная бумага, россыпь окурков…
Хромой голубь, «птица мира», пятясь и остерегаясь, пытался подобраться к шелухе от семечек. Но кавказцы не обращали на него внимания. Они вообще ни о чем не думали. Просто сидели в центре скамейки и грызли семечки. А с краю, у мусорного бака, жался сумасшедший москвич. Возможно, подумала я тогда, мысленно усмехнувшись, передо мной – бывший человек искусства…
Но если забыть про то, что было, оставить то, что есть сегодня… Эту сизую дымчатую гладь озера, живописные фабричные развалины с двумя трубами, а вдали – чистый белый пляж (голуби над ним сегодня летали чайками, с морским «замахом»)…
Ну какой я художник? Смешно. Но должна же я быть тебе чем-то интересна.
Улеглась моя былая рана,
Пьяный бред не гложет душу мне…
Две женщины-фифочки, в розовом, обеим за сорок, в просторных одеждах, ребенок при них (чья-то внучка) пили на скамейке «Путинку». Пьяненькие, радостные. Но что-то неженское было в их лицах и сбивчивых разговорах.
Вода спокойная-спокойная, волны совсем нет. Только рябь легчайшая.
Вечером у гостиницы – живая музыка, звон бутылок, пьяное оживление. На открытой веранде гуляет местное купечество – поодаль дорогие автомобили, пузатые иномарки.
«Владимирский централ, этапом из Твери…»
«Детство, детство, ты куда ушло…»
«Как упоительны в России вечера…»
Сжатая в песне история духовной жизни «масс».
На веранде гуляли, а внизу на скамейках молодежь созерцала действо. Огоньки сигарет, пивные бутылки.
А бомж на площадке перед верандой – припрясывал. Здорово у него получалось, с поворотами. Даже лучше, чем у тех, кто на веранде. Танцевал от души, со знанием дела. Во время медленных танцев он руками изображал партнёршу.
Местный бомонд – коротко, почти под ноль стриженные деловые женщины. Видно, что им приходится ломить без всяких скидок на слабый пол. Много мужчин под тридцать с перебитыми носами – молодость прошла в рэкете, на «стрелках», в битвах первоначального накопления. Много пива, хмельного веселья. Музыкант даёт петуха – каждый вечер (кроме понедельника), он напрягает свой молодой (сам немолод), с красивым тембром голос.
Почти никто из них не жил так, как хотел. А я?
Деловые тётки танцевали с сумками под мышкой, а бомж свою клетчатую сумку («дом») отставил в сторону. Бомжу нечего терять… Уже…
И общая безнадёжность жизни… Почему-то.
Депрессивная грусть. «Ямщик, не гони лошадей…» Страшный, если вдуматься, романс.
Мужчина-шахматист меняет газеты на стенде возле своего дома. «За правое дело» – орган КПРФ, «Совроссию», «Правду»…
Как же быстро меняется моё настроение! Ещё вчера я была бодра, вдохновенна, а нынче – робка, пуглива, задумчива.
Почему бы тебе не быть рядом со мной? Тебе, такому красивому, родному, всёпонимающему, нежному? Мужественная нежность. Раньше мне казалось главным рассказать о том, как я люблю тебя. Теперь я поняла: важнее другое – рассказать о том, какой большой, радостно-верной, нежно-мужественной может быть любовь мужчины. Твоя любовь.
Всё пройдет. Не будет ни нас, ни этих ветреных мучительных дней, ни-че-го. Будет только любовь. Свет, сотканный из частичек наших далёких душ.
Как непригляден, сучковат и скучен мелкий сосняк – с тонкими стволами деревьев, зарослями, кустарниками. И как красивы вековые сосны – гордые деревья, чуть покачивающие кронами-«полубоксами», жарко-светло-коричневые, с толстой, потрескавшейся внизу корой. Среди таких деревьев чувствуешь себя особенно красиво, свободно…
Медленно-медленно покачиваются в вышине огромные кроны. Какая мощь, сила, и, кажется, что она питает землю, воздух, меня, всю округу. Я набрасываю этюд, не думая о технике, о качестве – у меня все получится, натура сама всё скажет.
Но неужели пройдёт и это, и постареют сосны, и мы постареем, и не будет у нас этой красоты?!
У нас не могло быть обидах детей (впрочем, наши дети и так были обидами), общей посуды, мебели, дома… Ничего общего. Кроме вот этих воспоминаний, и вот этого отражения – муж и жена, обнаженные, перед зеркалом.
Какой нормальный муж отпустит свою, горячо любимую жену, на свободу, поцеловав прежде – крест-накрест – её в макушку?
«Поезжай», – глаза твои были грустны.
Словно остатки древней цивилизации сразу за стадионом возвышались полуразрушенные арочные ворота.
Футбол: «Ветгехника» против «Мючкявюса» (название компьютерного магазина). Команды – мужики, смешанные со школьниками.
Если бы я была мужчиной, я бы обязательно стала реставратором и восстанавливала бы древние храмы, терема… Мне кажется, что это одна из самых благородных (из ненужных человечеству) профессий.
По лесам я бы взбиралась в самый купол храма и по сантиметру, очень аккуратно открывала древние фрески. («Женя, – звал на лесах друга реставратор, – давай передвинемся за окно…»).
Пахло извёсткой, дождём, тихие женщины выходили из кованых дверей ларца-дворца, на часах – 17.00, конец рабочего дня, а эти бородатые мужики в зелёной спецодежде подправляют лепнину, работают…
Реставратор работает на вечность. Я бы тоже хотела быть сопричастной вечности, нет, не жить вечно, Боже упаси, в этом страшном мире, а принадлежать вечности, которая не боится времени.
Я несла хрустальную люстру «Катерину» в чистых подвесках которой так живо и радостно играл, преломлялся свет; а женщина-бомж тоже была занята «хрусталём» – выбирала из мусорного контейнера пустые бутылки. Это было именно бомжевание, а не рвущая сердце «подработка» к пенсии – благообразную бабушку, которая, стараясь быть незаметной, собирала бутылки на стадионе во время игры «Веттехника» против «Мючкявюса», я видела вчера.
Устремлено шагаю на рынок купить яблок – время уже двигалось к трём, как вдруг мысли мои прервал коричнево-копченого цвета старик – в заношенном пиджаке, грязных спортивных штанах «цыганского» пошива. Он, прислонившись к ограждению, что-то говорил мне.
Я подошла поближе.
– Слушаю.
– Подайте, говорю, пенсионеру на хлеб, – старик обнажил беззубые дёсна.
Ясно было, что это алкаш. Но человек просит… Полезла в сумку за кошельком. Ободрённый моей уступчивостью, старик вдруг со всей силы хватил деревянной палкой о металлическое ограждение.
– Спокойно! Не надо паники! – сварливо заметила я.
– Да, спокойно! – запричитал нищий, – попробуй, проживи на такие деньги! У меня обеих ног нету!
Я торопливо сунула ему в ладонь мелочь (он сразу же занялся подсчётом) и поспешила прочь, размышляя, что означала фраза «нету ног»? Может быть, ревматизм? Артроз? Ноги у старика были, кажется, всё-таки свои, а не протезы.
Спустя несколько минут я возвращалась той же дорогой – его уже и след простыл.
Номер был дёшев, даже для этих мест. «Потому что без телевизора», – извиняющимся голосом заметила девушка Рита у стойки регистрации. «Это даже хорошо. За отсутствие телевизора в номере надо доплачивать», – утешила я её.
Свидание с телевизором проходило на завтрак и в обед, в кафе на втором этаже, куда я заходила перекусить. Тут я и увидела на экране артиста 3., толкующего юнцам, что «в начале было слово», и читающего с актёрскими завываниями ужасные, совершенно графоманские стихи поэта Б-го (кстати, ни один актёр на моей памяти не прочёл путём ни одного стихотворения).
Я помню, как встретила 3. в артистическом кафе в Челябинске, он сидел один. Меня поразило его мертвенное лицо (как раз недавно он сыграл роль ведьмака в нашумевшем фильме), а ведь начинал с идеалистов-революционеров!.. Это был мёртвый человек, живой труп, серо-зелёное лицо его с ужимками фата было ужасно, как маска ада. Кажется, минут через пять я ушла – не смогла быть рядом.
Неужели это всё – ради славы?!
«Муж и жена, обнаженные, перед зеркалом». Эту картину, я, конечно, никогда не напишу. Не хватит мастерства, дерзости. И вдохновения.
С детства у меня было две страсти – любовь и рисование. Впрочем, тогда я и не подозревала, что это – страсть. Это был основной способ моей жизни.
Выгоревшие до серой серебрянности сухостойные стволы деревьев – жутко-печальное зрелище. Преподавательница по античному искусству, такая же сухая, с плохо прокрашенной сединой, сказала мне как-то в минуту раздражения: «Вы будете жить в деревне, у вас будет муж, тракторист-пьяница, дети, и вы забудете свои мечты о «высоком».
Меня это возмутило и смутило: нет, перспективы сельской жизни меня как раз не пугали, я относилась к ним вполне спокойно, но я не могла забыть свою мечту. Даже если рядом будет муж – тракторист-пьяница.
И вот она, нежность…
В нас всё обнажено, но небольшое зеркало в старинной раме, потемневшее, показывает нас целомудренно – только чуть ниже ключиц, по грудь.
У тебя – голова римлянина. Полководца. Воина. Но об этом я вспоминаю сейчас. А тогда я думала о том, что в мире много красоты, но она открывается через любовь, через человека.
Зеркало отражает страдание, любовь и нежность. В наших глазах.
Способ жизни – любовь.
Я хотела бы нарисовать эту картину о счастливой любви, но шли годы, и я поняла, что не бывает ничего постоянного, в том числе и счастья. Что за каждым жизненным поворотом нас ожидают испытания. Боже мой, какая это мучительная штука – жизнь!..
В городе было много уличных котов. Просто нашествие какое-то. Но это днём. А вечерами, в центре, гремящий музыкой монстр – развлекательный комплекс «Вулкан». Девочки-мотыльки вьются возле иномарок, ищут своё счастье. Молодость исчезает, уходит, улетает…
Днём я слушала на рынке разговоры торговок.
– Ой, ну я сегодня такая счастливая!
– Правильно, вчера уехала от нас на «Ауди».
– Да вы что, это мой друг просто, – говорит, оправдываясь, – я его три года знаю…
– Ага, чего ж не радоваться: три года уже на «Ауди» катаешься… А тут и сопливого полюбишь…
Каждый день я отправлялась на озеро, где купалась, плавала, а в первый день – он выдался очень жарким – это было воскресенье, я залезла в воду в одних трусах, потому что вышла просто прогуляться и не взяла купальника; вода была удивительно ласковая, я – блаженствовала, и вдруг я увидела, что к берегу приближается парочка. Они долго целовались на обрыве; я отплыла подальше, решив, что, в конце концов, не сидеть же мне тут до вечера, попрошу парня отвернуться, пока буду выходить из воды. (Этого не потребовалась, парочка, намиловавшись, ушла).
В местной библиотеке я увидела такую страшно-загорелую женщину с сильно подведёнными блестящими розовыми тенями глазами, что невольно хихикнула. Но она, молодец, эту мою бестактность не отнесла на свой счет.
В библиотеке двое рабочих тянули в здании (уж который день!) противопожарную сигнализацию. Это были молодые мужчины, лет двадцати пяти, один более нервный, самоуверенный, некрасивый на лицо; другой – покладистый, добрый, стесняющийся своего грубого товарища (первый в минуты производственных затруднений разговаривал исключительно матом).
Они наметили на потолке линию проводки. Нервный начал сверлить дрелью дырки. Первая же попытка закончилось неудачей.
– Арматура, – обескуражено заметил он.
Они отступили сантиметров на двадцать, разметили потолок, и опять принялись за дело. Первая дырка пошла на «ура». При бурении второй процесс забуксовал.
– Арматура, – забубнил первый и начал ругаться матом.
Это, наверное, действительно была арматура, и не могли же рабочие её «прозреть», но почему-то производственная неудача рассмешила женское общество библиотеки, особенно двух молодых девчонок – заведующих ксероксом и несколькими компьютерами. Они начали хихикать, улыбаться.
– Весь потолок издырявили, испортили, – с хозяйским сожалением заметил покладистый.
– Ничего, им всё равно белить, – жёстко заметил нервный, и они сделали ещё одну разметку, так, что за компьютерами уже невозможно было сидеть. Посетителей попросили выйти, погулять часик.
Я надеялась, что бурение потолка осуществится гораздо быстрее, и по коридору прошла в тупичок здания, где стояли два старых, обтёрханных креслица. Рядом было нечто вроде кладовки, где аккуратно сложенные лежали совершенно ветхие книги советского времени – по-видимому, они дожидались списания. Из кладовки я прихватила с собой две книжки – толстый роман и сборник милицейских рассказов.
Вечер того же дня я посвятила роману; это было захватывающее чтение, жаль, что финальные страницы не сохранились; впрочем, о них можно было догадаться по смыслу, по логике развития событий.
Производственный роман брежневской эпохи рассказывал о мощной стройке – возведении энергокомплекса в Сибири, о возникновении в связи с этим нравственного конфликта в среде высших должностных лиц – между главным инженером стройки Морозом и его отчимом; повествовал о симпатичной, созданной для любви девушке Жанне, которая двадцати лет от роду уехала из Сочи в Краснокаменск, о принципиальном журналисте Грачёве, о мятущемся и хлипком писателе Олеге Свешникове и о двуличном молодом учёном Леоне Колесове.
Это был, конечно, роман-ремесло, написанный в русле «русской партийности», но герои были, в общем, симпатичными, язык – простым, сюжет – держал. А Морозу, принципиальному молодому начальнику, в конце романа достались не только лавры справедливого руководителя и честного инженера, но и любовь утонченной, играющей на фортепиано Грига девушки Жанны. Всё, как положено победителям – руно и женщины.
На следующей день я принуждённо смотрела в кафе очередную «Фабрику звёзд» по телевизору, и комментатор восторженно рассказывала, каков был конкурс, как съехались сюда таланты со всех страны и ближнего зарубежья… А потом воспитатель убеждал таланты: «Ребята, давайте договоримся: мы будем убирать комнаты и зал, где репетируем. Это нужно для нас. Сегодня кто-то из вас должен вымыть полы…»
Гигантская стройка в Сибири, куда устремилась девушка Жанна, и мытьё полов в пансионате – какова разница масштабов! Неужто наши отцы за нас всё построили?!
На улице я встретила молодого парня, с которым мы стояли рядом в храме – он был одет так же – в чёрную рубашку с серебряной ниткой, чёрные брюки. Он тоже меня узнал – ещё бы, четыре часа рядом простоять!.. Но мы не поздоровались – неудобно как-то… А на следующий день я встретила на улице пожилого мужчину. Он вёл велосипед. Мужчина в храме со знанием дела подавал передо мной записки и тоже простоял всю службу. Я хотела сказать ему: «С праздником!» (Так светло и празднично было у меня в тот день на душе!) Но удержалась. С трудом, правда.
Странно, стоишь, служба длинная, устаешь (а как же старушки? они-то основные молельщицы!), чувствуешь свою греховность, ничтожность, ну и вообще, если большая часть жизни прошла наперекосяк, что, ликовать что ли, будешь?! И вдруг на следующий день – так светло, тихо, радостно, спокойно на сердце! Всё отходит в сторону. Далеко-далеко…
«Они сошлись вьюжной, серебристой, многоснежной зимой…» Так я иногда думаю о нас – в третьем лице. Брак без общих детей, соединённый лишь некой общностью интересов, духовных склонностей, всегда казался моей маме греховным, ненормальным. Так между нами пошла трещина. И сейчас я хожу, думаю об этом. Горький запах тополей. Дымно.
К себе и от себя. Эти мои бесконечные, мучительные колебания. Стоит мне оказаться одной, вырваться из притяжения твоей любви, как мне начинает казаться – мама права, права… Мы неправильно, искривлено живём, а когда пытаемся быть «как все», получается ещё жальче, ещё ненормальней. Часто я представляю ещё одну свою не нарисованную работу – «Огонь». В жарком и веселом костре любви быстро сгорят наши жизни. Ярко, красиво и бесплодно. До головёшек.
Но стоит нам приблизиться друг к другу, как всё благоразумное и здравое забывается. И мы летим… В пропасть? В горние выси?
В парке установлен простой, но весьма основательный памятник Акиму Мальцеву – купцу, который и положил начало городу. Это был благообразно-осанистый сосредоточенный мужчина лет 45, в сапогах, поддевке, с шейным платком, с кудрявящейся бородой, с волосами, расчесанными на средний пробор. В руках он держал царскую грамотку, разрешающую ему закладывать город. И надо сказать, устроил он тут всё с толком, компактно – заводы, фабрики, школу, больницу… Всё рядом.
На вокзале у киоска женщина хвалилась и в то же время нецензурно ругала своего сына, который, отучившись на фельдшера, собрался поступать дальше, в мединститут. «Ой-ой!» – поддакивала киоскерша.
На чайнике («в больницу удобно») было написано: Орел, улица Транспортная, дом 20.
– Китайский? – спросила я.
– А какой же, – вздохнула полнотелая продавщица.
– А написано – Орёл, – с надеждой заметила я.
– Ой, ну мы-то знаем, что продаём, а написать можно что угодно.
В парикмахерской в ожидании мастера я рассматривала фотографии – рядом была фотостудия. Местные красавицы (красавцев, увы, не было), снимок Жириновского на фоне строительных руин. Фото поп-знаменитостей, посещавших город. А вот и полосатый кот, который напряженно смотрит в аквариум – охотник!.. Но самое запоминающее фото – контрактник в камуфляже, в БТР или в военной машине (Чечня), мирно спит, а на руках у него маленький собачёнок, грустные умные глаза, чёрные уши… Мне подумалось: зачем же тогда искусство, если простая фотография может сказать больше, чем самая думанная-надуманная картина?!
Зашла в магазин «Товары для дома», в центре стоял лоток с разноцветными бельевыми веревками (ещё всё было хорошо!). И вдруг мелькнула мысль – трезво-унылая, деловито-отчаянная: «Удавиться, что ли?»
Жизнь наполнена таким страданием (и моим личным – тоже), которое я никогда не отважусь описать. В жизни, конечно, и счастье было, и красота. Но если бы мне сейчас сказали: хочешь прожить ещё одну жизнь? (Подразумевается, что более счастливую). Я бы отказалась. Есть, конечно, люди и несчастней меня. Но страдания в моей жизни было много, очень много.
Но кто из окружающих меня, близких мне людей, не страдает? Кто счастлив? Кто не устал безмерно от жизни? Не могу вспомнить.
Потом я бежала, побросав кое-как вещи за пять минут в сумку (как ни странно, ничего не забыла), бежала из этого города, и таксист уловил мою каменную тревогу, жал на газ, а озеро было в тумане, в белой дымке, зеркально-чистое, в сумерках холодного вечера, и я против воли запоминала этот равнодушный и красивый вечер.
Потом мы ехали в тёмном автобусе по тёмному, невысокому страшному лесу, дорога была извилистая, петлистая, всё время возникали крутые повороты, на указателях в свете мятущихся фар всплывали названия селений, все они были зловещими, недобрыми: Кощеево, Мухреево, Веригино, Дом Инвалидов… Сердце моё набухало, билось болезненными толчками, а то вдруг семенило, убыстрялось, как испорченные механические часы перед тем, как им совсем встать… «Удавиться, что ли…» Недолговечность счастья – вот что самое обидное было во всей этой истории, и я думала: зачем жить?! Ну, проживу я ещё год, пять или десять, и всё будет одно и то же: бесконечная пустыня страдания с крошечными островками радости… И чем больше будет страдания, тем в меньших мелочах я буду искать счастье. Неужто для этого мне надо было родиться на свет?!
Во Владимире (город встретил белыми соборами, воздушно светившими в этой кромешной ночи) мы остановились у магазина «Ритуальные услуги» (почему бы уж сразу не у морга, – думала я, беззвучно плача).
Когда я приехала домой, когда случайно посмотрела на себя в зеркало в прихожей, я удивилась, увидев там своё лицо – измученное, жалко-похудевшее, с запавшими глазами. «Жертва насилия».
…Моя мама выздоровела и жила ещё долго и счастливо. Это была моя мечта-грёза, пока я ехала в тёмном автобусе по тёмному, невысокому страшному лесу. Но всё оказалось определённей и хуже – инсульт, похороны, поминки. Я думаю, что умирать не страшно, если ты правильно прожил жизнь. Но кто мне теперь скажет: правильно ли я живу?! Сердце кажется утыканным иголками, и оно болезненно и медленно трепещет в груди.
Я шла, это было дождливое тёплое утро, сентябрь, первые листья на тротуаре, и осенние цветы у торговок в целлофановых плащах – эта пестрота цвета, много оранжевого, подмосковные георгины (я люблю именно георгины, потому что розы или привозные хризантемы есть всегда, а наши георгины – только ранней осенью, до заморозков). Я шла, а душа моя ужасалась – неужели и эта, немногая радость – я шла к тебе – будет у меня когда-нибудь отнята, и круг страдания будет сжиматься, душить моё сердце, пока не померкнет свет, и кто-то Великий скажет мне, наконец, зачем он меня так мучил, зачем всё это… зачем…
Наследник
Мы ждали междугороднего автобуса, а он никак не мог двинуться в путь – ноги водителей (одна пара в кроссовках, другая – в коричневых туфлях из кожзаменителя) торчали из-под старого красного «Икаруса», рядом валялись мазутные запчасти. Видно, поломка была серьёзной – время от времени ноги судорожно дёргались, а из-под чрева машины то и дело доносились расстроенные голоса ремонтников.
И тут подкатила роскошная серебристая иномарка. «Есть кто на Липецк?» – водитель не жадничал, брал на двадцатку дешевле автобусной цены, и пассажиры сразу нашлись: молодой парень в красной бейсболке, высокий хмурый мужчина средних лет, щедро раскрашенный наколками, и я – в Липецке мне нужно было успеть к поезду. «Сейчас я маму высажу, возле музыкальной школы, и комфортно разместимся», – разъяснял хозяин машины, открывая для нас задние двери. На переднем сиденье я увидела бабушку – типичную сельскую старушку, в платочке в повязочку, с изработанным крестьянским лицом.
Машина мягко взяла с места, я в последний раз махнула своей родне (моих попутчиков никто не провожал), а вскоре мы распрощались и со старушкой – заботливый сын высадил её на автобусной остановке, видимо, ближайшей к дому, пообещал через день приехать, но, несмотря на столь скорое свидание, он, после некоторой заминки, вышел из машины, бережно обнял мать и поцеловал её в высушенное лицо. Парень в красной бейсболке сел рядом с водителем, мы с «зэком» (так я называла про себя угрюмого малого в наколках), царствовали сзади – вот уж, действительно, всё для блага человека – машина была просторной, сиденья удобными, мягкими, и вскоре осенние светлые пейзажи стали сменяться за окном.
– Вы не переживайте, через два часа будем на месте, – объяснял хозяин иномарки (я видела только его рыжеватый затылок-ежик), – мне, знаете ли, в детский сад на родительское собрание надо к пяти успеть. Я, пожалуй, пристегнусь, – он перекинул через плечо ремень безопасности, – не потому, что боюсь, а просто так удобней – машина скоростная, и когда «впривязку», лучше её чувствуешь, ну, вроде как сливаешься. Да и в случае чего… У меня один знакомый въезжал в поселок, а там малыш выскочил на дорогу вслед за мячиком. КамАЗ рядом шел – прямо на мальчишку. Приятель мой только-только «Мерседес» себе купил. Ну, он свою машину – под КамАЗ. Говорил потом: мне «Мерседес» и не жалко совсем, главное, парнишка живой остался!
Парень в бейсболке ему поддакнул и тоже пристегнулся. Он оказался водителем-дальнобойщиком и они сразу же стали разговаривать о машинах: какие нынче цены да где лучше купить, почему иномарки надежнее наших и как гаишники зарабатывают деньги на дорогах. «Зэк» в мужском разговоре не участвовал, сосредоточенно и угрюмо смотрел водителю в затылок. Возможно, этому способствовало музыкальное сопровождение: чтобы пассажиры не скучали, хозяин поставил для нас блатные песни – о нелегкой тюремной доле, тоске, «сроке», о возвращении домой, верных дружках в лагере, о незавидной судьбе возлюбленной-изменщицы, подруге-финке и проч. Репертуар, кажется, не вполне нравился моему соседу – желваки у него то и дело ходили по щеке. Казалось, будь его воля, он бы достал из своей спортивной сумки монтировку и с удовольствием опустил её на голову своего социального антагониста. Был «зэк» примерно одного возраста с хозяином серебряного чуда, был, даже, наверное, сильнее физически и выше ростом, был не дурак (глаза – умные, голодные, настороженные), но вот – один летит по жизни в иномарке, другой – рисует уголовную романтику на руках… Впрочем, водитель не хвастался машиной – так, гордился чуть-чуть, и блатные песни у него были умеренные – без мата.
Мы летели под 140 километров в час (со своего сиденья мне был хорошо виден спидометр), сбрасывая скорость только перед милицейскими постами. Тогда казалось, что машина стоит на месте – скорость на хорошей дороге в ней не чувствовалась совершенно. Водитель, похоже, нашел в парне в красной бейсболке идеального собеседника – от обсуждения иномарок они перешли к разговору об иностранцах. Дальнобойщик кое-что повидал в жизни, и потому со знанием дела поведал о пьянстве шведов и финнов, о тупости прибалтов, об обжорстве немцев (особенно на халяву) и о страхе безработицы в западном мире. Хозяин иномарки поделился собственными впечатлениями – о Японии и японцах: что они едят, пьют и как это влияет на их мужские способности («Прошу прощения у дамы за такие подробности», – добродушно повернул он ко мне голову, на секунду оторвавшись от дороги). Было также рассказано, как японцы моются в бочке с трухой («это у них такая баня») и какая там скученная жизнь, похожая на муравьиное мельтешение. «Зэк» по-прежнему молчал, не пытаясь вступить в разговор, но слушал, кажется, внимательно – взгляд у него был тяжелый-тяжелый.
Тут у хозяина сработал мобильный телефон. «Еду-еду, – отвечал он. – Да, на собрание. Трех попутчиков взял. Картошку не купил, договорился на завтра», – на этом разговор и закончился.
«Мишка мой, – с гордостью пояснил он нам, – очень картошку любит. Воспитательница в детском саду говорит: он у вас ест только картошку и мясо. Мужик! Я вот хочу ведер 30 купить – на зиму хватит». Словоохотливый водитель рассказал нам, что убедил жену бросить школу (чего там сидеть за копейки!), что он ее устроил библиотекарем в санаторий – и зарплата пять тысяч, и работа не пыльная. Кроме машины он купил этим летом участок земли («Дон рядом, значит, часть берега – моя! На лодке можно кататься, купаться…»). И вообще, жизнь вроде идет неплохо, «была бы голова, деньги всегда можно заработать!..» При этих словах скептически-презрительная улыбка тронула губы моего многомудрого соседа.
Мы уже подъезжали к Липецку, когда вдруг попали в пробку. Водитель замолчал, и видно было, что он нервничает, поглядывает на часы – время детсадовского собрания неумолимо приближалось. Но вот в пригороде вышел парень в бейсболке, ещё через квартал попросил «тормознуть» мрачный «зэк». («Бывай, шеф, – снисходительно сказал он водителю, расплачиваясь новенькими купюрами, – береги тачку!»). Стрелки часов показывали без пяти пять.
– Далеко ли ваш детский сад? – спросила я, чувствуя напряжение хозяина машины.
Оказалось, что рядом, на соседней улице.
– Пожалуй, я могу подождать вас в машине, пока вы сходите на собрание. Время до поезда у меня есть.
– Правда? – он сразу оживился. И поспешно, виновато добавил: – Вы уж извините, что так вышло. Просто первое собрание, надо обязательно быть!
Мы заехали во дворы, припарковались рядом со старенькими «Жигулями».
– Я быстро! – заверил меня хозяин, и рысью рванул в облупленные двери невзрачного двухэтажного здания.
Яркое солнце зацепилось за шиферную крышу детского сада – лето доживало свои последние дни. А когда-то и жизнь подарит нам свои последние лучи, – расфилософствовалась я. Мимо прошли два парня с открытыми бутылками пива, женщина складывала в просторную корзину высохшее бельё… Странно было думать, что в нынешней несправедливо устроенной жизни (а когда она была справедливой?!), есть свои честно-счастливые люди, как вот этот оборотистый мужик.
Из старого, если не сказать древнего, здания детского сада то и дело выходили женщины, ведя за руку мальчика или девочку. Все детишки были в очках, и я уже догадывалась, что у Мишки, наверное, тоже нелады со зрением. Впечатления хлопотного дня, дорога, долгое ожидание (уже прошло, наверное, не меньше часа), наконец, сморили меня, и я уже стала задремывать, когда вдруг услышала наигранно-бодрый голос хозяина машины: «А вот и мы!»
…И когда я увидела этого худенького, рыженького, маленького мальчика в очках, испуганного, не смеющего поднять глаз, острая волна жалости подкатила у меня к горлу.
«Привет!» – сказала я ему, стараясь не показать своего волнения. «Привет», – робко, едва слышно вымолвил он, и больше не проронил не слова, забившись в уголок роскошной машины.
«Миш, мы сейчас тётю отвезем на вокзал, и домой», – почему-то виновато, будто оправдываясь перед мальчиком, сказал отец.
Мы выехали на оживлённую улицу, медленно стали двигаться среди машин. «Видите, – смущенно пояснил хозяин, – у Мишки со зрением проблемы. Но ничего, это специальный детский сад (знаете, скольких трудов мне стоило его сюда устроить?!), так что к школе, обещают, всё можно выправить».
Мишка, тем временем, на ходу ухитрился открыть дверь.
– Осторожно! – воскликнула я.
Отец аккуратно и бережно сбавил ход, остановил машину.
– Миш, ну ты что? – ласково начал он увещевать сына. Можно же вывалиться, покалечиться! – и он заблокировал дверь.
Дальше мы двигались в напряженном молчании. Какую семейную тайну нес в себе этот слабый, застенчивый, беззащитный мальчик?! Я чувствовала, что невольно стала свидетельницей главной боли хозяина дорогой машины и владельца участка земли на берегу реки Дон.
Наконец мы подъехали к вокзалу. «До свиданья, Миша», – персонально попрощалась я с мальчиком. Он робко кивнул, потом поднял бледненькое худенькое личико.
Серебристая иномарка – чудо техники, триста лошадиных сил – лихо развернулась и вскоре скрылась из глаз. Мимо меня, гомоня и покрикивая, прошли увешанные юбками цыганки с босоногой ребятней. Дети были здоровы, чумазы, белозубы и, наверное, по-своему счастливы…
Христопевцы
Какие люди всё-таки живут в нашем краю! Гиганты мысли и действия. Взять Римму Крайневу. В советское время – бригадир звена свекловичниц, член КПСС. Призывала защищать завоевания социализма, бороться с рвачами и симулянтами. Теперь, конечно, на пенсии. Подрабатывает «читакой» – читает Псалтирь по усопшим. На церковнославянском, всё, как положено. Читает-читает, тут мобильный телефон звонит у неё в переднике. Она оторвётся, раздаст руководящие указания по хозяйству (сыну, внуку или невестке очередной – сын у неё без конца женится) и – дальше! «Се пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суета всяк человек живый…» А потом всё-таки не выдержит, Псалтирь побоку, обличит по впечатлениям от последнего разговора бестолковую невестку (и ленивые они, и грязные, и алчные) и снова – за чтение.
Вообще, Римма любит о божественном потолковать, о Царствии Небесном и проч. Особенно с людьми дикими, невоцерковлёнными, для которых эти материи – лес дремучий. Коля мой вёз её на кладбище (она и там вызвалась читать, хотя и без неё были доки, но уже не отпихнёшь, раз связались – надо терпеть); она его просвещать, он: «Да, да», – поди, и не слушал путём, и тут она, в связи с Царствием Небесным, вспомнила о своём покойном супруге. И как погнала его крупным непристойным матом! Даже Коля, человек, скажем так, бывалый, опешил. Чуть в столбик придорожный не врезался. Потому как самым корректным воспоминанием было «г… н штопаный».
Оно, если честно, и не поймешь: как в наше время правильно, по-христиански, надо жить. Я вот Колю пилила: и такой ты, и сякой (много тут можно о Коле рассказать, но не о нём речь), вон, погляди, на своего одноклассника Сеню Будкина – каждое воскресенье он в церковь идёт с женой. Благочестивого поведения человек. А мне Коля потом говорит: я, может, и сволочь последняя, но я – мать свою дома докормил, а Сеня твой идеальный – в дом престарелых сдал!
Ну да, Коля докормил! В основном-то несчастную старушку-свекровь я обихаживала. Бедная раба Божия Аглаида сама намучилась и нам прикурить дала. Трудно помирала. Хотя и пожила, опять же. За восемьдесят. Мне Лиза Дамкина внушает: «Вот мы их, старых, жалеем. А кто нас пожалеет? Думаешь, мы столько протянем?! Уже сейчас здоровья никакого». Это точно. И вот, свекровь померла, лежит на кровати, надо что-то делать, а у меня – сил никаких. Так я за последние полгода вымоталась.






