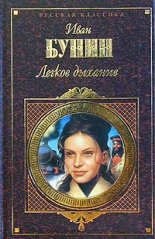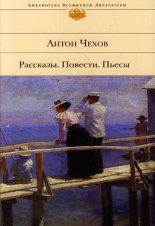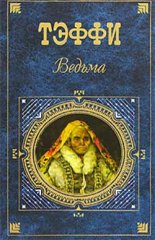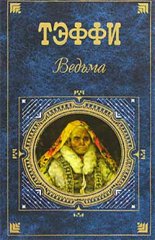Золото Мамин-Сибиряк Дмитрий

Золото холодило голый живот. Нутро остывало от жаркого натиска. Женщина, утлый бочонок, продажный сосуд. На сколько миллионов баксов потянет эта железяка?! Ее дело маленькое. Ее дело – сейчас вернуться в палатку, быстро, не мешкая, собраться, упаковать маску в чемодан, оставить Ежику записку. Так же бесшумно прокрасться в палатки Леона и Страхова, нашарить пленки – она знала, пленки отсняты и у того, и у другого, лежат в футлярах в их логовах, где-нибудь в карманах курток. Страхов, воодушевленный, хотел мотануться в Темрюк их проявить и напечатать снимки. И идти, идти скорее, бежать. Выбежать на дорогу, на пыльный шлях. Голосовать. Сесть в первую попутную машину – куда угодно. До Темрюка. До Екатеринодара. До Анапы. До города, где есть железнодорожный вокзал.
Ах, щетина, щетина. Мягкая ты моя, свинячья ты моя щетина. Бритва тебя не берет, только ножницы. Да и выгодно, экономно – лезвия не надо все время покупать.
Почему он назвался Леон? Он и сам не знал. Под американца канал. Под Запад. Длинноволосик, то ли бывший рокер, то ли тоскующий хиппарь, а может, и скинхэд, а может, и рэпер; то ли инструктор, то ли фотограф; то ли проходимец-прихлебатель, однако держится надменно, и никогда не отлынивает от дежурства по кухне. Славка Сатырос его обожает, и он, подражая ей, тоже ходит в тельняшке. Два полосатика, две штопанных обтрепанных зебры. Варят в котлах каши, мешают супы поварешками. Светлана меньше всех знала, отчего он – Леон. Леон ведь это «лев» по-латыни… или по-гречески?.. Ты не полиглот, Светлана, ты спятила от жары и работы, ты не глядишь в сторону сволочи Жермона, ты хочешь покататься на лодочке, искупаться в море вечерком. Вот он подходит к тебе, длинноволосый придурок Леон, и взгляд его рассеян, и что он от тебя хочет?.. а хочет он от тебя, чтобы ты покаталась с ним на лодке, чтобы вы сели в надувную резиновую лодку и покачались на волнах, и он смастерит удочку и вы, быть может, подергаете бычков. Он угадал твое желанье. Так как, Светлана?.. Никак, Леон. Я устала. Я не хочу на лодке. Буду лежать под кустом крыжовника, где пасутся Быча и Козя, а ты мне собирай крыжовник да скармливай, руки шипами коли.
Она все-таки пошла с ним кататься на лодке. Длинноволосик молчал, а море ее убаюкало. Она растянулась в лодке, легла на резиновое днище, потом свернулась калачиком. Она не боялась Леона. Хиппарь, спокойный, как слон, он никогда не полезет, не лапнет. Вот он сидит на носу лодки, забрасывает в море леску с грузилом. Ничего не клюет. Рыба спит. Рыба хитрая. Рыба хочет жить. Светлана погружалась в дрему, закатное солнце целовало ее веки. Князь Всеволод сказал – завтра должен бы уже прилететь Задорожный. Вот ему-то радость будет, золотая маска. И кто ее нашел?.. Ежик, славный Ежик ее нашел… Как припекает, даром что вечер… спать, как хорошо спать…
Лодку слегка покачивало на волнах. Золотое море мурлыкало Светлане колыбельную. Леон пристально смотрел на странную, длинную царапину, еще незажившую, видную из-под короткой пляжной юбки, тянущуюся от колена вверх по бедру, будто зверь провел, играя, острым когтем.
– Всеволода убили!
С перекошенным лицом Славка Сатырос бежала от края обрыва. Она делала отчаянные взмахи руками – звала за собой. Слова у нее кончились. Она мычала, ревела, как корова, показывала рукой туда, в сторону моря. Поднимался ветер, резкий ветер. Мял и трепал палатки. Если ветер поднимется еще больше, палатки сдует, унесет в море, размечет по сухой земле.
– Что, что такое, Славка?!.. что городишь ты…
– Да там он лежит! Там!.. Ночью пошел, может, покурить… а на него напали… нет, не местные это… местные не будут… это заезжие бандиты… я нюхом чую… а-а-а-а!..
Люди бежали к обрыву, не чувствуя под собой ног. Море накатывало буйный, белопенный прибой. Выбрасывало на берег комки водорослей, спутанных, как перекати-поле. Князь Всеволод лежал там, где лежал ночью, так и остался вечно спать, обессоченный любовью, – животом на земле, спиной вверх. На его голой спине переливалась темной запекшейся кровью, зияла страшная рана, нанесенная камнем. Ножом так не бьют. Кости, плоть были крепко размозжены; судя по всему, ударявший бил сколом гранита, острым булыжником, как древним рубилом. Люди поискали глазами вокруг. Окровавленный камень валялся поблизости. Убийца даже не удосужился бросить его в море.
Люди стояли около мертвого тела в смятении. «Светлана!.. Где Светлана!.. Быть может, еще можно помочь… Она же медсестра, подскажет…» Когда она склонилась над ним, она поняла – он уже похолодел, и не было ни пульса, ни дыханья. Она велела принести миску с водой, побрызгала ему в лицо. Нет, не шевелится, не дышит. Она поднялась с колен. Обвела всех невидящим взглядом.
– Не надо перевязывать рану, – прошептала она беззвучно стоявшему с бинтом и пузырьком йода в руках бледному Сереге. – Все кончено. Это смерть. Она очень простая, смерть. Каким гадам понадобилось…
Она не смогла договорить. Зажав рот рукой, побежала прочь. Все смотрели, как она бежит по обрыву, как, взмахивая руками, сбегает, скользит по сухой земляной осыпи вниз, к шумящим соленым волнам, к предгрозовому буйству широкой воды. Так, с зажатым рукой ртом, она и зарыдала, глядя высветленными глазами далеко в море. Она видела много смертей в больнице. Она хоронила бабушку, отца. Но то были тихие смерти, свои. Убийство она видела впервые.
Ему не завязали глаз. Его катили по ночной автостраде с незавязанными глазами – все равно он не знал дороги, не знал местности, а если б и знал, не узнал бы ее ночью, когда все кошки серы. Его везли в машине молча, и молчанье тюремщиков обдавало его злобой. Он понимал, с каким бы удовольствием его убрали… убили, называй вещи своими именами, Роман. Однако он был им нужен – он это тоже понимал. Им было нужно, чтобы он жил. Чтобы он что-то делал. Что? Он был тупой, он пытался догадаться, скрежеща зубами. Они отдали ему все рисунки и описанья, скопировав их. Они не отвечали на его то яростные, то ледяно-надменные вопросы, что он задавал и по-русски, и по-английски. Они будто оглохли и онемели. Ахсан, Ахат и этот фарфоровый тушканчик. Куда они везут его?.. Руку на отсеченье, в аэропорт. Его кейс при нем. Его паспорт, с билетом на самолет внутри, при нем. Билет с открытой датой.
Да, так и есть. Громадная светящаяся надпись: «ISTANBUL» – вынырнула из смоляного ночного мрака. Стамбульский аэропорт, старик, поздравь себя. Они оставляют тебя живым, эти мерзавцы. Они забрасывают его в самолет, вышвыривают из Турции. Он все равно узнает, кто они. Восточные чернявые парни – так, шелупонь, шестерки, овчарки. Этот фарфоровый, восковой красавчик, так любящий играть револьвером, как младенец – погремушкой, рангом повыше. Заметно по манерам. Вспомни, Роман, видел ты его в Москве?.. Нет?.. И где?.. У него слишком запоминающееся лицо. Лицо мраморного греческого божка. Если бы такая ходячая статуя появилась в его московском окруженьи, он бы его точно запомнил.
В черном небе завис гул самолетов. Грозный небесный рык, ночное рычанье Великого Льва. Далеко разносился мелодичный, сладкий, как рахат-лукум, голос дикторши, объявляющей рейсы. Красавчик разлепил изогнутые сердечком губы, соблаговолил заговорить, поворачивая голову к Задорожному, не отрывая рук от руля.
– Аэропорт, профессор. Надеюсь, тебе у нас понравилось. Надеемся также, что и тебе понравились наши причиндалы. Ты не забудешь их?.. «Не забуду мать родную», все правильно. Если тебя станет тошнить в небесах, не забудь про пакетик. Он в сеточке на спинке переднего кресла. Вообще ничего не забудь. Пей глюкозу от склероза.
– Издеватель, – процедил Роман сквозь зубы. – Я найду тебя в Москве.
– Руки коротки, ваше-ство. Обдумай все, что ты видел и слышал. Захочешь что-нибудь сделать – сделай. Мы не будем препятствовать. Мы поощряем всяческие инициативы своих подопечных. Не вздумай подключать к поискам нас, грешных, ФСБ, угрозыск, бездарную милицию и тому подобные иерархии. Наша пирамида будет покрепче. Мы замочим тебя вместе с твоей ФСБ. Надеемся, что ты и это понимаешь. Ты ведь ученый. – Он выдохнул, как выдыхают табачный дым, – и добавил презрительно: – Ученый кот. И ходишь ты по цепи. А к дереву тебя…
Он, не снимая с руля руки, другой рукой вытащил из кармана рубахи зажигалку и пачку сигарет. Ловко вытянул сигарету зубами из пачки. Щелкнул зажигалкой. Заглотал, как уж молоко, сизый дым.
– …мы привязали.
Фарфоровый затормозил у парапета, на стоянке. Салон машины уже наполнился едким дымом. Что за дерьмо он курит, этот фанфарон. Задорожный крепче сжал в руках кейс. Они… будут сопровождать его до самой регистрационной стойки?..
– Выходи. Финиш. Игра стоила свеч.
Он вывалился на асфальт. Подхватил кейс под мышку. Драгоценные рисунки, они там, внутри. Они разрешают ему увезти их с собой в Москву. Абсурд! Проще было бы отобрать. Зачем они оставили ему материалы?.. Ну да, без фотографий никто все равно не поверит, скажут: иди гуляй, профессор Задорожный, со своими рисуночками, может, они тебе приснились, как Гойе – «Капричос».
Восточные усачи молчали в темном бензинном нутре машины. Фарфоровый осклабился. Роман стоял с кейсом под мышкой, испепеляюще глядел на него.
– Запомнишь керосиновую лампу, док?.. не правда ли, романтика?.. а Хрисулу, а?.. Сознайся, ты предлагал ей помочь тебе бежать?.. Скажи, а здорово она…
Самолеты гудели над головой. Взлеты, посадки. Люди перемещаются по лику земли. По лику многострадальной Геи.
Задорожный крикнул:
– Заткнись!
– Что орешь, профессор. Хочешь, чтобы полиция подвалила?.. Я скажу, что ты голубой, что приставал ко мне и к моим друзьям в машине, когда мы подвозили тебя до аэропорта. Я, в отличие от тебя, ученый лемур, знаю турецкий язык. Поверят мне, а не тебе. Танцуй потом на таможне. Билет у тебя с собой. В твоем паспорте. Ты уже сам сто раз поглядел. Ближайший рейс на Москву…
Он вскинул запястье к глазам. Задорожный все еще не верил, что фарфоровый отпускает его. Вот он повернется, пойдет к стеклянным дверям аэропорта, а фарфоровый возьмет да и выстрелит ему в спину. И ни люди, ни Бог уже ничего не сделают. Он пойдет, а эта сволочь выстрелит… кровавое пятно на рубахе… крики публики… Вечный, горячо аплодирующий амфитеатр, театр смерти.
– Как раз полетишь. Мы подгадали. Даже ждать тебе не придется. Привет Москве. – Фарфоровый показал еще раз ровные белые зубы. – И помни, док, осторожность и еще раз осторожность. Будь умницей. Мы следим за тобой. Береги свою драгоценную… – он похабно повел вверх губой, обнажая клык, – жизнь. Она стоит теперь много мешков баксов. Ступай, седой граф! Не кашляй!
Он сделал Роману ручкой. Роман едва удержался, чтобы не ударить его. Фарфоровый повернулся кожаной спиной, передернул плечами, полез в машину. Не торопился заводить мотор. Ждал. Он ждал, пока Роман сдвинется с места, пойдет, войдет в аэропорт. И Роман пошел. Пошел сначала медленно. Потом все быстрее, размашистее. Прижимая черный кейс к исхудалому боку, к торчащим под пиджаком, под рубахой ребрам. Ночь была жаркая, влажная. Когда он вошел в зданье аэропорта, он почувствовал, что его рубаха насквозь мокра. Никто не выстрелил ему в спину.
Они требовали датировки ценностей.
Они требовали от него точной датировки ценностей.
Они кричали ему: «Нам достаточно и сорока веков!..» Он брал в руки браслет, маску, перстень с рубином, и руки его дрожали. Он пытался им объяснить, втолковать. Он шептал: как вы не понимаете, эти вещи старше, много старше, да, я вам говорю, они старше намного, это допотопная древность, это… иная цивилизация… нужен радиоуглеродный анализ, нужны приборы… исследованья, замеры, комиссии… тогда я могу назвать точную датировку… Девятый век до новой эры?.. Десятый?.. А может… еще древнее?..
Они перемигивались. О, это будет дорого стоить. Это потянет черт знает на какую кучу долларов. Никакой Рокфеллер не купит. Пуп надорвет. Тогда эти железки, выковырянные из турецкой земли… бесценны?!..
Бесценное в мире есть. Да, есть. Да не про вашу честь. А про чью?! Про чью?!
Самолетный гул залеплял уши. Он перекатывал голову по мягкой кресельной спинке. Его и вправду тошнило. Как бы не понадобился пресловутый пакет. Он снова закрыл глаза. Уснуть, уснуть. Уснуть… это ведь – на миг – умереть…
Он судорожно разлепил веки. Внизу, в иллюминаторе, высились снеговые горы освещенных резким белым солнцем облаков. Под облаками густым сапфиром просвечивало море. Грозный, яркий Понт. Корабли плывут по нему во все концы, как плыли встарь. Моряки борются с волнами. Жены и возлюбленные ждут их на суше. Разница в том, что он глядит сейчас на море с высоты, будто он – божество, а земли все открыты, ничего неизведанного, тайного нет. Все тайны остались лишь во Времени. Время – вот неоткрытая земля. Вот новая планета. На нее высаживаются только такие безумцы, как он.
Его брови сошлись подо лбом угрюмо. Морщины глубже прорезались около рта. Его никто не ждет дома. Никто. Ни жена, ни дети, ни собака, ни кошка, ни птичка. И возлюбленной у него нет. Нет даже и гетеры. Он вспомнил запах Хрисулы, ее волос и губ, капельки розового масла на ее груди. Он спал с рабыней, и он не спас ее, не выкупил ее. Ни одного обола не осталось у него за душой. Пятьсот долларов фарфоровый с удовольствием прикарманил. Надо позвонить из Москвы бедным турецким управленцам, попросить, чтобы забрали вещи из отеля и переправили ему почтой или оказией; банковская карточка в пиджаке, револьвер…
С дипломатической почтой можно переправить любое оружье, хоть лазерное, хоть ядерное… Турецкие поросята найдут способ… Он вынужден сказать им по телефону хотя бы о гибели Кристофера Келли… а больше и ничего… не надо ничего говорить… пока надо молчать, молчать, сцепив зубы…
Море ударяло под ребро синим острым мечом света в прогалах облаков. Самолет летел ровно, не кренясь на крыло, облачные сугробы вздувались и таяли, разбегались смешными барашками. Пена. Морская пена. Прибой нахлынет и отхлынет. Биенье времени. Что ты так переживаешь, Роман, и ты умрешь. И все умрут. Прибой слижет все рисунки на песке. Так что ж ты так бьешься, что ж тянешь из моря Времени свой жалкий невод?!..
Странник долетит до Москвы. Потом – до Симферополя. Или до Екатеринодара. И – на перекладных – туда, в Тамань. Он бросил экспедицию. Это негоже. Не Бог знает что можно раскопать в Гермонассе, там раскоп старый, уже все повытащено, что можно. Но он взялся за гуж.
Гул высверливал в черепе дырочку, как в золотой, в той маске царя. Как он на него похож. Мать говорила, что одна из ее бабок была турчанка… или гречанка?.. Она забыла ее имя… Где-то в бессчетных бумагах завалялся старый дагерротип… Гул, гул… спать, спать. Им достаточно сорока веков. Ему достаточно и часа крепкого, без сновидений, сна.
– Ежик, где мать?..
– Не знаю. Уехала.
Серега Ковалев остался в лагере за старшего. Он стоял напротив Ежика и пронизывал его глазами. Как так! Уехала и сыну ни слова не сказала!
– Когда?.. Почему я ничего не знаю?.. Она же работник экспедиции…
– Я ничего не понял. Ночью. Я проснулся – вижу записку на книжках.
– Записка у тебя?..
Ежик наморщил лоб, замялся, покраснел. Веснушки залило розовой зарей.
– Нет… да… я поищу… или нет… да, точно нет… Я вспомнил. Я ее потерял. Я, когда читал, вышел из палатки, и у меня из пальцев ее вырвало и ветром унесло.
– «Ветром»! – передразнил его Серега. Русые, с проседью, буйные волосы Сереги курчавились надо лбом, как руно у барана. Он сунул в них пятерню. Сморщился. – Что маменька, что сыночек!.. Откуда только вас таких Задорожный набрал… Правда, это ведь ты золотую голову нашел, ну, извини… это ветер и виноват, значит. Что в записке-то было?
Ежик потупился. Напрягся.
– «Срочно уехала в Москву, говорила с папой по телефону, плохо с бабушкой, вернусь при первой же возможности», – процитировал мальчишка. – Вроде бы так… ну, еще там «целую, мама»…
– Н-да, – помял рукой подбородок Серега, – бабушка занемогла, это, брат, дело серьезное… Ну, она ж не может не поехать к матери, если та при смерти. Смерть настигнет внезапно и не спросит. Вон как Князя…
Серега повернулся и пошел в палатку. Ежик стоял на ветру. Его рубаха отдувалась, как парус. Сегодня он так и не поговорил с прелестной Светланочкой. Она молча работала в раскопе, мыла черепки в тазу, не поднимая глаз. Потом ушла к себе в палатку и закрылась, не вылезает. Она все плачет, оплакивает бедного Всеволода Ефимовича. Егорова похоронили тут же, рядом с раскопом, на обрыве, насыпали могилку, поставили крест из самшита – Серега срубил. Никому решили ничего не сообщать. Егоров жил один, родни у него не было никакой. Старый симферопольский археолог, экспедиционный волк. Давно работал с Задорожным, раскапывал с ним скифские курганы, мотался на Амур, к гольдам и нивхам. Он умер в работе, как актер на сцене. Да, вот горе Задорожному будет. А разбойников этих не поймают уже за хвост. Камнем пропороли спину – и ищи-свищи.
Ежик сел на сухую теплую землю, обхватил колени руками. Тихо… Лишь прибой шумит внизу, под обрывом.
И вдруг он услышал голос. Кто-то пел песню. Женщина. Далекий голос пел и плакал, потом песню разрывало надвое молчанье, потом мелодия возобновлялась, и река песни текла дальше, втекала в широкий простор моря и неба. Кто поет?.. Славка Сатырос?.. Она пела украинские песни у костра, Ежик помнил… «Ой, на горе тай женци жнуть, а по-пид горою, по-пид зеленою козаки идуть!.. Козаки идуть!..» Нет, это не Славка. Какой сильный голос! Он летит над морем. Тает в вышине… Песня обрывается, будто женщина плачет…
Ежик прошел мимо свежей могилы Князя Всеволода. Украдкой потрогал самшитовый оструганный крест. На поминках пили водку, Серега привез из рыбсовхоза целый ящик, и Ежик впервые в жизни пил водку, благо мамаши рядом не было. Он видел, как Жермон тяжело глядит на Светлану. Он заревновал. А Светлана на него не взглянула ни разу. Она выпила свой маленький граненый стакан водки, утерла губы рукой, закрыла глаза, и Ежик увидел, как по ее загорелым щекам текут светлые слезы, и ему захотелось собрать их губами. Если б он был маленькой птичкой, она бы могла взять его в руку… посадить себе на грудь…
Он вышел из-за скалы – и увидал внизу, под обрывом, на песке, Светлану. Она сидела на вымытой морем, обдутой ветрами белой, как кость, коряге и пела. Она пела, закидывая голову, посылая голос вечной синеве, забирающей в объятья всех равно – и живых, и мертвых. И голос лился и дрожал, звенел и мерцал, как звезда. Как первая звезда, взошедшая над морем над головами юноши и девушки, еще не знающих, что такое любовь, но предчувствующих, что потребует она крови и жизни.
Тряские русские поезда. Корявые, век не ремонтированные железные дороги. Грязные прокуренные вагоны. Дырявое белье – даже в фирменных составах. И теперь проводницы, если им пассажир сунет в лапу денежку, разрешают в поезде и водку пить, и все пьют, и едят вечные вареные яйца, макая их в соль, рассыпанную на газетке, и режут сало, и хрупают огурцами, и чистят вечную воблу, прихлебывая пиво, и ведут тягомотные разговоры, и разгадывают гадкие кроссворды. Дорога – пытка. Сутки, всего лишь сутки до Москвы. Ну, чуть побольше. Ну потерпи же, Ирена!
Рядом с ней попутчики резались в карты. Восточные мужички, татарского вида. Все россияне татароваты, по всем прошлась борона Чингисхана. Даже до Польши, до Литвы татары добрались. Кайтох говорил – у них в роду татары есть; там, в древности, так смешались крови, что теперь из солянки маслинку не выкинешь… Они приглашали ее поиграть с ними: что скучаешь, красавица, давай, присоединяйся!.. Она отворачивалась. Глядела в окно. Как медленно стучат колеса. Если они хватились маски, все, ей несдобровать. Ее сцапают на первой же крупной станции.
Но, о счастье, они проехали уже и Белгород, и Орел, вот уже и к Курску подъезжают, и ее никто не снял с поезда, значит, никто не обнаружил пропажу, а эти, картежники, все режутся, им все нипочем – ночь-полночь, охота пуще неволи, игра пуще дороги. Бессонные. Она засунула руку в карман плащовки – в вагоне, несмтря на дневную жару, холодало к ночи, – пощупала футляр с пленками. Ей удалось стянуть обе пленки. У Страхова и у Леона. Как крепко все же спят мужики. Баба бы давно проснулась, если бы у нее в палатке в вещах кто-то шарил. Или это она такая техничная. Фокусник Кио. Да, ей уже в цирк пора. Когда-нибудь она убьет Кайтоха. За эту жизнь. За эту собачью жизнь, которую она ведет. Слава Богу, Ежик еще ничего не знает. Но ведь узнает же он когда-то. Нет, скорей, скорей отправлять его в Англию. Пусть мальчик живет на Западе, учится спокойно. Они с Вацлавом все равно тут как на вулкане. Огненная лава сметет их в любой миг. И она к этому готова.
– Ребята, давайте ваши карты. Сдавайте. Сражусь с вами. Все равно делать нечего. И не спится. И… водки у вас нет?..
Широкоскулый татарин оживился. Мадам желает!.. Щас все будет, краля, в лучшем виде. Он полез куда-то под лежак. Вынул початую четвертушку.
– Занавесь нас простынкой, вагон-то весь на просвет, все шастают, – бросил он такому же раскосому, нагло улыбающемуся другу. – И карты сдадим, и по маленькой нальем!.. Выигравшему или как?.. Всем сразу?..
– Всем сразу, и огурчик у нас есть…
Они выпили, зажевали разрезанный на куски свежий огурец, и Ирена почувствовала, как разжалась в груди сжатая когтистая лапа, сердце отпустило. Ей показалось все не таким уж страшным. Страшно жить, да. Страшно умирать. Пока мы не умерли – давайте сразимся в картишки, выпьем дешевой водочки, согреемся, поболтаем о хорошем.
Они бросали на стол карты, хохотали, шутили, татары цапали ее за руки, как медведи, широкоскулый наливал еще по рюмочке. Мужики не знали, что с ними играет в карты и хохочет, икая от выпитой водки, что рядом с ними в плацкартном вагоне скорого поезда номер сорок один «Екатеринодар – Москва» едет, румяная, чуть пьяненькая, да она еще не старая, а вовсе даже прехорошенькая, одна из богатейших женщин мира. И что в ее сумке, под вагонной полкой, – сокровище, за которое можно, если постараться, купить сам мир – весь мир, изгаженный, уцененный, не стоящий ни гроша из широкого кармана Бога.
Поезд прибывал в Москву утром. Курский вокзал, перрон. Так, взять такси, быстро домой. Она даже не будет звонить Кайтоху. Он в офисе. Черт с ним, пусть там и сидит до вечера. Вечером он все узнает. Она заслужила отдых. Она будет спать сутки без просыпу. А потом пойдет в сауну. И будет сидеть там над жаркими булыжниками каменки до той поры, пока все в ней не прокалится сначала докрасна, потом добела, как в кузнечном горне.
Она подкатила на машине к особняку на Каширском шоссе, расплатилась с водителем. Прищурилась, глядя на дом. Да, мой дом – моя крепость. У них не дом, а просто дворец в Виндзоре, Сан-Суси, Грановитая палата. Кайтох нанял лучших архитекторов. Он расстарался для нее и Ежи. Она старается для него и для Ежи тоже. Значит, все справедливо?.. Она подхватила сумку. В этом мире в любви и в добыче каждый старается для себя.
Когда она зашла за ажурную чугунную решетку и закрыла за собой калитку, любуясь заботливо подстриженной садовниками июльской травкой, ее кто-то тронул за локоть. Она резко обернулась. Армандо Бельцони. Этот итальяшка. Сколько уже он насолил Кайтоху. Почему Вацлав не уберет его с дороги?.. Жалеет?..
– Буона сера, каро, – не слишком любезно проронила Ирена. – Ты тут меня, что ли, ждешь?.. Откуда ты знаешь, что я должна была приехать?..
Она осеклась. Моника. Ну да, Моника. Она же осталась там, в лагере. Она следила за Моникой, а Моника – за нею. Пока Кайтох вожжается с Армандо, в их бизнесе порядка не будет.
– Прости, что встречаю тебя без духового оркестра, – насмешливо сказал Бельцони по-русски, чуть коверкая слова. За ваксовыми пятнами черных солнечных очков не было видно его глаз. – Недосуг было заказать. И без торта. Зато у тебя для меня есть золотой тортик. В сумочке.
Он протянул к сумке руку в черной перчатке. Ирена крепче сжала сумку, отшатнулась.
– Убери лапы! Я привезла это Кайтоху!
– Кайтох, Кайтох, – проворчал Бельцони, постукал себя черным кожаным пальцем по губам, улыбнулся. – Всюду Кайтох. Вечный Кайтох. Он мне надоел. Но я же работаю с ним в паре, деточка. В одной упряжке. Отдать мне – все равно что отдать ему. Ты же знаешь это. Ты же умница.
В его веселом голосе она услышала: отдай сейчас же, не то я вытащу из кармана пушку, и ты ляжешь тут же, перед своим роскошным поместьем, на своей постриженной по-английски, как пудель, изумрудной травке. А потом ляжет Кайтох в своем офисе. А потом ляжет Ежи. Там, в Тамани. Вы ляжете все трое. Вы отдохнете наконец.
Он сунул руку в карман. Его улыбка превратилась в оскал.
– Бельцони, – вымолвила она пересохшими, пустыми губами, – ты дьявол.
Он протянул руку. Черная кожаная пятерня растопырилась.
– Я жду.
Она, задыхаясь, поставила сумку на гравий ухоженной дорожки.
– Прямо здесь?..
– А почему нет. Все на виду. Меньше подозрений. Жена друга передает другу собственноручно испеченный пирог со свежими вишнями. Со свежими золотыми таманскими абрикосами. Они готовятся к пирушке.
Он подмигнул ей. Она выругалась грязно.
– У тебя испортились манеры. Кстати, пирушка скоро. На днях. Из Турции доктор Касперский уже переправил все до золотой пылинки. Касперский – блеск, он всегда честно играет. Надо повысить ему оклад.
Она поняла: пирушка – большая подпольная распродажа. И они не боятся… здесь, в Москве?.. Как изменились времена. Раньше вывозили сокровища куда угодно – в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Париж… Теперь магнаты нагло собираются в Питере и Москве. Никто ничего не боится. Верней, страх дошел до отметки, где он превращается в вызов. Когда перейден болевой порог, уже нет боли, так она велика и безумна.
Ирена наклонилась к сумке. Расстегнула застежки. Откинула кожаный язык.
– Бери.
Он склонился, вытянул жадные руки.
– Этот сверток?..
Она кивнула. У нее пересохло в горле. Очень может быть, что Кайтох больше не увидит золотую царицу.
– Ты гад, Бельцони.
– Не гаже тебя. У тебя фотографии?..
– У меня пленка.
– Давай сюда.
Ирена порылась в кармане, протянула ему футляр с пленкой Страхова. У нее в кармане оставалась пленка Леона.
Вороби прыгали по подстриженной траве, чирикали, выуживали невидимых червячков. Ирена ощутила во рту горечь. Когда они резались там, в поезде, в карты, последний кон, пан или пропал, ей в конце игры выпал туз пик, и тот татарин, широкоскулый, обнажая щербатые широкие, лопатами, зубы, сказал: «Ударят тебя, краля, чугуном по башке!..» Дождалась.
Она молча повернулась, подхватила сумку, пошла в дом. Поднялась, шатаясь, по беломраморной лестнице. Все вокруг молчало, давило роскошью. Она прошла к себе в спальню. Не раздеваясь, бросилась на кровать. Застыла. Бельцони урвал самый лучший кусок с пиршественного княжьего стола. Бельцони не может без этого. Она попросит Вацлава, чтоб он Бельцони убрал. Она измучилась. Она вся трясется. Она загремит в больницу с инсультом.
Когда Кайтох вошел в спальню, она вся уже корчилась в невыносимых рыданьях. Ее выворачивало наизнанку. Она каталась по постели, кусала подушку, рвала и царапала одеяло, выгибалась, захлебывалась слезами, билась головой об стену. Кайтох ринулся к ней, схватил, крепко сжал. Она вырывалась, кричала, визжала.
– Успокойся! Успокойся, прошу тебя! Да успокойся же, Ирена!
Она билась в его руках, как рыба, вытащенная из моря.
– Я не удержала… не сумела!.. он бы… убил меня… убил… убил, я знаю…
– Кто, что?!.. прекрати, говорят тебе…
Он грубо, больно встряхнул ее. Она икнула, поперхнулась, на миг перестала рыдать и выть. Ее глаза из-за спутанных волос блестели слезными белками, бессмысленно глядели на Кайтоха. Парадный портрет отчаянья. Ну, да его жена и раньше, бывало, закатывала истерики. Но чтоб такую… по всем правилам…
– Что стряслось, Ирена?!
– Он забрал ее у меня… за… брал…
Она снова захлебнулась в рыданьях. Упала головой в подушку. Кайтох глядел, как ее спина судорожно дрожит, как ходят под рубашкой лопатки. Забрал. Кто и что у нее забрал?.. Плачет. Значит, взяли дорогое. Самое дорогое. Самое… ну да…
– Бельцони?! Маска?!
Он представил, как на этой дрожащей узкой спине под рубашкой расплывался бы не пот, а красное кровавое пятно. Бельцони прострелил бы насквозь его жену, и не охнул бы. Он убивает весело, с итальянским шармом. Того монаха, ламу, он сам убил, Кайтох теперь понял.
– Да, да, да, да… да, проклятье!..
Она завертела головой, забилась на мокрой от слез подушке. Кайтох стал холоден как лед. Глаза его сузились. Он подобрался, как волк в лесу зимой пред прыжком.
– Ты не отдала ему пленки?!
– Отдала… одни… другие – возьми… в кармане… в куртке… вот здесь…
– Ты, дура моя, не плачь… благодари Бога, что осталась жива, что этот макаронник не продырявил тебе ребра… а он мог, я знаю его… он от меня далеко не убежит с этой маской… я…
– Ты, ты!.. Всегда только ты!.. Все!.. К черту!.. Надоело!.. Катитесь вы все!.. Уеду!.. Одна уеду!.. Куда угодно!.. На Мальдивские острова!.. В Швецию!.. В Америку!.. В твою Швейцарию!.. И буду жить одна!.. Разведусь с тобой!.. Ежик выучится, он уже взрослый… Только оставьте, оставьте, оставьте меня в покое!..
– Истеричка, плюнь, разотри… Я твоего Бельцони поставлю на место… – Его щеки лихорадочно горели. – В конце июля аукцион… Он не сможет никуда вывезти маску… он не захочет… Ну да, он вывалит, сука, свои условья… а это уж мое дело, пойду я на них или не пойду… у меня, знаешь, тоже есть ведь всякие пугачки… я его напугаю, Ирена, ну не плачь… ты и так много сделала… я тебя не виню…
Она села в подушках. Ее глаза выкатились из орбит, как у безумицы.
– Я ее больше никогда не увижу! – душераздирающе крикнула она.
И он понял: она больна. Она больна тою же болезнью, что и он. Ржа наживы, рак алчности проник в нее, разросся в ней. Она уже не сможет жить без охоты за древностями, без созерцанья вожделенных сокровищ, без их продажи, без буйства бешеных денег на счетах. Она будет все время хотеть их гладить, осязать, восхищаться ими, красть их в ночной кромешной тьме, биться за них. Он научил Ирену стрелять. Почему он не научил ее спокойно улыбаться, если стреляют в тебя!
– Увидишь. Брось реветь. Я обещаю тебе это.
Он оставил ее распростертой на постели, в слезах. Спустился вниз. Повертел в руках пленку, вынутую из кармана Ирениной куртки. Срочно проявлять и печатать. Касперский привез сокровища из Анатолии. Маска. Там тоже – золотая маска. Мужская. Царская. Если золотая маска, найденная в Тамани, и золотая маска, найденная в Измире, похожи – у него в руках открытье. Он этого ждал. Он этого хотел. Идиот Бельцони! Он его сделает, как мышонка! Мышеловка – у него в руках. И он поставит такой капкан, что зарвавшийся итальяшка будет хрипеть, плакать и просить прощенья. Бессмысленные слезы Ирены. Их игра – мужская игра. Жаль только, что они не за живую бабу сражаются, а за желтые железки – не как те герои, тогда, в Трое.
С пачкой фотографий в руках он замер прямо в машине. Рядом с ним на сиденье лежал револьвер. Недавно он купил себе новую модель «беретты». Она устраивала его тем, что в ней помещалось много зарядов, можно было поливать того, кто сунется, не хуже, чем из автомата. Нет, Бельцони на него, живого, не полезет. Бельцони умный. Умный и хитрый, как змея.