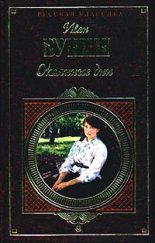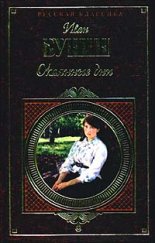Царица поцелуев Сологуб Федор

Они ссорились, как часто это бывало в последние два года. Повод к ссоре был ничтожен, и через пять минут неприятного разговора уже оба позабыли, из-за чего это началось. Муж был, как всегда, безукоризненно и отвратительно прав. Елена, по обыкновению, капризничала, и все слова ее были жалкими и неумными.
Скрынин спросил, уже не первый сегодня раз:
– Я не понимаю, чего же ты, Елена, наконец, хочешь!
Иронический взгляд, пожимание плеч вкривь, так что левое плечо становилось гораздо выше, презрительно-томный голос, – все, что уже давно почти до бешенства раздражало молодую женщину. Она судорожно уцепилась пальцами за локотники диванчика, так что они протяжно заскрипели.
С тихою злобою, едва удерживаясь от крика, Елена говорила:
– Что я хочу? О, вопрос очень умный, как все, что вы говорите.
– Не вижу никакой прелести в том, чтобы говорить глупости, – возразил Скрынин.
– По-вашему, я в этом вижу прелесть, – говорила Елена. – Ну да, я – глупая, глупая. Чего я хочу? От вас, от себя, от жизни, – чего хочу? Как же я могу это знать!
– Кто же другой за тебя это может знать? – иронически спросил Скрынин.
– Тот, кто спрашивает, – решительно отвечала Елена.
И глаза ее гневно засверкали, когда она говорила:
– Тот, кому я отдала зачем-то мою жизнь, какие-то права на меня. Даром отдала, чтобы он ничего не знал обо мне. А я что ж! Мечусь, как слепая бабочка. И что будет со мною, не знаю. Обколачиваюсь об тебя, как о каменный столб.
– Благодарю за лестное сравнение! – иронически кривя губы, сказал Скрынин. – Чрезвычайно образный способ выражения! Похожа на бабочку, нечего сказать!
Он окинул жену презрительным взором: едва одетая, растрепанная. Как вскочила с постели, кое-как набросила что-то на себя, кое-как подколола шпильками волосы, так и вышла сидеть сюда, где всякий вошедший в сад может увидеть ее. «Очень опустилась за последнее время, – думал Скрынин. – Совсем за собою не следит».
Скрынин прежде говорил об этом Елене. Теперь же он старался и не замечать всего этого беспорядка, чтобы не возникло лишних неприятностей. Доволен был уже и тем, что при гостях и в людях Елена подтягивалась.
Елена знала, что в эту минуту думает о ней муж. Презрительно и злобно смотрела на него. Он весь был в белой фланели, точь-в-точь одет, как на рисунке летнего выпуска английского журнала мужских мод.
Елена говорила:
– Не могу понять, где у меня были глаза, когда я выходила за вас замуж. Вы не живой человек, вы – ходячая и рассуждающая машина, вы – какой-то отвлеченный, надуманный кем-то интеллигент. Душно мне с вами, воздуху для моей души не хватает.
Елена засмеялась хрупким, слишком звонким смехом. Сделала над собою усилие, чтобы не смеяться, и продолжала:
– Все почему-то на память стихи приходят:
Душно в Киеве, как в скрыне.
Только киснет кровь…
И вдруг вскочила и закричала истерически:
– Вы, Николай Константинович, дождетесь того, что я вас убью, отравлю, зарежу!
И бросилась бежать в сад, порывистым толчком распахнув стеклянную дверь. Скрынин, пожимая плечьми, смотрел вслед за нею. На его желтое лицо легло кислое выражение, и от крыльев горбатого носа к углам тонкогубого рта протянулись вялые складки. Но, не давая себе времени распускаться в ненужных размышлениях, он деловито взглянул на карманные часы, позвонил, распорядился, чтобы приготовили экипаж, и пошел в свой кабинет собирать бумаги для поездки в город.
Елена добежала по хрупко-песочным дорожкам до ограды сада. С разбегу оперлась руками и грудью о невысокую изгородь. Испуганными, зоркими глазами смотрела на редкие, убывающие под солнцем радужки росинок на скошенном лугу и на деревья недалекого леса, мглисто-синеватого. Сердце билось быстро, в голове настойчиво повторялись все одни и те же самоукорные мысли:
«Зачем я это ему сказала? Надобно было молчать, в себе таить, носить мысль, как ребенка. Теперь он, пожалуй, вздумает беречься, и я ничего не смогу сделать. Да еще и Пасходин может проболтаться. Ах, зачем, зачем я ему это сказала!»
Наконец Елена решилась поправить дело, – пошла мириться с мужем. Шла тихонько, улыбаясь солнцу, радовалась левкоям благоуханным и бездыханно-ярким макам и думала:
«Достаточно сказать ему несколько ласковых слов, и он мне поверит. Себе поверит, не мне. До сих пор воображает, что неотразим, – и пусть воображает».
Скрынин уже готов был ехать в город, – в этом году у него и летом были в городе какие-то очень интересные дела, – когда в его кабинет вошла Елена. Скрынин посмотрел на нее с удивлением, – он уже приготовился к тому, что придется уехать, не повидавшись с женою.
У Елены было нежное и виноватое выражение лица, и потому она казалась теперь невинною и молодою, как до свадьбы. Скрынин обрадовался, – он не любил ссор, – и лицо его озарилось улыбкою, почти не кислою.
Елена подошла к нему близко, положила на его узкое, костлявое плечо тонкую загорелую руку, глянула прямо в его темные большие глаза с фиолетовыми подглазниками своими невинно-синими глазами и голосом рассудительного ребенка заговорила:
– Николай, не дуйся, пожалуйста.
– Но я и не дуюсь, – возразил было Скрынин.
Но Елена тотчас же перебила его:
– Пожалуйста, не спорь. Нельзя постоянно спорить. Ты знаешь, что я тебя люблю. Ты сам всегда начинаешь первый…
– Елена, это ты начинаешь.
– Пожалуйста, не спорь. Ты доводишь меня до того, что я сама не помню, что говорю. Пожалуйста, ты не вздумай, что я серьезно хочу тебя убивать.
– Да я и не думаю.
– Нет, ты скажи, неужели ты считаешь меня способною на это?
Скрынин отвечал смущенно:
– Ну что ты, Елена! Конечно, я этого не думаю. И не имею никаких оснований для этого.
– Как никаких! – возразила Елена, хмурясь. – А мои собственные слова?
– Елена, – сказал Скрынин, – ты в последнее время раздражаешься по пустякам.
– О, пустяки!
– У тебя нервы в самом ужасном и невозможном состоянии. Тебе необходимо серьезно лечиться, положительно необходимо.
Как все люди без темперамента, Скрынин наибольшую убедительность речи полагал в механическом повторении слов.
Елена опустила глаза. Лицо ее приняло упрямое выражение. Она безнадежно сказала:
– Ну что же мне лечиться! Это бесполезно. Хоть бы один ребенок у меня был. Тогда бы у меня и нервы были в порядке. Ты сам это знаешь.
Скрынин пожал плечами и заторопился уезжать. Елена опять стала нежною и ласковою и сказала:
– Не будем ссориться. Нет и нет, и не надо. Меньше забот.
Когда Скрынин сел в коляску и лошади пошли с места легкою, спорою рысью, Елена стояла у калитки в саду и темными от ненависти глазами смотрела на уносящуюся плавно в дымно-синеватом облаке пыли коляску.
Так Елена ненавидела мужа, того самого человека, в которого молодою девушкою страстно влюбилась, которого любила нежно и преданно и с которым благополучно прожила несколько лет. Причин для ненависти не было, – так думали все близкие, вся многочисленная родня его и ее. Брак был счастлив, – так думали все знакомые.
Одно разве, что детей не было. В первые годы замужества Елена и не хотела иметь детей, – это мешает выездам и светским утомительным удовольствиям. Потом ей захотелось детей, – хоть одного ребенка. Уже ей показалось, что это очень забавно и занятно, и дает в свете какую-то особенную значительность. Но дети не рождались.
Наконец, уже Елена начала думать, что Скрынин на то и рожден, чтобы стать последним в своем роде. Черты сухой душевной бесплодности все яснее для Елены обнаруживались в нем. Он казался ей похожим на смоковницу, не давшую плода вовремя и за то иссохшую.
Ревновать его Елене не приходилось. Он был одинаков со всеми знакомыми дамами и девушками. Никаких других причин к неудовольствию она тоже не могла бы назвать.
Скрынин дома был мил, нежен и корректен, в людях был со всеми вежлив, внимателен и корректен, в службе и в деловых отношениях был отлично поставлен, удачлив и корректен. Не за эту же всегдашнюю и неизменную корректность ненавидеть человека!
А между тем именно эта корректность, эта сдержанность превосходно воспитанного человека и была тем свойством, на котором сосредоточились Еленины ненавидящие чувства. Стоило ей закрыть глаза и представить себе Скрынина во всей его блистательной безукоризненности, – в его всегда безукоризненном костюме, с его безупречными манерами, с его бесспорною всегда и во всем правотою, – и тотчас ненависть начинала больно и жутко сжимать ее сердце, болью чисто телесною отзываясь в нем.
Как отчетливо научилась она представлять себе Скрынина! Белизна фланели на его летнем костюме, матовость светло-серой обуви, ровный лоск двух одинаковых полушарий гладкой прически по обе стороны диаметрального пробора, бриллиантин подкрученных кверху усов, аккуратная лопаточка черной бородки, непомерно точная гармония галстука всему прочему, лоснящийся крюк элегантной тросточки на прямоугольном сгибе локтя, – о, постылое, постылое!
Глаза бы не видели этой томности движений, этой матовости горбоносого лица, этой усталой ласковости взгляда! Уши бы не слышали этих томных, упадающих интонаций, этой легкой, вкрадчивой походки! Чтобы не быть на него похожей, хотелось делать резкие движения, румянить щеки, смотреть жестоко, говорить громко, ходить стуча каблуками, шаркая подошвами, одеваться кое-как, назло ему! Чтобы ничто в ней ему не нравилось, чтобы все раздражало, чтобы и он чувствовал эти бешеные укусы злобы. Пусть ненавидит, пусть теряет голову от ненависти, пусть убьет!
Лучше не жить! Ей или ему, – лучше не жить. И пусть другой всю жизнь радуется, что освободился, – если только после такой ненависти можно радоваться.
Такая ненависть! Убила бы, убила бы! Увидеть бы труп, сделанный ею из этого человека, – о, как забилось бы тогда ее сердце!
Мечта о смерти мужа целый год томила Елену, как мечта об избавлении от тягостного кошмара. Все сильнее день ото дня злоба давит грудь, – сбросить бы, сбросить бы эту тяжелую ношу! Так облегченно вздохнет грудь, истомленная тесными сжатиями голодной злобы!
С настойчивостью маньяка Елена целый год придумывала средства достать сильнодействующий яд. Револьвер у нее был издавна, – подарок в девические годы от одного мрачно настроенного родственника. Он всегда хранился Еленою в полной боевой готовности. Но к этому способу убийства Елена не хотела прибегать. Ей было тошно думать о том, что ее посадят на жесткую скамью подсудимых, что кто-нибудь из бывавших в их доме товарищей прокурора станет говорить о ней дерзкие слова и что мужики присяжные, вздыхая и сопя в душной неприятно пахнущей зале, будут смотреть на нее как на злую бабу, которая убила мужа из шалой ярости. Разве все эти люди могут понять то, что творится в Елениной душе!
Достать яд, – вот что стало Елениною мечтою. Она долго уговаривала знакомого милого врача, доктора Заражайского.
– Револьвер у меня уже есть, – говорила она, – а вы, доктор, дайте мне яд.
Заражайский удивлялся и спрашивал:
– Зачем это вам понадобилось, милая Елена Алексеевна? Ваш Николай Константинович ни за кем как будто не ухаживает, стало быть, разлучницы у вас нет. Кого же вы травить собираетесь?
– Это мне надо для себя, доктор, – говорила Елена, – ведь я же вам говорю, для себя.
Заражайский посмеивался, поглаживал густую черную бороду и говорил:
– Не смею этому верить, дражайшая Елена Алексеевна, – хоть убейте, не смею верить. Жизнь вам очаровательно улыбается, дом у вас – полная чаша, как говорится, муж вас на руках носит… От такой жизни, как показывает статистика, обыкновенно не травятся.
– Счастье может пройти, – говорила Елена, – я его не переживу, моего счастья. Как же мне тогда быть? Прикажете мне под трамвай броситься? Но ведь это ужасно больно!
– У вас есть револьвер, – ответил доктор, – чик! И готово.
– Но я боюсь стрелять, – возражала Елена. – Если неудачно выстрелить, это тоже будет довольно безрадостная история. Только яд верно действует.
– Ну, это зависит от дозы.
– Вы мне укажете дозу, дорогой доктор. Я вас умоляю, милый, добрый доктор, – дайте мне яду на черный день. Я спрячу его и буду хранить, и у меня будет та радость, что всегда, в любой момент, если жизнь станет для меня нестерпимою, я смогу легко и спокойно уйти из нее.
Как Бога молила усмехавшегося Заражайского, плакала горько, на коленях перед ним стояла. Наконец Заражайский согласился. В самом начале этого лета, накануне отъезда на дачу, Заражайский принес в маленьком стеклянном флакончике белый порошок.
Елена, усиливаясь казаться совершенно спокойною, рассматривала странный подарок. Пробка притерта, тонким пузырем затянута, толстою ниткою по пузырю перевязана, на этикете череп изображен и надпись «Яд» крупными буквами. Флакончик вставлен в картонный футлярчик, и на футлярчике надпись: «Хранить в сухом месте». Все очень серьезно.
Хотя они были одни, Скрынина не было дома, но все-таки Заражайский говорил тихо, озираясь боязливо по сторонам:
– Ну вот, Елена Алексеевна, принес вам опасную игрушку, взял грех на душу. Целую семью отравить можно. Смотрите, милая барынька, не подведите вы меня. Вот принес, старый дурак, а у самого душа не на месте. Вот уж истинно говорится, что женщина сильнее черта. Нет, вы не смейтесь, это так. Где черт не может соблазнить человека, туда он шлет очаровательную даму, – и дело в шляпе.
Елена слушала и становилась все тревожнее. В суетливых движениях Заражайского и в его торопливом полушепоте Елена чувствовала какое-то лукавство. Она решила в самом скором времени проверить Заражайского, – отравить его ядом дачную дворовую собаку.
Проснувшись рано утром от необыкновенного ощущения тишины и свежести за уже открытым горничною окном, Елена принялась за флакончик. Долго билась с притертою пробкою. Кое-как открыла. Взяла большую щепотку белого порошка, закатала его в хлебный шарик и, проходя мимо Полкановой будки, дала Полкану шарик. Почувствовав на своей руке влажное и горячее прикосновение Полканова языка, Елена поспешно пошла из ворот усадьбы. Долго гуляла она в парке, почти одна, – настоящий дачник, гуляющий и ухаживающий, в этот час еще спит.
Вернулась домой, заглянула к Полкану, – Полкан хоть бы что. И завтра, и послезавтра Елена ходила к нему наведываться, – здоровехонек.
Елена долго плакала от бессильной злости и от досады.
Наконец, уже в середине лета Елене удалось добыть то, что ей так долго мечталось.
На одной из соседних дач одиноко жил молодой, но уже унылый пессимист. Он был литератор, считал себя гениальным и терзался тем, что люди не замечали его гениальности. Неудовлетворенное самолюбие диктовало ему не очень складные, но очень сердитые критические статьи. Разговаривая со знакомыми дамами, унылый литератор намекал недвусмысленно, что на днях лишит себя жизни.
– Я всегда имею наготове яд, – говорил он.
Милые, доверчивые дамы ахали и умоляли его остаться в живых. Эти нежные дамские уговоры были главною прелестью жизни унылого литератора.
Фамилия его была Пасходин, а в мыслях Елениных он носил длинный титул «Тоска и скука». Долго Елена не обращала на него никакого внимания. Но как-то раз, встретясь в парке, они разговорились.
Пасходин заговорил о самоубийстве. По жестким интонациям его голоса и по змеиному блеску тяжело уставленных глаз Елена догадалась, что у Пасходина есть настоящий яд. Сладострастие опасности почуяла она в словах Пасходина. Тогда она преодолела свое отвращение к унылому литератору и принялась спасать его.
Каждый день с утра начиналась та же скучная канитель уговоров.
– Вы такой молодой, такой талантливый. Жизнь ваша так нужна для общества и для искусства. Вы так красивы, так достойны любви. Наконец, я не хочу, – слышите ли? – не хочу, чтобы вы умирали. Умирать теперь, когда вся жизнь перед вами, – что за безумие! Отдайте мне ваш яд, я его выброшу.
Утром, днем, вечером. Чтобы выслушивать все эти очаровательные уговоры, Пасходин каждый день приходил к Скрыниным завтракать или обедать, играть в теннис или читать новый роман.
Сохранить свою жизнь он кое-как согласился. Но отдать яд! Долго отнекивапся Пасходин. Наконец Елена осторожно сказала:
– Если вы потеряли ваш яд, то я очень рада.
Пасходин вспыхнул. Она ему не верит! И на следующий же день он принес яд. Видно было, что его захватило желание показать яд и позабавиться более сильною степенью страха и сочувствия. Может быть, он и не хотел отдавать яд. Да Елена почти вырвала флакончик у него из рук и унесла к себе в спальню. Пасходин устремился за нею, но она перед самым его носом захлопнула дверь и задвинула задвижку. Когда через несколько минут она вышла к Пасходину, у нее было веселое, оживленное лицо.
Вот, у Елены в руках яд. Опять такой же красивый флакончик и такой же сахарно-белый порошок. Может быть, опять обман? Ну что же, испытать не трудно.
На этот раз быстрая судьба Полкана доказала действительность яда. Прислуга дивилась, кому понадобилось отравить Полкана. Несколько ночей провели тревожных, ожидая нашествия грабителей. Поторопились завести нового сторожевого пса. О Полкане потужили да и позабыли. Дольше всех память о Полкане горька была Елене.
Бедный, невинный Полкан, раб и друг преданный и верный, всю свою собачью душу влагавший в служение властям кормящим! О противные люди! Вам нельзя верить на слово, вас надобно постоянно проверять.
На другой же день Пасходин пришел к Елене и принялся клянчить. Уставя в Елену тяжелый взгляд («Точно Грушницкий», – подумала Елена), Пасходин заговорил патетическим тоном:
– Елена Алексеевна, отдайте мне мой яд! Я не хотел отдавать вам мой яд. Вы воспользовались минутою моей слабости и вырвали у меня из рук мой яд. Это недостойно интеллигентной женщины. Если бы вы были мужчиною, я бы сказал вам, что вы поступили нечестно. Отдайте мне мой яд! Я не могу жить без моего яда.
Елена сначала слушала молча, потом засмеялась, посмотрела на Пасходина прищуренными глазами и сказала: