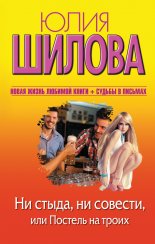Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья Коллектив авторов
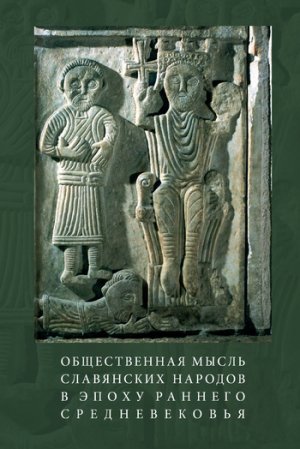
Введение
Выбор для исследования такой темы, как «Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего средневековья», требует специального обоснования. Ведь общественная мысль славянских народов в эту эпоху постоянно привлекала к себе внимание исследователей, и те немногие тексты, которые содержат материал на эту тему, также неоднократно изучались.
Причины нового обращения к теме связаны с тем, что в последние десятилетия очень изменились представления о характере славянского общества в эпоху раннего средневековья. Если ранее это общество рассматривалось как феодальное, находящееся в процессе формирования, когда уже складывались классы феодалов-землевладельцев и зависимых крестьян, то в настоящее время в науке утвердилось представление, гораздо более соответствующее всей совокупности известных фактов об обществе раннего средневековья как обществе, в котором такие процессы только начинались и занимали скромное место. Главная господствующая социальная группа такого общества – дружина – объединяла в своих рядах не феодалов-землевладельцев, а воинов, не имевших земельных владений и подданных, и все необходимое для жизни получала от правителя. Правитель, глава государства был в этом обществе не только центральной, но и главной фигурой, так как в его руках находилось распределение производившихся обществом материальных ресурсов. Но этим его роль не исчерпывалась. Власть осуществляла не только распределение этих ресурсов, но и организовывала производство многих из них. В рамках этой модели существовало тесное переплетение интересов правителя и дружины: чем сильнее была власть правителя, чем больше средств было в его распоряжении, тем лучше были условия существования дружины.
Этими чертами организация власти и общества в эпоху раннего средневековья принципиально отличалась от организации власти и общества в эпоху развитого средневековья – эпоху распространения и утверждения в славянском мире отношений, характерных для феодального общества[1].
Утверждение новых представлений об общественном строе славянских народов в эпоху раннего средневековья привело и к отказу от традиционных представлений о причинах феодальной раздробленности, причинах политического распада первых славянских государств. Если ранее в этом видели последствия быстрого развития крупного феодального землевладения, то в настоящее время политический распад связывают со стремлениями политической элиты отдельных регионов самой распоряжаться накопленными на территории этих регионов ресурсами.
Естественно, что в этой новой историографической ситуации научные работы, авторы которых искали в славянской общественной мысли раннего средневековья отражение и осмысление отношений, характерных для феодального общества, не могут быть признаны удовлетворительными.
Перемены во взглядах на характер первых славянских государств и славянского общества раннего средневековья сделали актуальной задачу выяснить, как отражались особенности, характерные черты общественного строя славянских народов этой эпохи в общественной мысли того времени, какое осмысление получал в памятниках общественной мысли сам этот своеобразный общественный строй, как воспринимался обществом переход к порядкам феодальной раздробленности.
Ответу на эти вопросы и посвящена данная работа.
С. А. Иванов
Болгарская общественная мысль эпохи раннего Средневековья
Прежде всего следует оговориться, что «общественная мысль» – это никак не общественная практика, не ткань жизни социума, но рефлексия над ней. К сожалению, в отношении Болгарии у исследователей нет сколько-нибудь крупных памятников, в которых подобная рефлексия составляла бы основное содержание. Во-вторых, мощное влияние соседней Византии и обилие переводных текстов затрудняют вычленение самостоятельного болгарского компонента. Представляется открытым вопрос о том, до какой степени нюансы болгарских переводов греческих текстов могут прочитываться как результат самостоятельного переосмысления болгарами византийских образцов. Приведем всего два примера из Супрасльского сборника: там, где в оригинале стоит ‹ 'прекраснопобедные цари", – переводчик написал «добрыя наша цари»[2]. Может ли это восприниматься как намек на то, что в окружении Симеона победоносность правителя не воспринималась как особая доблесть (ср. ниже о титуле миротворец)? А тот факт, что греческое 'синклит' передается как боляре[3], – следует ли воспринимать в качестве доказательства схожести функций? Мы пока не будем привлекать данные переводов, поскольку они допускают слишком вольную интерпретацию. Но при этом придется довольствоваться скудными, подчас косвенными сведениями.
1
Болгарское государство – самое раннее из новых государств, возникших в средние века в Центральной и Восточной Европе. Довольно необычен был и его генезис. После того, как в VII в. территория между Дунаем и Гемом (хребтом Стара Планина) оказалась в результате «варварских» набегов потеряна для Византийской империи, там осели разрозненные славянские племена, представлявшие собой протогосударственные образования[4]. В конце VII в. эта же территория была завоевана пришедшей из Северного Причерноморья кочевой ордой протоболгар. Численно значительно уступая славянам, протоболгары тем не менее подчинили их себе, поскольку имели, как все кочевники, четкую военизированную политическую организацию. Тем самым, первоначально Болгарское государство существовало как двуединый организм, с тюркской политической верхушкой, постепенно отходившей от кочевых традиций, и славянским земледельческим субстратом. Каждый из этнических компонентов этого организма первоначально поклонялся своим богам и говорил на своем языке.
Самым ранним памятником древнеболгарской политической мысли является так называемый «Именник болгарских ханов»[5], дошедший до нас по-славянски, но с огромным количеством тюркских слов. Решая, какой именно период государственного самосознания протоболгар отражен в этом памятнике, следует сразу сказать, с которой из точек зрения на его генезис мы солидаризуемся. Нам представляется невероятной гипотеза В. Бешевлиева о том, что памятник был создан на рубеже IX–X вв., в эпоху Симеона (хотя вполне вероятно, что именно в эту эпоху его перевели на славянский язык)[6]. Мы считаем также, что невозможно солидаризоваться с концепцией, наиболее последовательно отстаивавшейся И. Дуйчевым, будто памятник был сразу создан как единое произведение[7]. На наш взгляд, текст очевидным образом распадается на две половины: одна из них кончается Аспарухом, другая им же начинается. Текстовой «шов» недвусмысленно указывает на разнохарактерность двух частей.
Вполне вероятно, что изначально текст был написан, скажем, на двух соседних колоннах, на одной раньше, на другой позже, – и впоследствии скопирован с камня на пергамен. Итак, примем, что первая часть «Именника» кончается правлением Аспаруха: «И потом приде на страну Дуная Исперих князь тожде и доселе»[8]. Несомненно, оригинал был написан тюркскими рунами, а уж потом переведен на славянский; чаще всего допускают посредство греческого, однако следует заметить, что влияние греческого языка в памятнике никак не ощущается.
Если вышеизложенная гипотеза верна, тогда окажется, что первая половина Именника была записана в самом конце VII в. Что же касается второй половины, то она может быть уверенно атрибутирована периоду после хана Умора, который упоминается в тексте последним, и следовательно, отнесена к времени около 766 г.
В чем состояла цель создания Именника? В болгарской исследовательской литературе общепринятым является мнение, будто этот памятник был создан в качестве противовеса визатийской анналистической традиции[9], в которой, мол, болгарам не находилось должного места. Эта теория представляется абсолютно ошибочной. Она исходит из того, что 1) такая традиция в Византии была; 2) мнение греков о болгарах было важно самим болгарам.
Между тем, в действительности о летописании в Империи в «темные века» (до Феофана, окончившего свою «Хронографию» в начале IX в.) нам ничего не известно. Что же касается хроники Малалы или «Пасхальной хроники», то эти произведения не строились по анналистическому принципу. Кстати, и позднее анналы не получили в Византии того развития, которое они имели на Западе и на Руси. Но еще важнее тот несомненный факт, что Византия в Именнике (в отличие от болгарской «Апокрифической летописи», о которой пойдет разговор ниже) никак не присутствует!
Различные, происходящие из разных культурных и языковых сред источники более или менее единогласно сообщают нам некоторые сведения о «Великой Булгарии» и ее распаде. Многочисленные исследовательские усилия были затрачены на то, чтобы «положить на карту» неясные, подчас противоречащие друг другу известия Захарии Ритора, Анании Ширакаци, Феофана Исповедника, патриарха Никифора, Павла Диакона, Льва Диакона. Мы сейчас взглянем на этот нарратив не как на источник сведений об исторической реальности, а как на отражение собственного болгарского мифа. Те «местные» термины, которыми сопровождает, допустим, Феофан свой рассказ о протоболгарах, доказывают, что его информантами (или информантами его источника) были не какие-то имперские послы или шпионы (или по крайней мере не только они), а сами болгары, пересказывавшие собственные предания.
В изложении византийских источников болгарская генеалогическая легенда выглядит так: у хана древней Великой Булгарии было пять сыновей, отец перед смертью велел им жить вместе и не расставаться, но они не выполнили его завета и расселились по миру. Понятно, что перед нами – сказочный стереотип; «братья», о которых рассказывает Феофан, суть эпонимы племенных организмов. И в этом мифе Аспарух оказывается лишь третьим по старшинству сыном Кубрата[10]. Между тем, в Именнике никаких других «братьев» не упомянуто – у «Курта», как поименован Кубрат, есть еще только один преемник, Безмер, и после него сразу – Аспарух. Итак, если для каких-то групп протоболгар память о других коленах была актуальна, то составитель Именника отказывается от этой традиции. Для него важнее иная, мифологическая система родства: именно на нее намекает составитель, когда говорит, что предшественники Аспаруха «дръжаше княжение обону страну Дуная лет 500 и 15 остриженами главами»[11]. Бритье головы, согласно Приску и Прокопию, являлось гуннским обычаем, тогда как авары, тюрки, хазары отпускали длинные волосы[12]. Надо ли понимать слова автора как намек на то, что остальные колена потомков Кубрата изменили отеческим обычаям и переняли моду завоевателей? Это логично вписывалось бы в гипотезу о том, что целью Именника было доказать Аспарухово «первородство». Но тогда следовало бы предположить, что Аспарухово колено сохранило обычай предков брить голову. Однако, если эта манера и сохранялась у дунайских болгар, то ненадолго. Вскоре мы начинаем встречать упоминания о длинных волосах у болгар. Тут могло сказаться и влияние других кочевников, и византийское влияние – «остриженная голова» в Византии была символом унижения. В таком случае перед нами лишнее свидетельство в пользу гипотезы о двусоставности Именника: если при написании первой части «стриженая голова» еще была символом власти, то при написании второй это стало уже не так. Как бы ни расшифровывать загадочный намек насчет стрижки, ясно, что он отражает какую-то полемику по поводу государственного наследия и знаков высшей власти, которая шла в протоболгарской среде.
Вторая важная «гуннская» черта Именника – возведение ханской родословной к мифическим «Авитохолу» и «Ирнику»[13], в которых исследователи единодушно узнают гуннского вождя Аттилу и его сына Ернаха. Представляются необоснованными гипотезы о том, что возведением себя к гуннам протоболгары намекали на какие-то свои права в отношении имперских территорий. «Авитохол» Именника явно воспринимался не как гроза римлян, а как важная легенда в кочевом мире раннего средневековья. Автор памятника даже не говорит ни про Авитохола, ни про Ирника, сколько именно лет каждый из них правил, – и это единственные два таких персонажа Именника; мы лишь узнаем, сколько каждый из них «жил»: первый 300, а второй —150 лет. Эти два персонажа не являются болгарскими ханами сами по себе – они лишь дают легендарную санкцию болгарской государственности. И все же отметим, что оба этих персонажа, при всей их обобщенности, отнесены составителем Именника к «роду Дуло»: то есть родовая принадлежность в среде протоболгар воспринималась как нечто более глубокое, чем государственность. Заметим, что так же обстояло дело и у других кочевых средневековых обществ.
Только третий персонаж Именника, «Гостун» (несмотря на свое загадочное, то ли славянское, то ли иранское имя) есть, видимо, лицо историческое, причем довольно второстепенное: он является не ханом, а наместником (скорее всего, при малолетнем «Курте»), а сам при этом из другого рода – Эрми[14]. «Персонализованная» история начинается в Именнике, в сущности, весьма буднично, за каких-нибудь три поколения до Аспаруха, то есть вполне в рамках возможностей реальной исторической памяти. Все дальнейшие указываемые в Именнике сроки правления – совершенно реальны, содержание каждой «статьи» вполне стандартно, и единственное, что нарушает жесткую стереотипность, – это дополнительные краткие сведения о перемене находящегося у власти рода («статьи» о Кормисоше и Телеце). Это еще раз заставляет вспомнить, что родовой принцип был для протоболгар ничуть не менее важен, чем государственность сама по себе. Именник явно составлялся для родовой знати, продолжавшей мыслить клановыми категориями.
2
Монументальная эпиграфика всегда есть голос власти. Тем более существенно, что в разных культурах этот голос звучит так по-разному. Еще В. Бешевлиев обратил внимание на то, что надписи, оставленные протоболгарскими правителями, хоть и написаны преимущественно по-гречески, не похожи, однако, на византийские[15]. Это становится еще более наглядно теперь, когда подведены некоторые итоги изучения собственно византийской эпиграфики[16]. Как раз на период с конца VII по IX в., когда ханами было оставлено около сотни сохранившихся памятников, константинопольские василевсы не писали в камне почти ничего. Но даже те строительные надписи и эпитафии, которые появлялись в этот период в Империи, никоим образом не напоминают соответствующие протоболгарские (лишь с переходом болгарской эпиграфики на славянский язык в X в. влияние византийского образца стало ощущаться. Кроме того, оно, понятным образом, чувствуется в надписи о крещении Бориса: Бешевлиев, № 15). Происхождение ханских надписей от орхоно-енисейских рунических письмен также весьма сомнительно: во-первых, характер эпиграфики в обоих случаях совершенно различен, а во-вторых, коммуникация через посредство каменных глыб требует как минимум оседлости, и подобные традиции вряд ли могли кочевать на тысячи километров вместе с номадской ордой. Тем самым, в Болгарии мы имеем дело с абсолютно оригинальным культурным феноменом.
Публичная надпись, в отличие от книги, предназначалась всем: грамотные воспринимали в ней текст, неграмотные получали общее впечатление о государственном величии. Но как эти две целевые группы соотносились количественно в древней Болгарии? Можно ли применительно к ней говорить о грамотных как о существенном слое населения? Скорее всего, нет. Кроме того, надписи в большинстве своем делались на иностранном, греческом языке, и предположение Бешевлиева, будто греческий был общепонятен как для протоболгар, так и для славян, кажется излишне оптимистичным. Вряд ли этот язык был доступен даже тем представителям кочевой знати, имена которых фигурируют в самих надписях, – характерно, что деловые надписи выполнены на местном языке, хотя и греческими буквами (№№ 48–54). Кроме того, памятники иногда располагались так, что их и грамотному человеку было трудно разобрать. К примеру, «Мадарский всадник» – это рельеф, высеченный на высоте 23 метров. Надпись, даже если бы она не была выполнена по-гречески, прочитать снизу вряд ли представлялось возможным, а значит, перед нами идеографический памятник: на нем изображен хан, скачущий верхом, со сворой собак. Это – единственный случай «монументальной пропаганды» в древней Болгарии, да и он географически расположен так, что вряд ли его могло видеть особенно много народа. Крайне трудно вообразить, кому могла адресоваться надпись вокруг Мадарского всадника, где хан Тервель называет Юстиниана Второго «носоусекновенным царем». Такое же недоумение вызывает и памятник № 2, в котором Крум ругает Никифора Первого «плешивым стариком», и № 43, где Омуртаг жалуется, что «император выступил, забыв о клятвах». Особенно поразительна в этом отношении надпись № 14, в которой Пресиан ворчливо приговаривает: «Бог видит, если кто обманывает! Бог видит! Болгары сделали христианам много добра, а христиане забыли. Но Бог видит!». Это похоже не на победную риторику, а на бормотание себе под нос.
Весьма характерно, что в надписях хан легко переходит с третьего лица на первое, как в глаголах, так и в именах/местоимениях (№ 56, 57). Кроме того, он постоянно говорит от 1-го лица: я, мой встречается в №№ 1, 4, 13, 47, 56, 59. В публичной эпиграфике Рима или Ранней Византии подобные шифтеры не употребляются, поскольку в перспективе будущего прочтения они утрачивают смысл, и это обстоятельство лишний раз указывает, что система референции надписей не до конца отрефлектирована.
Единственный эпиграфический жанр, где греки позволяли себе первое лицо, – это эпитафия, в которой усопший как бы рассказывал про самого себя. В протоболгарской эпиграфике тоже встречается эпитафия, но она устроена наоборот: подлинный ее герой – хан, именно его имя всегда открывает текст эпитафии (№№ 59–69). Это хан рассказывает в надписи о гибели своего дружинника[17], видимо, потому, что дружина набиралась специальным образом и находилась в особых отношениях лично с ханом.
В протоболгарских надписях весьма сильна географическая референтность: встречаются камни с названиями покоренных византийских городов и мест, где одерживались победы (№№ 16–38)[18]; надпись № 46 представляет собой государственный пограничный столб, воздвигнутый Симеоном на рубеже с Византией[19]. Однако изощренная система географической референции соседствует у протоболгарских правителей с ослабленным восприятием референтности социальной: в надписях ханы смотрят на себя не глазами подданных (за исключением, быть может, узкого круга приближенных), не глазами византийцев (кроме текстов мирных договоров, №№ 41–43, 46) и, до определенной степени, даже не глазами потомков, – а лишь своими собственными глазами.
Итак, фигура хана видится в свете болгарской эпиграфики несколько оторванной от его непосредственного социального окружения. Тем не менее, хан не является единственным персонажем надписей: в них упоминаются также многочисленные вельможи, носители разнообразных (главным образом древнетюркских по происхождению) титулов[20], которые, в свою очередь, делятся на два разряда – высшую знать, «болиадов», и низшую – «багаинов».
Наряду с носителями тюркских титулов, в надписях встечаются те, кто назван 'близкими, вскормленными людьми' (ср. ниже замечания Косьмы Пресвитера). Но это сочетание хан использует исключительно в эпитафиях своим приближенным[21]. Можно предположить, что так обозначалась личная гвардия хана, которая в других источниках фигурирует как «отборные люди» [22] или просто как «некие немногочисленные», [23]. Наконец, фигурирует в эпиграфике и простой народ: во-первых, в №№ 41, 15 в качестве рядовых ополченцев, попавших в плен и размениваемых с византийцами «душа за душу» (в этом случае народ именуется неожиданным, но выразительным словосочетанием «бедный народ / войско» )[24]''. Во-вторых, в №№ 14, 57 простой народ фигурирует под именем «болгар»: так, Пресиан именуется 'многих болгар от Бога князь', а хан Омуртаг– 'повелевающий многими болгарами'. Этот титул тем более примечателен, что не имеет никаких соответствий в византийской императорской титулатуре: невероятно, чтобы василевс именовался «императором многих ромеев», ведь тогда можно было бы предположить, что имеются какие-то другие ромеи, неподвластные ему. Видимо, в титуле хана отражено исконное, еще древнетюркское представление о правителе как приумножителе подвластного населения[25]. В одной надписи сохранилось ценнейшее указание на то, как представляет себе хан собственные обязанности перед двумя группами подданных – аристократией и народом. По случаю сооружения (по всей видимости, в Плиске) фонтана хан Маламир «часто давал болгарам есть и пить, а воиладам и багаинам давал множество подарков» (№ 58). Лишь в одной надписи, обнаруживающей, по понятной причине, максимальное византийское влияние и сообщающей о крещении Болгарии, народ назван (№ 15). Здесь явно представлен «внешний», греческий взгляд на болгар как целое, как объект крещения. Такой взгляд не был частью собственно болгарского мировосприятия – он пришел вместе с христианизацией.
3
В третьей четверти VIII в. болгарская политическая структура втянулась в кризис. Он был связан и с оседанием кочевников на землю, и с возрастанием роли славян в болгарском обществе. Эти процессы имели много аспектов, о которых здесь не место говорить[26]. Отметим сейчас лишь то, что частая и насильственная, кровавая смена ханов на престоле (семеро за двадцать лет) отражала не только ослабление центральной власти, но и давнее представление аристократии о том, что хан ответствен за благополучие державы, а убийство слабого правителя может способствовать возвращению природного изобилия.
Кризис (о котором мы знаем весьма мало) привел к усилению влияния Византии во многих областях жизни Болгарии. В частности, ханы всё чаще стали оборачиваться на константинопольских василевсов в поисках образца.
Хан Тервель, от которого дошла самая ранняя болгарская печать, уже ввел в нее некоторые черты, подражающие византийским хрисовулам[27], но тем не менее она изображает хана еще вполне «по-хански», с тюрбаном на голове! Повторим, что первоначально ханы обосновывали свою власть вовсе не в соперничестве с Константинополем. Но чем дальше, тем сильнее ханские регалии носят подражательный характер и отражают не столько собственные болгарские представления о власти, сколько желание быть «не хуже» византийских василевсов. Исконно тюркский титул канас юбиги 'великий хан', зафиксированный в надписях Омуртага и Маламира, постепенно начинает уступать место заимствованным греческим: сперва 'от бога князь", засвидетельствованному применительно к Омуртагу, Маламиру, Пресиану и Симеону; а потом, при Симеоне, 'царь болгар'. Существует гипотеза, что после падения Аварского хаганата в начале IX в. болгарские правители присвоили себе также и титул хагст, запоздалым образом провозгласив свою власть преемтвенной от тюркских властителей[28]. Но даже если эта модель и использовалась в болгарской пропаганде, она не могла играть сколько-нибудь существенной роли, поскольку именно в IX в. происходит отказ от большей части кочевого, тюркского наследия в «имидже» болгарской власти. Именно в это время ориентация на византийскую модель становится доминирующей[29]. После крещения Болгарии и ее вхождения в орбиту Константинопольской церкви эта «зачарованность» греческим образцом становится навязчивой, и ее логической кульминацией стала попытка царя Симеона сделаться византийским императором. В рамках этой мечты он в конце жизни провозгласил себя «императором ромеев». Хотя греки и не могли согласиться на эту узурпацию, но самый титул василевса они за болгарским князем в конце концов признали[30]. Все это обычно подталкивает исследователей к тому, чтобы приписать болгарам все те политические представления и идеологемы, которые нам известны в Византии. В самом деле, коль скоро Симеон заказал для себя перевод «зерцала» Агапита, сочинения, в котором формулируется имперская идеология эпохи Юстиниана, то можно предположить, что болгарский царь прилагал рисуемый там образ василевса к самому себе. Но при всем том, как ни затеняет яркость греческого образца болгарскую специфику, о ней постоянно нужно помнить. Ниже мы заострим внимание именно на отличиях болгар от византийцев.
Бюрократическая Византия, опиравшаяся на государственные и общественные традиции, коренным образом отличавшиеся от тех, что сложились в Болгарии, не могла служить ей образцом в некоторых важных вопросах. Например, правила престолонаследия вырабатывались болгарами в сопротивлении византийской модели; князья настаивали на том, что, вопреки ромейскому обыкновению, имеют право на прямое родственное наследование: «сын б въ отца место бывает, и брат в брата, якоже то и при Давыде бысть… К тому же и в персехъ и в лудехъ… И в българехъ исправа роды бываютъ кънязи, сынъ въ отца место и брать въ брата место, и въ козарехъ такожде слышимъ бывающе»[31]. Иоанн Экзарх возвращается к этому вопросу еще раз в другом месте: «Въ многахъ странах бываютъ властеле по родоу и цесаре и кънязи и кралеве… по родьнуму и ужичьствьнуму чину и в рядъ»[32]. Лишь внутри правящей фамилии могли быть варианты: так, свержение Симеоном родного брата в «Сказании о железном кресте» представлено как бошвдохновленный акт: «бысть благословение Божие и Михайлове на Симеоне, и прия стол, согнав брата»[33].
Как ни велика была роль императора в жизни Византии, все же наличие государства как чего-то, существующего отдельно от него, не вызывало у ромеев сомнений: например, государственная казна могла растрачиваться василевсом бездумно и неподотчетно, но она все равно воспринималась именно как государственная казна. В Болгарии это различение не проводилось: при переводе греческих юридических памятников византийский термин для казны огщоспог всегда заменяется на князь[34].
Одной из форм репрезентации верховной власти, заимствованных болгарскими правителями у Византии, были вислые печати на документы. Любопытна археология обнаружения этих печатей. В данном случае нас занимает такой неожиданный аспект бытования моливдовулов, как их адресация. Если первый христианский правитель Болгарии Борис-Михаил действительно пользовался печатями по назначению, рассылая свои письма по всей державе (из 11 его печатей 9 найдены в разных местах), то из 18 печатей царя Петра 15 найдено в его столице Преславе. Что же касается долгого правления Симеона, то его можно условно разбить на два периода: если из 11 печатей, сохранившихся от раннего периода, в Преславе найдено лишь 4, то из 5 печатей второго периода в столице остались все до одной[35]. Забавно, что за пределами Болгарии пока что обнаружена одна-единственная болгарская печать, да и та принадлежит претенденту на болгарский трон, которого Константинополь держал у себя как запасную фигуру в политической игре.
Византийцы «приучали» болгар к одному, привычному им способу обращения с императорскими печатями – так, в Преславе найдены печати тех самых императоров, которые имели обширные дипломатические сношения с Болгарией (Льва VI, Романа I, Константина VII). Но болгары чем дальше, тем активнее присваивали моливдовулам совсем иное значение: те начинали служить скорее церемониальным целям, чем целям управления страной или дипломатических отношений. По всей видимости, властители их использовали при общении со своим ближним кругом.
Еще одна сфера, в которой князь, как можно предположить, нарушал обыкновения, навязываемые ему Византией, касалась церковных прерогатив. Конечно, василевсы ромеев и сами частенько вмешивались в религиозные проблемы Империи, но болгарские князья внесли сюда свои традиции – ведь языческий хан явно выполнял роль жреца гораздо чаще, чем император – роль священнослужителя. В отличие от Византии[36], болгары явно не усматривали здесь мучительного противоречия, князь спокойно усвоил себе право через голову церкви объявлять общегосударственный пост и коллективные молебны – против этого обыкновения протестовал римский папа в переписке с Борисом[37].
Если с аристократией князь общался тесно и постоянно, то появляться перед массой подданных, видимо, не считалось его обязанностью. Скажем, единственный вид коммуникации «чади внешней» с князем, предусмотренный Иоанном Экзархом, – это лицезрение его живописного портрета[38]. Здесь можно констатировать вопиющий контраст с византийской ситуацией, которая столь часто служила болгарам образцом для подражания: в Константинополе император регулярно появлялся перед подданными на ипподроме, во время торжественных богослужений и церемониальных выходов. Видимо, для Империи здесь проявлялся рецидив представлений о выборности императора, тогда как в Болгарии власть всегда воспринималась как наследственная. Обратим внимание и еще на один компонент представлений о взаимоотношениях князя с подданными, в котором болгары не следовали византийскому образцу: просвещение народа лично князем не считается, удивительным образом, доблестью правителя. В похвале Симеону читаем: «проливаеть акы сътъ сладъкъ из оустъ своихъ предъ боляры на въразоумие техъ мыслемь являяся имъ новый Птолемеи»[39]. А ведь современник Симеона император Лев VI лично выступал в церквах с проповедями, предназначавшимися для всего народа! Да и в наставительных текстах, создававшихся византийцами для просвещения князя, говорится об обязанности правителя «учить подданных Божьему Христову закону»[40]. Фигура князя предстает, как это ни покажется парадоксальным, даже более оторванной от массы подданных, чем фигура василевса!
4
Представление о «болгарах» как о кочевой орде в IX в. трансформировалось в общественном сознании: «болгарами» всё больше становились все подданные князя. Как же стратифицировалась эта, по-новому концептуализированная, общность? Когда князь Борис решил креститься, против него, по словам Иоанна Скилицы, выступили 'князья народа и общество'[41]. Интересно, что хронист употребил термин койнон, а не демос, охлос, этнос и прочие: в сущности, это словоупотребление весьма необычно, но восходит ли оно к каким-либо болгарским реалиям? Видимо, да: ведь этот термин встречается еще раз, среди тех церемониальных вопросов, которые положено было задавать болгарским послам при константинопольском дворе: «Как поживает духовный сын нашего святого императора, о Бога (поставленный) князь Болгарии? Как поживает от Бога княгиня? Как поживают „канарти кинос“ и „булиас таркан“, сыновья от Бога князя Болгарии и прочие его чада? Как поживают великие внутренние болиады? Как поживают прочие внутренние и внешние болиады? Как поживает весь народ ( )?»[42]. Понятно, что эта последовательность отражает представления самой болгарской верхушки о структуре болгарского общества: в ней огромную роль играют, помимо князя и княгини, старшие сыновья, выделяемые из числа прочих детей князя, затем «боляре», делящиеся на две категории (ср. выше), и опять – весь народ.
Быть может, в этот же контекст следует поставить и эпизод из жития Климента Охридского, где ученики Мефодия тяготятся общением с 'многими'[43] (ср. употребление этого слова в ханском титуле). Зато, по настоянию Бориса, Климент, Наум и Ангеларий поселяются в домах наиболее знатных приближенных князя, а до этого «им было предоставлено жилище, определенное для первейших из его друзей»[44]. Преемник Бориса Симеон, согласно тому же источнику, принял решение назначить Климента епископом Древеницы – также лишь после того, как «посоветовался с умнейшими из своих приближенных»[45]. Наличие вокруг «царя», которого следует бояться, «князей и вельмож», перед которыми «стыдятся», постулируется в «Учительном Евангелии»[46]. Греки именуют таких людей , и даже просто «болгары Симеона» – но со значением 'знать'[47].
У особого статуса боляр по сравнению с остальной массой подданных была и оборотная сторона: князь Борис писал папе Николаю, что когда против него поднялось языческое восстание, он перебил primates eorum atque majores etiam cum omne prole… mediocres vera, seu minores nihil mali pertulerint («их главарей и наиболее знатных со всем их потомством… а средние либо низшие не претерпели зла»)[48]. Неизвестно, следует ли придавать этой терминологии слишком большое значение, но безусловно то, что вину Борис высчитывает именно сообразно знатности.
Видимо, информация о болгарах, содержащаяся в византийских известиях о Болгарии, отражает взгляды не только царя и его непосредственного окружения, но иногда и других социальных групп. Например, статья «Болгары», появившаяся в энциклопедическом словаре «Суда», который был выпущен в конце X в., опирается, скорее всего, на какие-то разыскания, предпринимавшиеся в эпоху византийско-болгаской дружбы и союза в сер. X в. Построение этой статьи весьма необычно. Она явно состоит из трех отдельных статей, каждая из которых открывается словами «Да будет известно», знакомыми по трактату Константина Багрянородного «Об управлении империей». Первая сообщает, «что болгары прельстились аварским платьем и переоделись в него и до сих пор его носят»[49]. Дальше идут сведения о том, какие византийские императоры были данниками хана Тервеля, сколько золота, серебра и шелка собирал он в качестве дани, и потом неизвестный источник Суды переходит к щедрости хана: «он раздавал воинам ящики, полные золота и серебра, и правую руку наполнял золотом, а левую серебром». Наконец, третья статья составляет так называемые законы Крума, в которых не столько излагаются какие-либо исторически достоверные законы, сколько в явно сказочной форме представлены некие социальные предостережения в адрес верховной власти: «Спросил Крум аварских пленных: откуда вы поняли, что погиб правитель ваш и весь народ? И они ответили, что „умножились обвинения (людей) друг против друга, и погубили самых храбрых и разумных, а затем несправедливцы и воры сделались сопричастниками судей; а затем пьянство: когда умножилось вино, все сделались пьяницами; а затем мздоимство, а затем торговля: все стали купцами и начали обхитрять друг друга. И от всего этого произошла нам погибель". Услышав это, (Крум) собрал всех болгар и приказал им в виде закона: если кто кого обвинит, то пусть его не слушают, пока он (сам), связанный, не будет подвергнут пытке; а если будет обнаружено, что он донес и солгал, пусть будет убит. И пусть не будет позволено давать еду тому, кто крадет, а всякий, кто на это решится, пусть будет казнен. И приказал (Крум) ломать голени вору, а все виноградники вырубить. А всякому просящему не просто подавать (милостыню), а вручать (все, что необходимо ему) для самостоятельности, чтобы он в другой раз не просил, а того, кто все же будет нищенствовать, тотчас казнить».
Перед нами – утопия, по всей видимости, отражающая мнение неких высоких общественных групп Болгарии. Нам кажется, что это военные круги. Именно воинам важно было, опираясь на авторитет хана Тервеля, напомнить царю Петру, что им надлежит быть самой ценимой группой населения (в мирную эпоху середины X в. это легко могло забыться). На примере погибшего аварского государства авторы утопии жаловались, что в современной им Болгарии, вопреки заветам хана Крума, непомерно растет значение торговли, что увеличилось судебное крючкотворство и что по причине пьянства и мздоимства испортились древние суровые нравы. Заметим, что в других средневековых государствах авторами утопий об идеальном прошлом часто становились монахи (как мы увидим ниже, такова же и болгарская «Апокрифическая летопись»). Но в случае с «законами Крума» это явно не так.
Если «законы хана Крума» – плод аристократической резиньяции, то взгляд на общество клерикальных кругов Болгарии X в. представлен Косьмой Пресвитером. В его изложении, помимо царя и боляр, существуют какие-то отдельные от боляр «старейшины»: он упрекает богомилов, что те «ругаются старейшинам, укаряют боляры»[50]. Быть может, «старейшины» для Косьмы – это те, кто с высших этажей социальной иерархии видится как «багаины»? Кроме того, Косьма обвиняет еретиков еще и в том, что они «учат же своя си не повиноватися властелем своим», и можно понять так, что эти «властели» отличны от вышепоименованных. Кто это, представители местной администрации?[51] Можно лишь гадать. Вообще, болгарское общество предстает у Косьмы буквально вибрирующим от социального насилия: простой человек стремится убежать из мира, где «работы настоят владык земных, и от дружины пакость всяка и насилие от старейшин»[52], где перед ним не только вельможи «величеством сана гордящеся ни множеством богатства уродующе»[53], но даже монахи «красующеся ризами величаются ездяще на ко них»[54], «яко же и у богатых живущих в миру»[55]; мало того, «насилья же бывающая ими (монахами!) немощным». Внутри клерикальной прослойки, по признанию Косьмы, «попове грабят и ино зло в тайне творят, и несть им воспретящаго от тех делес злых, епископи же не могуще въздержатися яко же и мы, а попом не претят от греха»[56]. О том, что епископ жил в богатстве, сравнимом с богатством местного «комита», или губернатора, мы узнаем из жития Климента: Борис пожаловал святому в дар три дома в Деволе, красивых и принадлежавших роду комита. Кроме того, он подарил ему места для отдыха в Охриде и Главнице[57].
Единственный источник, который предоставляет нам хоть крупицу социальных воззрений народных низов, – это фольклорное житие Иоанна Рилского. Там описано, как царь Петр, «поя с собою множество людие и вся воя своя», пошел на свидание со святым и, повстречавшись с ним, «насыпав чашу злата и пусти к нему… И взя святой отец Иоанн чашу, а злато възврати, рекь отрокомь: идете и рцета цареви:… Мне, брате мой, ни воя ружити и никояжде купля куповатн (курсив мой. – С. И.); да възи си злато, пониже тебе есть много на потребу, а чашу удержах на памят тебе»[58]. Как видим, торговая деятельность, явно не нравившаяся военной аристократии Болгарии, не вызывает у автора жития никакого протеста. В целом же, достаточно сравнить это житие Иоанна Рилского с другим, написанным несколькими веками позднее Евфимием Тырновским, чтобы понять, как слабо в первом из этих текстов профилированы воззрения на обязательства царской власти: Евфимий, дойдя до этого же эпизода встречи святого с царем Петром, разворачивает целую политическую программу с многочисленными советами царю[59]. Ясно, что в эпоху Первого Болгарского царства стройной системы воззрений в этой сфере еще не существовало. В церковной службе тому же царю Петру (который был канонизирован в качестве святого) образ правителя отличается лишь щедростью: «и сокровища нескудно подая изливая на убогая присно, и милостиня не оскудеящя, и черноризцы любя, и служителя Божия молитв их ради» [60].
5
Болгарская «Апокрифическая летопись» (или «Сказание Исаии»), по нашему мнению, была написана в третьей четверти XI в., в ту эпоху, когда Болгария была завоевана Византией. Тем самым, формально этот памятник выходит за пределы литературы эпохи Первого Болгарского царства. Однако он все еще отражает представления только что минувшего периода. Впрочем, вычленение из этого памятника социальных представлений затруднено тем, что в нем ветхозаветный апокриф причудливо соединен с псевдоисторическим нарративом и Апокалипсисом.
Летопись создана, скорее всего, монахом, причем имевшим еретические, богомильские симпатии; он писал в период, когда болгарская государственность была утрачена, и обращался к широким слоям населения– ведь апокрифы были «массовым чтением» средневековья. Летопись, как всякий текст, претендующий на некую «базовость», на возвращение к самым глубоким основам, не может не затрагивать проблему «обоснования государственности». Неожиданным образом оказывается, что здесь, как и в Именнике болгарских ханов, автор должен выразить свое отношение к легендам о древнем единстве кочевых народов в рамках Великой Болгарии. Вкладом христианского летописца является лишь придание этому поверью провиденциальной, христианской (точнее, библейской) окраски: «Аз, Божиим повелением, приидох на левой стране Рима и отделих третью часть от кумани, и поведох их путем, тростию показуе, и доведох их… и насадих землю Карвунскую реченому българска, беше бо опустела от елинь за 130 лет. И насадих ею множьство люди от Дунав до море и поставих им царя от них, ему же бе име Слав царь. И той убо царь насели хору и градове»[61]. Как видим, изначальным куманам-болгарам не приписано никакого «государственного» существования – они лишь безликая «магма», из которой только предстоит сформироваться «настоящим» болгарам. Само рождение государственности, как и место ее рождения, имеет божественную санкцию. Пророк Исайя, подобно Моисею, выводит народ в «землю обетованную» и лишь там «ставит» для них царя, а уже тот приступает к заселению территории. «В та лета изобилие бысть от всего… И той же бысть первый царь в земли българской, и царствова лет 119 и сконча се». Говорящее имя мифического царя Слава указывает, что для летописца «куманы, рекоми българе» были в то же время славянами.
В дальнейшем Исайя уже не участвует в судьбах болгар. Следующий царь не «поставляется» им. Появление второго властителя вообще никак не объяснено: «И ту по нем (Славе. – С. И.) обрете се инъ царь въ земли болгарской, детище в краве ношен 3 лет, еже нарече се имя ему Испор царь, преемъ царство болгарское»[62]. Взаимное соотношение между Славом и Испором (очевидным Аспарухом) никак не обсуждается в Летописи: тот не является ни его потомком, ни его конкурентом – это просто еще один старт болгарской государственности. Понятно, что здесь как-то отразилось фольклорное воспоминание о приходе протоболгар Аспаруха на болгарскую территорию, к тому времени заселенную славянами. Однако нас в данный момент интересует вовсе не это: важно, что Испор не получает ни божественной санкции, ни правопреемства от Слава – он появляется чудесным образом: три года он пребывает в некоем сказочном пространстве, и в этом – его харизма. Если мы будем читать пассаж так, как он до нас дошел, то есть, что Испор был «в краве (корове!) ношен», это будет означать отсылку к каким-то древним мифам, имеющим параллели в хеттской и египетской мифологиях, к образу коровы, рождающей человека. Тогда Испор будет восприниматься как «сын плодородия», ибо именно это олицетворяет во всех мифологических системах корова. Если же принять конъектуру «крабе», то есть коробе, то это намекало бы на другой круг мифологических образов: подобное происхождение роднит Испора со многими мифологическими героями (например, Моисеем), сплавляемыми, обычно по реке, в корзинке. В обоих случаях Испор предстает как «первочеловек», и в этом отношении он столь же, хотя и по-другому, мофологичен, как и Слав, – недаром же Испору приписано сказочное долго царствование—172 года. Понятно, что для славянского автора XI в. Аспарух был таким же фольклорным персонажем, как для протоболгарского автора VII столетия Аттила. Лишь Испор завершает формирование болгарской государственности: «И по умрьтию же Испора царя болгарского нарекошеся кумане българе, а прежде беху Испора царя погани зело и безбожнии суще и в нечестии многа».
В Именнике болгарских ханов никогда ни слова не говорится о том, кем последующий хан приходился предыдущему, – там важен лишь род, к которому принадлежит хан. В Летописи же в целом проводится идея престолонаследия от отца к сыну: там говорится, что «роди Испор едино отроче и нарече име ему Изот»; «И потом пакы преем царство болгарское сын Испора царя, ему же име Изот»; «И роди Изот царь два отроче»; «и по умрьтию же Изота царя пакы преем царство болгарское сын его Борис» и т. д. Начиная с Бориса, четвертого по счету правителя, повествование приобретает черты некоторой исторической достоверности (вспомним, что в Именнике первый узнаваемый хан – Курт). Тем важнее, что первые два болгарских правителя появляются в Летописи сверхъестественным образом и не приходятся друг другу никем: первый получает квазибиблейскую, второй– откровенно языческую санкцию. Помимо всего прочего, это свидетельствует о том, что и через много веков после крещения Болгарии такие феномены, как зарождение государственности, не подверглись в народном сознании полной христианизации.
Парадоксально, но факт: в языческом памятнике, каков Именник ханов, нет упоминаний ни о божественном, ни просто о сверхъестественном происхождении государства – можно было бы ожидать упоминаний о Тангри или о каком-либо тотеме, но вся легитимация носит предельно «рациональный» характер. Автору Именника важно происхождение от древней и почитаемой фольклорной личности. В то же время в христианском памятнике, какова Летопись, языческая мифология как раз присутствует. Видимо, дело в различиях между сферами бытования обоих текстов.
Какие же достоинства признает за своими правителями автор Летописи? Самое универсальное из них – это, как ни странно, основание городов: уже Испор «сьзда гради великие», при Изоте «гради чьсти зело», Симеон «гради 8 сьзыда», Селевкия «сьзда 5 градов» и снова «да дондеже сьзда Селевкия 5 гради по земли блгарьстеи», Константин «сьзда градь рекомы Бдинъ», «и сьзда 80 градов», Никифор «сьзда Мотикь и Морунець и Серь и на западь Белградь и Костурь и на Дунаве Никополь», Гаген «сьзда 3 градове». Все остальные положительные характеристики, типа «създа монастыри», «много блага быша в людех», «благочестив», «ни жены, ни греха имее» – окказиональны и не представляются столь уж важными. Мало того, даже воинские подвиги не кажутся летописцу обязательным атрибутом правителя. Таким образом, в представлении человека, жившего, скорее всего, в монастыре, причем в эпоху несомненного упадка болгарского города, политическая культура ассоциировалась с урбанизацией. Любопытный итог эпохи, начинавшейся в кочевой ставке булгарских ханов!
Б. Н. Флоря, А. А. Турилов
Общественная мысль Древней Руси в эпоху раннего средневековья
Главным источником представлений древнерусского общества о государстве и власти является летопись, которая велась в Киево-Печерском монастыре и дошла в виде двух редакций «Повести временных лет», а также предшествовавшего ей свода 1090-х гг. («Начальный свод»), использованного в Новгородской I летописи младшего извода. В отдельных значимых аспектах летописные свидетельства существенно дополняют другие литературные памятники, созданные в это время («Слово о законе и благодати» митрополита Ил ар иона, сочинения борисоглебского цикла, жития князей Владимира и Ольги, Феодосия Печерского, «Поучение Владимира Мономаха», устные монастырские предания, составившие основу Киево-Печерского патерика, и др.). Заведомо меньше в этом смысле значение нелитературных письменных памятников (граффити, берестяные грамоты) и тем более неписьменных источников – произведений монументальной живописи и миниатюры, изображений на монетах и печатях, хотя порою их свидетельства могут быть весьма ценны.
Особенностью русского летописания рассматриваемого периода, признаваемой всеми исследователями, является его не вполне официальный и до определенной степени независимый характер. На протяжении нескольких десятилетий (вероятно, больше трети столетия) летопись велась не при дворе киевского князя или митрополичьей кафедре, а в крупнейшем столичном Печерском монастыре, поддерживавшем связи (порой весьма тесные) с представителями разных ветвей потомства Ярослава Мудрого, но при этом не находившемся под патронатом ни одной из них (это относится даже к времени максимального сближения обители с великим князем Святополком Изяславичем на заключительном этапе его правления). То же можно сказать об отношениях Киево-Печерского монастыря со столичным боярством. Обители уже на достаточно раннем этапе ее существования оказывали покровительство киевский воевода Вышата и его сын, тысяцкий Ян Вышатич; бояре были и среди монастырской братии (сын боярина Иоанна Варлаам и приближенный князя Изяслава Ефрем, принявшие постриг от игумена Никона). С большой степенью достоверности можно утверждать, что рассказы Вышаты и его сына составили основу целого ряда летописных сюжетов[63], а взгляды Яна на взаимоотношения князя и дружины – с их критической оценкой «младших» дружинников – были с явным сочувствием отражены во введении к летописи и в «некрологе» князя Всеволода Ярославича (см. ниже). Все это, однако, не дает основания рассматривать киево-печерскую летопись как прямую выразительницу интересов конкретного князя или же боярского семейства, хотя проявления определенных симпатий и антипатий в ней безусловно наблюдаются. Печерские книжники не упускали случая (при этом, в общем, не кривя душой), чтобы подчеркнуть как уникальность и независимость своей обители с одной стороны, так и свою верность идеалам ее «первых иноков», с другой. Характерны в этом смысле слова Повести о начале Печерского монастыря, вошедшей (под 1051 г.) и в ПВЛ: «мнози бо манастыри от цесарь (вар.: „князь") и от бояр и от богатьства поставлени, но не суть таци» (как обитель Антония и Феодосия), «яковии суть поставлени слезами и пощением, молитвою и бдением»[64]. Житие Федосия Печерского напоминает, что лишь Антоний принял стремящегося к монашескому подвигу юношу в свою пещеру, в других же киевских монастырях, «видевше отрока простость и ризами же худами облечена, не рачиша того прияти»[65].
К сожалению, вопрос о том, кто именно составлял летописные своды, вышедшие из Киево-Печерского монастыря, до сих пор не получил окончательного решения. Вопреки традиционному мнению, что создателем «Повести временных лет» был монах Киево-Печерского монастыря Нестор, принявший постриг в этой обители при игумене Стефане (1074–1078 гг.) и написавший затем такие сочинения, как «Чтение о Борисе и Глебе» и «Житие Феодосия Печерского», ряд исследователей выражал сомнение в том, что Нестора можно считать и создателем летописи, указывая на противоречия между свидетельствами «Чтения о Борисе и Глебе» и «Повести временных лет» об одних и тех же событиях и между сообщениями о себе автора ПВЛ и «Жития Феодосия». Открытие А. А. Шахматовым Начального свода позволило ему наметить путь к разрешению этого противоречия. Биографические признания в тексте «Повести временных лет», не соответствующие жизненному пути Нестора, оказалось возможным отнести к создателю Начального свода. Тем самым удалось выяснить, что этот летописец (имя которого остается нам неизвестным) постригся в Печерском монастыре при игумене Феодосии (до 1074 г.) в возрасте 17 лет (ПВЛ, с. 202). Как представляется, эта точка зрения была подкреплена новыми сильными аргументами, когда Ю. А. Артамонов, анализируя текст «Сказания, что ради прозвася Печерский монастырь» и рассказ о Феодосии и черноризцах печерских в статье 1074 г., выявил в них следы редакторской работы, которую можно уверенно связывать с деятельностью создателя ПВЛ – Нестора[66].
Уникальность положения Печерской обители позволила работавшим в ее стенах книжникам (и в первую очередь Нестору) создать исторический труд, возвышающийся над узко династическими и сословными интересами. Задача написания ПВЛ сформулирована летописцем уже в самом ее заглавии: «откуду есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуду Русская земля стала есть». В таком определении проявился присущий древнерусскому летописанию раннего средневековья (равно как и другим славянским историческим сочинениям этого времени) своеобразный историзм, представления о том, что существующий общественный порядок, государство и политические институты возникли сравнительно недавно, в эпоху хронологически не столь удаленную от времени жизни летописца, а их появлению предшествовало иное общественное устройство.
Главным источником, содержащим представления восточных славян о возникновении у них верховной власти и государства на протяжении всего периода средневековья, служит летописный рассказ о призвании варягов, сохранившийся в двух редакциях, первая из которых содержится в составе Новгородской I летописи младшего извода[67]и восходящих к ней сводов, а вторая – в Повести временных лет (ПВЛ, с. 74), лежащей в основе летописных сводов XII–XV вв. неновгородского происхождения. Даже в достаточно позднее время (по крайней мере, вплоть до Степенной книги, т. е. до 1560-х гг.) ситуация в этом смысле не претерпела изменений. Возникающие позднейшие варианты сюжета отличаются от сложившегося к началу XII в., как правило, лишь в деталях (да и они появляются только в текстах конца XV – начала XVI в.).
Все это показывает редкостную устойчивость и неизменность древнейшей традиции на протяжении целого ряда столетий. На ней почти не отразились перемены, связанные с изменением положения самого Древнерусского государства и правящей в нем династии Рюриковичей– феодальная раздробленность, татаро-монгольское и литовское завоевания и, наконец, создание Московского централизованного государства в условиях существования конкурирующего центра– Великого княжества Литовского.
Центральному событию начальной русской истории, каковым в глазах летописцев начиная с составителя Начального свода выступает, несомненно, призвание варягов, во вводной части ПВЛ, принадлежащей перу Нестора, предшествует ряд иных, которым здесь не придается столь существенного значения, хотя в памятниках исторической мысли других славянских (и неславянских «варварских») народов именно они могут играть роль точки отсчета и «начала истории» (см. разделы, посвященные Чехии и славяно-германским – скандинавским – параллелям). Заселение славянскими племенами территории будущего Древнерусского государства тематически продолжает здесь расселение потомков сыновей Ноя и славян с их дунайской прародины. В летописи оно выступает как освоение до тех пор пустого пространства вдоль по течению крупных рек (ПВЛ, с. 64, 70). Особо подчеркивает эту атмосферу незаселенности колонизуемых земель полное отсутствие упоминаний о военных столкновениях восточных славян с автохтонами либо стадиально более ранним иноэтничным населением и даже о самом существовании таких предшественников (там же). Отсутствие мотива обретения родины силой оружия роднит ПВЛ с другими памятниками славянской раннесредневековой исторической мысли, для которых он также не характерен (ср. другие разделы): в зафиксированной памяти потомков на раннем этапе своей истории древние славяне обычно сами страдают от воинственных соседей («волохов», авар, (прото)болгар, хазар, венгров), а не покоряют их силой. Равным образом отсутствует здесь и мотив обретения на новом месте земли обетованной. Уподобление Руси этой последней наблюдается в исторических памятниках существенно позднее.
Эта максимально удаленная от эпохи летописца и не вполне определенная во времени предыстория Руси предельно неперсонифицированна. В ней почти отсутствует упоминание общих предков, давших свои имена позднейшим племенам, определяемым в целом ряде случаев по чисто географическому признаку – месту обитания («пришедше, седоше на реце именем Мораве, и прозвашася морава…, а друзии древляне, зане седоша в лесех…, и инии нарекошася полочане, речькы ради… именем Полота…», и т. п. – ПВЛ, с. 64). Очевидно, однако, что причина этому – не позиция летописца, сознательно устраняющего из повествования следы догосударственной идеологии, о чем свидетельствует фиксация им предания о предках радимичей и вятичей– братьях Радиме и Вятко, пришедших «от Лях» (ПВЛ, с. 70). При всей краткости этих сведений они представляют огромный интерес как сохранившийся в составе летописи элемент до-государственной, племенной идеологии. Они имеют близкую параллель в преданиях о переселении на новые места других народов. Подобное известно и на славянской почве. Так, в сочинении византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей» сохранились следы аналогичного предания о переселении «сербов» из первоначального очага их обитания (где-то в Центральной Европе) на новые территории на Балканах[68]. Если у Нестора говорится, что «радимичи» и «вятичи» «прозвашася» по имени братьев – Радима и Вятко, – то и Константин Багрянородный рассказывает о «Сербе», который привел соплеменников на Балканы и по имени которого они получили свое название. Такие предания давали членам этнополитической общности до государственно го периода – племенного союза – ответ на вопрос об их происхождении, о том, как они появились на месте их нынешнего обитания, что их связывает между собой. Вождь, давший всей общности свое имя, был одновременно и общим предком ее членов, находившихся, таким образом, в кровном родстве между собой. Сопоставление позволяет сделать и еще одно наблюдение. Согласно Константину Багрянородному, «архонтами» – правителями сербов были прямые потомки этого Серба, который привел соплеменников на Балканы. Таким образом, рассказ о переселении давал в данном случае ответ и на вопрос о появлении у сербов княжеской власти. В сюжете о Радиме и Вятко подобного компонента нет, и радимичи и вятичи не упоминаются в «Повести временных лет» среди тех племенных союзов, где существовала княжеская власть (перечень их см.: ПВЛ, с. 68). Следовательно, перед нами достаточно архаический вариант преданий о переселении, отражающий представления, характерные для догосударственного периода.
В ряде исторических сочинений раннего средневековья (например, возникших на чешской почве) появление княжеской власти выступает как резкий рубеж в развитии общества. В кратком очерке жизни восточных славян в период, предшествующий образованию Древнерусского государства, во введении к «Повести временных лет» такой рубеж ничем четко не выделяется, а сам факт появления княжеской власти никак не оценивается. Здесь мы читаем: «почаша держати род их княжение в полях, а в деревлях свое, а дрьговичи свое, а словене свое в Новегороде, а другое на Полоте, иже и полочане» (ПВЛ, с. 68). За этой фразой видна достаточно длительная традиция существования таких княжеств, но никак не определены момент и механизм их возникновения. Особенно примечательно с точки зрения инославянских параллелей, что создание городов, отчетливо обозначающее в исторической традиции других народов наступление нового периода (ср., например, разделы о Болгарии и Чехии), не сопутствует, а скорее предшествует возникновению этих княжений на Руси: «Словене же седоша возле озера Илмера… и сделаша город и нарекоша и Новъгород» (ПВЛ, с. 64), «уличи, тиверци седяху по Бугу и по Днепру (вар.:.Днестру")… оли до моря, и суть городы их и до сего дне» (там же, с. 70). Таким образом, Новгород, по версии, известной летописцу (не подтверждаемой археологическими данными), был основан уже в то время, когда словене только поселились у озера Ильмень, а о существовании у уличей и тиверцев княжеской власти летописец вообще не знает.
О возникновении княжеской власти Нестор пишет определенно лишь по отношению к племенному союзу полян в Среднем Поднепровье. Согласно его сведениям, первым правителем («князем») полян был Кий, который со своими двумя братьями основал на днепровских «горах» город, назвав его своим именем. Далее повествуется о том, что онходил в Цареград, где «велику честь приял есть от цесаря» – византийского императора, и что «по сей братьи почаша держати род их княжение в полях» (ПВЛ, с. 68). Однако уже здесь летописец, характеризующий Кия как правителя полян, вынужден был полемизировать с утверждением, что Кий был «перевозником», а в более раннем Начальном своде конца XI в. сведения о том, что Кий путешествовал в Цареград и что его потомки правили полянами, отсутствуют – здесь читается лишь сообщение об основании Киева. Очевидно, что в какой-либо отчетливой, законченной форме предание о Кие летописцам не было известно. Конечно, нельзя категорически отрицать, что с именем Кия могли быть связаны какие-то предания, объясняющие появление княжеской власти у полян. Вероятно, не случайно в чешской «Легенде Кристиана» основание «града» и появление княжеской власти были тесно связаны между собой. Заслуживает внимания и то, что город был назван по имени своего основателя. Однако от этого предания в «Повести временных лет» сохранились лишь отдельные разрозненные фрагменты, в которых отсутствует главное – обоснование того, зачем понадобилось строить «град» и передавать Кию власть над полянами.
Вопрос о содержании летописного рассказа о призвании варягов даже в самое последнее время неоднократно рассматривался исследователями в интересующем нас аспекте[69]. Если оставить за рамками редакционные различия двух версий рассказа, подробно разобранные А. А. Шахматовым[70] и дополнительно проанализированные О. В. Твороговым[71] в связи с возражениями А. Г. Кузьмина[72], то суть его начальной части может быть сведена к следующему. Племена, обитавшие в Приильменье (как славянские – кривичи, словене, так и неславянские – меря и чудь), вынуждены были платить дань приходившим из-за моря варягам. Недовольные таким положением, они восстали, изгнали насильников за море, начали жить независимо и «шрады ставити» (НПЛ, с. 106). Однако вскоре между ними начались раздоры, «въста род на род» (ПВЛ, с. 74; НПЛ, с. 106: «город на город»), и они не могли договориться между собой («не беше в них правды» – там же). Чтобы найти выход из тупика, они решили пригласить в качестве верховного посредника независимую силу («князя поищем, иже бы володел нами и рядил ны по праву» (НПЛ, с. 106); «… и рядил по ряду, по праву» – ПВЛ, с. 74). В этой роли выступили варяжские вожди с дружиной – Рюрик с братьями. Таким образом, княжеская власть фигурирует в рассказе как гарант уже сложившихся правовых норм, а не как их создатель[73]. В тексте сказания последовательно проведена идея, что установить порядок в обществе, прекратить конфликты между «родами» или племенами может только стоящая над ними княжеская власть. Главные ее функции – справедливое управление и суд. Играющая столь важную роль в жизнедеятельности раннесредневековго «варварского» государства военная функция никак не отмечена и не выделена. Это позволяет думать, что перед нами предание, сложившееся на местной почве и первоначально призванное внушить населению региона идею необходимости существования княжеской власти[74]. Повествование полностью лишено каких-либо чудесных мотивов, а прибывший верховный правитель – черт не только божества или его потомка, но и признаков «культурного героя»[75]. Один из последних исследователей памятника характеризует его как «своеобразное сочетание политического рассуждения с историческим сообщением»[76], отмечая отсутствие в рассказе элементов чудесного (подразумевая, очевидно, славянскую и скандинавскую языческую мифологию), особенно заметное на фоне сходных сюжетов у других народов[77]. В то же время парадигматический характер славянской книжной культуры региона Slavia Orthodoxa в сочетании с ее ориентацией на монастырский тип византийской образованности практически исключал для древнерусского автора (в отличие от его латиноязычных западнославянских собратьев по перу – ср., к примеру, разделы, посвященные Польше и Чехии) возможность обращения к античным мифологическим аналогиям.
В кругу славянских памятников раннего средневековья древнерусское летописание занимает особое место. В основной их массе не сохранилась сколько-нибудь обширная ранняя традиция, позволяющая судить, какие взгляды были характерны для общества времени существования «варварской» государственности на дохристианском этапе ее истории. Исключение составляют предания о первых русских князьях, вошедшие в состав летописных сводов конца XI – начала XII в. В них далеко не всегда можно видеть точное изложение исторических фактов, но они несомненно отражают оценки событий и взгляды, характерные именно для этого «варварского» общества.
Разумеется, нет оснований полагать, что эти взгляды были отражены в летописании с исчерпывающей полнотой; вероятно, сюжеты, находившиеся в особенно резком противоречии с воззрениями христианского общества, в эту подборку не попали. Вместе с тем, поскольку в них шла речь о князьях-язычниках и их языческих подданных, которые не могли служить примером для христианских правителей и их подданных христиан, не возникало необходимости какой-либо тенденциозной их переработки. Сопоставление рассказов о первых русских князьях в Начальном своде конца XI в. и в «Повестивременных лет» показывает, что предания изложены в обоих памятниках с разной степенью полноты, но не различаются по содержанию[78].
Центральной фигурой этих рассказов является киевский князь, стоящий во главе Древнерусского государства. Еще до принятия христианства сложилось представление об исключительном праве членов княжеского рода на власть над «Русской землей». В рассказе о занятии Олегом Киева приводятся его слова, обращенные к правившим там Аскольду и Диру: «Вы неста князя, ни роду княжя, нъ аз есмь князь» (НПЛ, с. 107; ПВЛ, с. 76). Такой взгляд был тесно связан с представлениями раннеклассовых обществ, для которых характерна убежденность в магической связи правящего рода (и каждого из его членов) с вверенной их власти землей. Как показывают скандинавские аналогии, такой правитель был одновременно и жрецом, который, принося жертвы богам, в силу особых, присущих ему свойств, добивался плодородия и процветания земли, обеспечивал ее жителям удачу в делах. По-видимому, еще к дохристианскому времени следует возводить и хорошо известный и другим славянским обществам раннего средневековья обряд наделения очередного правителя властью путем «посажения» его «на стол» – княжеский трон. К сожалению, ни описания самого обряда, ни сведения о местонахождении такого «стола» не сохранилось. Есть основания полагать, что длительное время и после крещения Руси этот обряд никак не был связан с церковью и лишь в конце XI в. «настолование» стало производиться в христианском храме[79].
Князь выступает в преданиях о событиях IX–X вв. как полководец, глава войска, организатор походов на далекие богатые страны, приносящих обильную добычу. Таковы полные энтузиазма рассказы о походе на Царьград Олега, который наложил дань на не способных дать ему отпор греков и «приде к Киеву, неся злато и паволоки, и овощи, и вина и великое узорочье» (НПЛ, с. 109; ПВЛ, с. 84). Неутомимым воителем выступает в этих преданиях и Святослав, привычный к тяготам походной жизни, «легъко ходя, аки пардус, воины многие творяше», смелый и неустрашимый на поле боя, равнодушный к «злату и паволокам», которые приносят побежденные греки, и радующийся только хорошему оружию (НПЛ, с. 117, 121–122; ПВЛ, с. 112, 118, 120). Он тоже, получив дань и многие дары от греков, возвратился «с похвалою великою» (НПЛ, с. 123; ПВЛ, с. 120). В таких полных восторга описаниях и характеристиках отразилось представление господствующей социальной группы древнерусского общества – дружины– об идеальном князе как военном вожде, побеждающем противника и приносящем богатую добычу.
Другая важная сторона деятельности князя, как она изображена в преданиях, это его усилия, направленные на подчинение восточнославянских племен, которые должны платить дань киевскому князю и ходить в походы по его приказу[80]. В преданиях откровенно говорится о том, что эти племена были подчинены Киеву с помощью военной силы (см. в тексте, восходящем к Начальному своду: Игорь «примучи Углече, възложи на ня дань» – НПЛ, с. 109). Не случайно смена князя на киевском столе сопровождалась отпадением отдельных племен, которые снова приходилось подчинять. Само обилие таких свидетельств показывает, что сфера отношений Киева с племенами привлекала к себе повышенное внимание среды, в которой эти предания возникали. Такой порядок отношений, при котором племена под угрозой военной силы должны были платить дань Киеву, воспринимался как естественный и нормальный, а неспособность племенных ополчений дать отпор дружине киевского князя вызывала насмешливое презрение (так, сообщение о том, как воевода Владимира Волчий Хвост разбил на реке Пшцане отпавших от Киева радимичей, сопровождается язвительной поговоркой «Пищаньци волъчиа хвоста бегают» – НПЛ, с. 131; ПВЛ, с. 132). Убийство князя Игоря древлянами во время сбора дани повлекло за собой жесточайшие кары, приведшие к разрушению «центра земли» – Искоростеня, истреблению местной верхушки, обращению части населения в рабство. Подобные кары расцениваются как справедливое возмездие, а покоренные племена выступают в этих рассказах лишь как объект эксплуатации, их жизнь повествователей вовсе не интересует.
Рядом с правителем в преданиях о первых князьях выступает дружина. С нею князь советуется, принимая важные решения (Игорь по совету дружины заключает мир с греками и отправляется собирать дань с древлян; Святослав, ссылаясь на мнение дружины, отказывается принять христианство; со своими старшими дружинниками – «боярами», а затем и со всей дружиной совещается Владимир, прежде чем принять решение о крещении – НПЛ, с. 109, 110, 116, 148–149; ПВЛ, с. 104, 112, 152, 154).
Таким образом, в преданиях деятельность князя находит свое выражение прежде всего в походах на соседние страны, покорении окрестных племен и сборе с них дани, а также в совещаниях с дружиной при принятии решений. Так как и военная добыча, захваченная в походах, и собранная дань расходовались на содержание дружины, то можно сделать вывод, что эти предания сложились главным образом в дружинной среде и отражают ее взгляд на характер общественного устройства и роль княжеской власти.
Поскольку дружина была как господствующей социальной группой, так и главной военной силой и административным аппаратом нарождающегося государства[81] и иной опоры в обществе княжеская власть не имела, то стабильность общественного порядка зависела от прочности связи между князем и дружинниками. Разумеется, связь эта покоилась на устойчивых общих интересах, что было ясно и для современников. В рассказе об убийстве Игоря, предлагая князю собрать дань с древлян, дружинники, обращаясь к нему, говорят: «Поиди, княже с нами в дань, да и ты добудеши, и мы» (НПЛ, с. 110; ПВЛ, с. 104). Однако укрепление этой связи нуждалось и в идейной санкции, прославлении «верности» дружинника в противопоставлении ее вероломству. Этой цели служит один из последних рассказов о событиях языческого времени – сюжет о воеводе Блуде и дружиннике Варяжко. Блуд был воеводой киевского князя Ярополка, который предал своего господина и способствовал тому, что тот сначала утратил свой «стол», а затем был убит. Варяжко же выступает в рассказе как дружинник Ярополка, сохранивший ему верность и после смерти князя. Хотя во время записи рассказа на киевском «столе» сидел Владимир, в пользу которого действовал Блуд, вероломный воевода в нем осуждается и ему противопоставлен верный дружинник. Об этом ясно говорит последняя фраза рассказа: Варяжко нападал на Русскую землю с печенегами, мстя за смерть своего господина, и Владимир приложил большие усилия, чтобы его «привабить» (НПЛ, с. 126–127; ПВЛ, с. 126). Это лучше чем что-либо другое показывает, как высоко ценилась «верность». Характерно, что, хотя рассказ говорил о событиях, происходивших в языческие времена, и его герои были язычниками, это повествование, в отличие от других, подверглось обработке под пером христианина-летописца. Целью вставок, сделанных им в текст предания, было показать, как следует оценивать действия вероломного воеводы с новой, христианской точки зрения. «То суть неистовии, иже приемше от князя или господина своего честь и дары, ти мыслять о главе князя своего на погубление, горыпе суть бесов таковии» (ПВЛ, с. 124). Представление о том, что дружинник, принявший от князя «честь и дары», должен всегда верно служить, сложилось, конечно, еще в дохристианский период, когда возник и сам рассказ, который комментировал летописец. Книжник объясняет читателю, что и с христианской точки зрения это тягчайшее преступление – изменивший своему господину хуже, чем бес, – дьявол. Очевидно, что и с принятием древнерусским обществом христианской религии тема «верности» дружинника вовсе не утратила своей актуальности. Таким образом, главная линия в повествовании о событиях X в. связана с интересами дружины и отражает ее взгляд на мир. Особое внимание, уделяемое в этом рассказе событиям, происходившим в земле древлян, которая стала затем частью Киевской земли, позволяет предполагать вслед за А. Н. Насоновым[82], что здесь отразились прежде всего воззрения той части дружины, которая находилась с князем в Киеве и в чей круг интересов входили близкие к столице области.
Вместе с тем в повествовании о событиях X в. обнаруживаются отдельные места, которые указывают на роль в общественной жизни других групп населения, чьи оценки происходящего могли не совпадать с мнением дружины. Так, в рассказах о событиях X в. Новгород не играет никакой роли. Летописец упоминает о дани, наложенной Олегом на словен и кривичей – жителей будущей Новгородской земли, говорит об их участии в походах киевских князей на Царьград. Создается впечатление, что положение Новгорода ничем не отличалось от положения других территорий, подвластных Киеву. Однако во время княжения Святослава «людье ноугородстии» обращаются к нему с просьбой дать им князя, сопровождая ее словами: «Аще не пойдет к нам, то налезем князя собе» (НПЛ, с. 121; ПВЛ, с. 118). Так на страницах летописи возникает представление об особом, договорном характере отношений киевских князей с Новгородом: если Святослав, следуя договору, не пришлет в город князя, то новгородцы могут выбрать его сами. Соответственно, в составе древнерусского общества обнаруживается такая особая сила, как «люди новгородские», занимающие независимую позицию по отношению к дружине и князю. И допустимо полагать, что взгляды этой части общества могли расходиться со взглядами дружины. Это определенно можно утверждать в отношении другой группы населения – «киян», жителей Киева. В рассказе обе осаде города в 968 г. печенегами «кияне» выступают как активная сила, резко критикующая действия своего князя Святослава, ушедшего походом в Болгарию – «чюжея земли шцеши и блюдеши, а своея ся охабив» (НПЛ, с. 119; ПВЛ, с. 116). Здесь налицо расхождение оценок – дружина вместе с князем заинтересована в походе, приносящем богатую добычу, а жители Киева полагают, что обязанность правителя – защищать свою землю. Рассказ попал на страницы летописи, т. к. соответствовал взглядам печерских летописцев, которые, как увидим далее, многократно говорили об этой обязанности князей – потомков Рюрика. Но благодаря этому обстоятельству мы можем представить себе сознание древнерусского общества как сложное целое, где оценки одних и тех же событий в различных его кругах оказывались разными. Особого внимания в этом смысле заслуживает начальная часть рассказа о Игоре и древлянах. А. Н. Насонов справедливо отметил, что те характеристики действий и князя и дружины, которые мы здесь находим, не могут восходить к дружинному преданию[83]