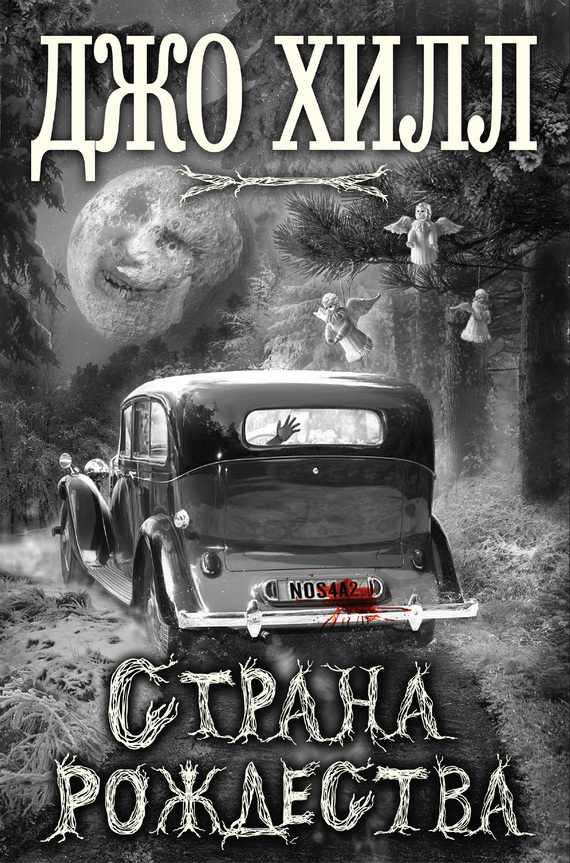Русская канарейка. Голос Рубина Дина
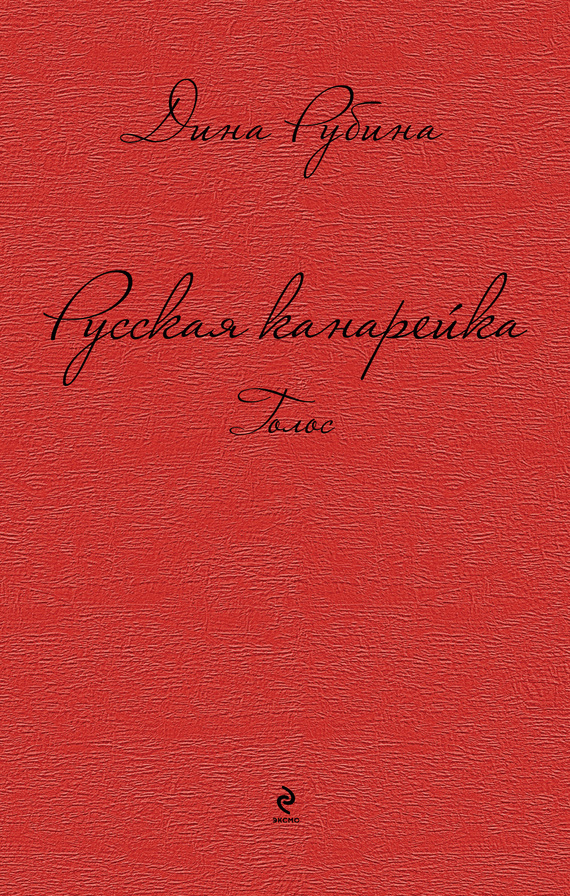
– Ленинград…
– Да, из Ленинграда. Муж, жена, двое деток и старушка-бабушка, интеллигентного такого вида дама, но удручена до невозможности. Молодые с детьми отправились гулять по городу, а старушка смотрит в окно на подъезд моего родового гнезда, и слезы текут у нее ручьями. Думаю: господи, ну, я бы рыдал – понятно, а она-то что здесь потеряла?
– Ты бы рыдал… – усмехнулся Леон.
– Именно! – подхватил Натан. – Вежливо спрашиваю старушку: can I help you? Та с трудом: «Их фарштэе ныт!» Перешел на муттершпрахе: что же так огорчило гнэдиге фрау? Радоваться надо: ее семья благополучно вырвалась из антисемитской страны, послезавтра приземлится на родине, и внуки не узнают ужасов тоталитаризма!
Старушка по-немецки еле-еле, больше на полузабытом идише, и то через пень-колоду: ах, молодой человек, я даже гулять с детьми не пошла, боюсь – увижу Вену, тут же слягу. Видела снимки этого самого Израиля – тоска, провинция, пальмы… Сыну-то плевать, начитался, молодой дурак, этого их Жаботинского. А я, между прочим, – кандидат искусствоведения, историк архитектуры, родилась и всю жизнь прожила на Фонтанке… И что увижу в последний час – уродливые пыльные бараки?
Ну, стал я уговаривать: Израиль – страна красивейших пейзажей, колыбель западной цивилизации, подобно Греции и Риму… – Натан хмыкнул: – Скажу тебе откровенно: пейзажи пейзажами, а только у нас инструкция была: никаких отрицательных сведений. Да, так я ей говорю: своими глазами увидите места, описанные в Библии. Старушка, услышав про Библию, сердито отмахивается: «Генуг!» Это ассимилированное поколение, знаешь, они иудаизм ненавидели… Моя бабка, кстати, тоже. Ну… отмахивается от меня фрау историк архитектуры и в слезах раздраженно кивает в окно на «мой» подъезд: смотрите, мол, вот это – культура, это – западная цивилизация, а вы мне – «родина», про какую-то чуть ли не Уганду! Смотрю ее глазами: действительно, красиво – стиль модерн, первое десятилетие прошлого века… Ну как, думаю, объяснить бабке: когда из этакого великолепного подъезда тебя в лучшем случае вышвыривают на улицу, когда ты вне закона и никто не спасет, когда жизнь твоих детей зависит от настроения и алчности какого-нибудь австрияка-шуцмана, единственной мечтой поневоле станет свое государство – с любой, пусть самой уродливой архитектурой. И я, знаешь… я почему-то промолчал тогда. Подумал: старуха уйдет своим чередом, бог с нею и с ее архитектурой; молодые притерпятся, все у них худо-бедно перемелется. А вот дети будут наши! – Он глянул прямо в глаза Леону и повторил: – Наши! Арифметика простая, парень…
И неожиданно для себя самого, порывисто подавшись к Леону и перейдя на придушенный хрипловатый иврит, Натан проговорил, тыча изувеченным пальцем в стол:
– Просто я помню, как ты относился к своим агентам: все их проблемы ты брал на себя! И я был уверен, что этот вонючий финт с компанией покойного Иммануэля приведет тебя в бешенство! Я думал: ты ведь так был к старику привязан, ты не позволишь… Думал, захочешь раздавить слизняка сам! Ведь то, что у нас называется «хешбон нэф еш»[10], – это единственное, что, в конечном счете, остается от человека. Да, это так же нематериально, как наш абстрактный Бог, и это, конечно, безумие, согласен – выбирать какое-то там достоинство, месть за покойного друга, который не может постоять за себя сам, и прочую муру, вроде благодарности за добро, сделанное тебе, мальчишке…
Леон опустил глаза на свои сцепленные на столе руки, медленно разжал их и аккуратно отодвинул тарелку с недоеденным десертом. Он безуспешно пытался сохранить невозмутимое лицо. Вот уж кто умел доводить до белого каления, так это Калдман, – вот кто умел вытащить твои кишки, намотать на кулачище, напомнить о твоем собственном доме, тоже отнятом бог знает кем! И неважно, что ты понимаешь и видишь, как он это делает, да и сам когда-то много раз прибегал к подобным штукам; все это уже неважно…
Пытаясь совладать со своим бессильным бешенством, Леон процедил:
– В ближайшие недели у меня слишком плотный график.
– Неужели? – живо спросил Натан. – Выступления? Репетиции?
– Через три дня – концерт в Батуми.
– О! Что поешь?
Господи! Вот клещ! Вот же клещ проклятый!
– «Аве Марию» грузинского патриарха Илии Второго… – холодно ответил он, уже взяв себя в руки.
– Что ты говоришь! Сам патриарх сочинил музыку? Правда?! Брось: наверняка напел по телефону, а там уж грузинские музыкальные негры сбежались оркестровать, а? Не патриаршее дело – партитуры чирикать… – И с увлеченным интересом: – Ну, а потом? После Батуми?
– Потом начнутся репетиции «Алессандро».
– Отлично. И когда премьера?
– Четвертого сентября.
Калдман вздохнул и с облегчением произнес:
– Значит, в лучшем случае конец сентября…
В голосе его, однако, уже слышны были обычные командные нотки, уже отбивали чеканный шаг барабанные палочки. Он и не скрывал торжества: охотник, попавший в летящего тетерева; рыболов, подсекший крупную форель в тихом джазовом ручье…
– О деталях – ближе к делу, – он словно отмахнулся от чего-то незначительного. – Чуть позже получишь все фотографии, все материалы. – И, чувствуя внутреннюю потребность в завершающем аккорде – старый меломан! – подпустив чуток вибрации в свой «венский» задушевный тембр голоса, проговорил: – Даже если ты просто покрутишься по островам и потом напишешь эссе о впечатлениях путешественника (но без публикации в National Geographic), – это с лукавой улыбкой, – мы будем благодарны. – И твердо повторил: – Мы будем благодарны за любой твой форшлаг, ингелэ манс. За любую трель. Пусть даже и канареечную!
На этом деловой разговор был окончен.
И пока они высвистывали официанта и просили счет, пока расплачивались и ожидали назад карточку (платил Леон: Натан в казенных расходах был щепетилен, а в личных на удивление прижимист – у каждого свои недостатки) – все это время говорили о музыке. Только о музыке:
– Да, литургию, причем разную, очень люблю. Готов примириться со всеми на свете верами. Многие у нас жалуются на крики муэдзина в рассветный час, а я признаюсь тебе, что и пение муэдзина мне нравится: и это ведь – глаза, обращенные к небу, не так ли?
Это тоже было импровизацией на вольную тему. Кое-кто из старых друзей еще помнил знаменитую выходку молодого Калдмана, лично расстрелявшего со своего балкона динамики на минарете соседней – через ущелье – арабской деревни, мухтар которой не пожелал удовлетворить просьбу местных властей убавить звук трансляции утренней молитвы. Это стоило Калдману больших служебных неприятностей, однако с тех пор песнь муэдзина его рассветный сон не тревожила.
– Но Шубертом ты меня пронзил, Леон! Всегда думал: твой специфический голос предназначен для, скажем так, чисто «котурного» репертуара – барокко, в крайнем случае классика. Но «Серенада»!.. Ты просто создан для музыки романтиков! Почему бы не замахнуться на «Winterreisen»? Хотя бы на «Мельничиху»? Дай старику помечтать! «Миньону» помнишь?
Леон хмыкнул и слегка – в четверть, да куда там, в одну шестнадцатую голоса, чтоб услышал только Калдман, – прошелестел-промурлыкал:
- Kennst du das Land, Wo die Zitronen blhn?
- Im dunklen Laub die Goldorangen glhn?[11]
Натан прикрыл веки: дегустатор, вдохнувший редчайший аромат.
– Боже, какая модуляция – из ля мажора в до мажор – альтерированную верхнюю медианту… И это начало девятнадцатого века! Какой, к черту, Бетховен!
Компания за длинным составным столом перешла к десерту, и, значит, слишком задерживаться не стоило.
Леон терпеливо переждал, пока откроются мечтательно смеженные глаза Калдмана в бегемотьих складках набрякших век.
– И наконец, в-третьих… – пряча банковскую карточку в портмоне, сказал Леон, как бы подхватывая упущенную нить разговора.
– Что – в-третьих? – рассеянно отозвался Калдман.
– Я назвал две причины, по которым затащил тебя в эту шикарную душегубку, – пояснил Леон с меланхоличной полуулыбкой на аскетическом лице египетского жреца, – Троцкий. Моя музыкальная прабабка. И в-третьих… Глянь-ка в зеркало за моей спиной, левее… да! Восточная компания за длинным столом. Мужчина между жгучих женщин… Не тот, что похож на одесского докера, – то господин Крюгер, австриец в десятом поколении, владелец сети прачечных по всей стране. Другой, деревянный блондин с пугающе симметричным лицом, как бы стянутым с арийской колодки. После нацистских бредней в понятие «ариец» обычно вкладывают неправильный смысл. Между тем известно, что настоящие арии – это именно персы, о которых так заботится Шаули…
И наблюдая, как отвердевает лицо Калдмана, как темнеют его глаза раскосого быка, вылетевшего из загона, Леон со злорадным удовлетворением добавил:
– Не стоит сверять с фотографией. Вы еще не знакомы с его новой внешностью.
– …С-с-суккин сын!!! – восхищенно прошипел Калдман, ударив по столу покалеченной ладонью. – Как тебе удалось?
Леон потянулся к графину, вылил в бокал остатки воды, выпил и с едва заметной горечью проговорил:
– Ты забыл, что, помимо делишек вашей сраной конторы, я занят кое-чем еще и, когда не убиваю людей, веду жизнь приличного человека…
Тот поздний теплый вечер после премьеры «Блудного сына», совершенно безветренный (редкость в Венеции в начале апреля), – тот вечер, переходящий в ночь, которую они с Шаули провели за столиком паршивой забегаловки с «пиздоватыми» куриными ножками на вывеске, – он словно вчера миновал. Во всяком случае, Леон ясно помнил уголок набережной в проеме настежь открытой двери, горбатый мостик с каменными перилами, иконное сияние небольшой луны и черно-золотую от света фонарей воду канала, где то и дело в полной тишине возникала и скользила очередная припозднившаяся гондола, гордой грудью уминая сеточку слабых звезд на воде.
Оба они прилично выпили.
– До утра заживет, – повторял Шаули, – самолет только в девять.
Стояла оглушительная тишина, какая бывает лишь в уснувшей Венеции, такая, что слышны были пузырьки воздуха в аквариуме, где в ожидании завтрашней казни колыхался последний угрюмый лобстер.
Хозяин решительно порывался закрыть заведение, но Леон вновь выдавал отрывок из какой-нибудь арии, и всякий раз хозяин остолбенело замирал, благоговейно качая головой, – где-где, а в Италии, даже в третьеразрядных тратториях понимают толк в подобных голосах.
Шаули сетовал, что уже месяца два им ужасно не везет: ищут иголку в стоге Вены.
– Знаем точно, что он в Австрии, – говорил Шаули, – то ли в Вене, то ли в одной из альпийских деревушек неподалеку. По нашим сведениям, приехал с какой-то медицинской целью: на исследования, а возможно, даже для операции. Прочесали все клиники, кроме косметичесих, – ничего похожего! Единственная зацепка – двоюродная сестрица в одном оркестре, но выхода на нее нет…
(Подразумевал, что выход – вот он сидит, сокрушаясь, что в эти минуты мог бы пить отличное вино в зале приемов «Гритти-Палас», а не стопорить своими руладами хозяина «пиздоватых» ножек.)
– Поверишь, обшарили все, – говорил Шаули, – разве что фотографий не расклеивали и не давали объявлений в газетах: «Разыскивается выдающийся иранский ученый-атомщик профессор Дариуш Аль-Мохаммади».
А напрасно, ребята, вы игнорируете великую косметическую хирургию. Она сегодня чудеса творит.
Как раз профессор Дариуш Аль-Мохаммади, глава администрации завода по обогащению урана в Фордо, где на днях были запущены в строй три тысячи новых центрифуг, был извлечен Леоном самым рутинным способом – из постели.
Сделать это оказалось нетрудно: Наира Крюгер, концертмейстер группы альтов Венского филармонического, давно посылала ему соблазнительные полуулыбки поверх медовой верхней деки своего дорогого инструмента. Правда, она вовсе не казалась идиоткой (несмотря на то, что уже в лифте, поднимавшем их в номер отеля, доверительно призналась, что, как и многие другие, считала его геем; и он, столь же доверительно, на ушко шепнул ей – как и многим другим – «проверим, детка?»), и все же она не казалась абсолютной идиоткой, потому он и не думал, что все произойдет так ошеломительно просто.
– Как тебе мой нос? – спросила она после несколько удивившей его бури. Он и не предполагал, как раскрепощена и шумлива (несмотря на то, что в этом дорогом отеле не стоило бы оглушать постояльцев и прислугу) может быть в постели замужняя восточная женщина. – Как мой новый носик?
– Обворожителен, – отозвался он на зевке, мечтая, чтоб она поскорее оделась. До вечерней репетиции оставался еще целый час, и он собирался повести ее в бар и слегка напоить, прежде чем приступить к разработке на тему двоюродного братца. Вот уж на нос ее было решительным образом плевать. Вообще-то, и смотрел он вовсе не на нос. Он любовался неожиданным сочетанием в ее фигуре очень тонкой талии и очень полных бедер. Особенно когда она сидела на пуфике перед трюмо. Леон валялся на кровати, изрядно потрепанный ее кипящей страстью, и наблюдал тонкую спину с пышными ягодицами: это было похоже на изящный, плавно стекающий книзу кувшин работы иранского мастера. – Носик твой обворожителен.
Нос, на его взгляд, был ужасен: слишком короткий, неестественно прямой. То ли у хирурга полностью отсутствовало чувство стиля, то ли пациентка просто замордовала бедного австрийца требованиями «европейских пропорций». Ведь ясно, что при этих полукруглых, знойно поднятых бровях, при этих сладчайше вывернутых полных губах лицо требовало крупного носа с горбинкой – носа красавицы с персидской миниатюры, с каким наверняка произвела ее мать на свет божий. И еще раз повторил:
– Чудный милый носик, моя Психея. Но охота ж тебе лезть под нож мясника.
– Это что, – довольно проговорила она, высоко поднимая брови и припудривая лицо, еще не просохшее от любовной испарины, попутно бросая из зеркала многозначительные взоры на простертого Леона. – Это еще чепуха. Видел бы ты, как исполосовали моего кузена! Живого места на лице не оставили. Даже волосы в лысину вживляли. – Расхохоталась и добавила: – Такова жизнь: ты бреешь свою шикарную шевелюру, а другие целое состояние выкладывают, чтобы темечко худо-бедно проросло… Я, знаешь, каждый раз вздрагиваю, как вижу его новое лицо, – не узнаю брата: чужой человек! Где мой любимый Дариуш, с которым мы играли в детстве! Через две недели празднуем в ресторане мамин юбилей, и кузен, само собой, тоже будет… Он обычно нигде не появляется, жизнь у него такая… сложная, но день рождения мамы для него – святое! И я опять себя готовлю, чтобы не ахнуть в первый миг.
…Далее оставалось только правильно поставить парус. Например, вытянуть из нее дату и время семейного торжества: умоляю, моя радость, я появлюсь в Вене совершенным невидимкой, я ведь буду смертельно скучать. Только глянуть на тебя издали одним глазком, ты даже не заметишь (на торжество она, разумеется, собиралась с супругом).
Из ближайшего интернет-кафе он написал на некий призрачный адресок письмо Шаули: такого-то числа, мол, буду по делам в Вене и с удовольствием пообедаю с тобой, если по случаю окажешься там в то же время. Ждал подтверждения от друга, а получил – буквально к вечеру того же дня – подтверждение от самого Калдмана: окажусь, мол, как же, как же, окажусь по делам в Вене и отобедаю с удовольствием. Старый лукавец уже давно подчеркивал свой консультативный, а не оперативный статус, но ревнивым оком все еще посматривал за молодыми оперативниками. Опять же – давно не виделись, отчего и не пообедать?
И вот чем оно обернулось.
«…Жаль, я сидел не один, – объяснит потом Леон пышной заднице. – Зато любовался твоим носиком битых два часа».
А может, вообще ничего не говорить? Все равно этой интрижке уготована бесславная кончина. Просто сложилось так, что в ресторан он привел собственного свалившегося на голову дядю, надоедливого глуховатого старикана. Что поделать – все мы заложники семейных связей.
Он оставался за столом еще минут пять, выжидая, пока Натан – сутуловатый и все еще мощный (а со спины так и вовсе не старик) – неторопливо покинет ресторан, пройдет мимо «Дуби Рувки», все так же рассеянно листавшего газету, и замутится в толпе.
Затем легко вскочил и сам направился к выходу.
Толкнув дверь, услышал вопль из кухни:
– Ай-я!!! – вопль, что показался ему криком боли: так мог вскрикнуть человек, случайно порезавшись ножом. Но тот же голос через мгновение повторил за его спиной по-русски: – Долго я буду тебя звать?
Снаружи, на ступенях ресторана, с фотоаппаратом в руках стояла девушка, нашпигованная колечками, – та, что неумело их обслуживала вместо отлучившегося официанта. Кажется, она снимала толпу на площади.
Мужчина в белой куртке рабочего кухни, с закатанными по локоть рукавами, бесцеремонно опередив Леона, выскочил на крыльцо и хлопнул девушку по плечу так, что та вздрогнула и обернулась.
– Где ты болтаешься? Немедленно за работу! Когда! кончится! этот бардак, Айя?! – крикнул он прямо ей в лицо. – Когда?!
Выругался в сердцах и вернулся в помещение.
Она негромко, словно самой себе, ответила по-русски:
– Когда ты сдохнешь…
И принялась свинчивать с камеры огромную, как телескоп, явно дорогущую линзу Canon…
Леон удивленно покрутил головой и спустился на несколько ступеней. Значит, русский – вот родной язык этих пробитых колечками губ.
Мы по-прежнему строим вавилонскую башню, подумал он, – и по-прежнему без особого успеха.
«Дуби Рувка» лениво поднимался ему навстречу. Легко задев Леона трубочкой свернутой газеты, извинился по-немецки и вошел в ресторан. Сейчас займет их освободившийся столик или причалит к стойке бара, и за профессора Аль-Мохаммади с этой минуты можно не волноваться: он будет присмотрен. Профессора станут передавать из рук в руки, дабы с ним – таким красивым, таким арийцем, таким выдающимся ученым – не случилось беды прежде времени. Вот только жаль виртуозной работы австрийского хирурга: Аль-Мохаммади не успеет вернуться к трем тысячам работающих центрифуг, как не успел вернуться из Праги к себе в Натанзу Моджтаба Аль-Лакис, – Ал-ла иера-а-ахмо!..[12]
Два бронзовых атлета тоже покинули свой пост и нырнули в подземную стоянку, где им наверняка предстояло преобразиться в нечто гораздо менее блестящее и заметное. И то сказать: сколько может человек, пусть даже обученный, пребывать в неподвижности?
Леон стоял на нижней ступени ресторанного крыльца, готовый двинуться к особняку французского посольства – тут недалеко, двенадцать минут ходу. Он любил приходить вовремя даже на никчемные и утомительные приемы; никогда не знаешь, кого там встретишь и чем может обернуться очаровательный вздор жены помощника атташе по культуре. Стоял и наблюдал броуново движение толпы на площади, все еще объятой усталым солнцем.
Надо натравить Филиппа на Грюндля, опять подумал он. Припугнуть старую сволочь, пригрозить, что не станем больше у него записываться. Да, именно так – сокрушительный ультиматум: денежки на стол!
Что касается сегодняшней встречи – что ж, они полностью использовали свой шанс. Вообще-то, он был уверен, что зацепить его можно только через Владку, любимую его пошлую мамку. Правда, Владка была сейчас тоже изгнана в пустыню, и хотя время от времени предпринимала истерические попытки вернуться, не скоро еще вернется; отбудет свой срок на полную катушку. И вот, надо же, как они его зацепили, злодеи! – через давно покойного Иммануэля. Нет, все-таки нельзя обрастать болью, пусть даже болью памяти. Надо латать и законопачивать все свои бреши. Его девиз – никаких привязанностей! – был самым мудрым и выстраданным достоянием. Самым драгоценным завоеванием его собственной философии. И все же Натан его достал. Достал в тот момент, когда всерьез и окончательно Леон приказал себе обрубить все связи с прошлым, закопать все виды ненависти, зализать все раны и пуститься в тот путь, который в конце концов приведет лишь к колыханию звука, к натяжению голосовых связок, к полету голоса, к единственной любви – Музыке…
Натан Калдман в эти же минуты своим грузным военным шагом отмерял плиты широкого тротуара, рассудив, что до безопасной квартиры может добраться и пешком, не сахарный. Машина понадобится Рувке, когда тот досидит на торжестве и решит сопроводить профессора.
А он, Натан, – не сахарный, он пройдется. По крайней мере, немного собьет возбуждение, охватившее его в ту минуту, когда он понял, кого на сей раз сервировал им Леон на белом блюде, в изысканном зале ресторана. И вновь мысленно проследил весь сегодняшний разговор, в течение которого тот блестяще провел свою музыкальную партию, ничем себя не выдав. Ты – потрясающий, ты – прирожденный охотник, черт бы побрал все твои сердечные и прочие занозы, ингелэ манс!
Хорошо, Магда, мысленно сказал он жене, я даю тебе слово, Магда, это – в последний раз! Ты права, надо оставить мальчика в покое. Я клянусь тебе, Магда, когда он добудет для нас этого самого «Казака» – он и вправду станет частным лицом, как сам любит повторять, хоть это и полная бессмыслица. Видела бы ты, как пыхнули его горючие глаза, когда он услышал, что проделали с компанией Иммануэля! В этих глазах была жажда древнего ритуала кровопролития, Магда, – не менее сладкая цель, чем какое-нибудь до третьей октавы, взятое его бесподобным голосом. Но – хорошо, пусть он станет настоящим говенным частным лицом и пусть поет до ста двадцати на здоровье! Ты права, Магда, с моей стороны это безнравственно: в конце концов, почему я должен рисковать им больше, чем собственным сыном?
Натан Калдман полагал, что Леон недолюбливает его сына Меира. Он заблуждался: Леон Меира ненавидел. Ненавидел и считал главным источником зла в его, Леона, распроклятой жизни.
Меир, Леон, Габриэла…
…А какими дружками были!
Это все Меир: он обеими руками подгребал к себе поближе тех, кто, по его мнению, нуждался в его помощи, защите, подсказке, проверке и даже в его школьном завтраке. Когда по утрам заспанная мать в халате поверх ночной сорочки (она всегда трудно просыпалась) мастерила ему на кухне бутерброды, он – бодрый, порывистый – выскакивал из ванной с зубной щеткой, поршнем ходившей во рту, и кричал:
– Ма-ам! Жратвы побольше, о’кей?
А что делать, если на переменах нужно обсудить с кучей народу уйму проблем? Времени нет по буфетам бегать! Он расстилал салфетки на парте, вываливал подножный корм для своих оленей – налетай, ребята! Ну, и после занятий, тут и гадать не нужно, каждый божий день уж двоих-троих на обед непременно притащит: столько всего недоговорили, недообсудили…
Такой мальчик, вздыхала Магда, общественник. Никакого покоя…
И – дым коромыслом, и споры, и гогот, и музыка, и репетиции очередных придуманных им сценок – веселый ор до позднего вечера! Басок Меира перекрывает все окрестные звуки, кажется, даже, и рев осла по ту сторону ущелья, и колокольный «дом-бум» из монастыря Святого Иоанна по соседству. И так – до прихода отца, который один умел взглядом усмирить весь этот дом-бум, со всеми его обитателями, гостями и животными.
И лишь тогда народ расходился и наступала суховатая тишина, в которой из родительской спальни вначале доносились покашливание и шуршание газеты, потом внезапно взревывал, опадал и вновь нарастал вертолетным рокотом храп старшего Калдмана. Наконец, по каменному полу процокивала коготками любимица Магды – белая крыса Буся, шмыгала в свою кладовку и шебуршила там до утра.
Меир с детства был центром любой компании, ее естественной осью: рослый, увалистый, в отрочестве смахивавший на грузчика. Впоследствии «изросся» – возможно, потому, что с восьмого класса ринулся в стихию тхэквондо, где, как сам объяснял, «не попляшешь – не лягнешь» и «ноги – всему голова». К десятому классу вытянулся и стал верзилой, в отца, а ростом так еще выше (эти дети быстро нас обгоняют) и по характеру, уверяла Магда, гораздо приятнее: проще, дружественней, улыбчивей… Да о чем говорить! Меир был душа-человек, магнит, к которому в школе причаливали все по очереди и скопом.
Он и Леона выудил чуть ли не из-под парты.
В школу при университете – эта семейно-кастовая теплица и называлась «Приуниверситетской», и действительно славилась высоким уровнем обучения – Леон угодил случайно. По месту жительства.
После смерти обеих старух они с Владкой вынуждены были переехать из замызганной и разбитой, протекавшей зимой и до обморока накаляемой летом, но все же большой трехкомнатной квартиры в бедняцком районе в жилье гораздо меньшее, но…
Но вначале надо бы рассказать о том, что случилось с Владкой.
А с Владкой вот что случилось: покупая в понедельник в супермаркете помидоры и картошку, она познакомилась с Аврамом.
У них с Леоном каждый день был помечен определенными покупками. Устраиваться на работу Владка, как всегда, не торопилась, поломойствовать по людям – чем зарабатывали многие репатриантки и поумней, и пообразованней ее – не кинулась. А деньги они с сыном получали небольшие: пособие матери-одиночки да «детские» на Леона, совсем уже гроши. Не разгуляешься, и это еще мягко сказано.
Леон пытался подработать: устроился в продуктовую лавку за углом разносить заказанные по телефону покупки. «Зарабатывать будешь, как бог!» – уверял хозяин. Но судя по тем грошам, что приносил мальчик после нескольких часов беготни, бог тоже был изрядным лохом. Получка Леона складывалась из чаевых, то есть из упований на людскую совесть. К тому же он не брал денег у старух, инвалидов и брюхастых религиозных женщин, изможденных ежегодными родами. Зарабатывал дырку от бублика, зато приобрел немало полезных сведений о свинской природе человека – существа, сработанного доверчивым боголохом явно спустя рукава.
– Представляешь, – рассказывал он вечером Владке, – поднимаю на пятый этаж без лифта два чугунных пакета, кило по сто каждый, ни черта от пота не вижу; доползаю, ставлю у двери, звоню… Звоню и звоню… никто не открывает! Вроде как хозяйка отлучилась. Ну, что делать! Не буду ж я там торчать до вечера. Оставляю пакеты, спускаюсь до нижней площадки и слышу: наверху тихо-о-онько открывается дверь, пакеты втаскивают в дом. Это она стояла и ждала, чтоб мне надоело звонить и я ушел. Три шекеля чаевых сэкономила!
А уж после того, как однажды Владка в один присест разметала их пособие, угостив приятельниц обедом в одном из самых дорогих ресторанов («Ну, проголодались! ну, скучно было до ужаса!»), тринадцатилетний Леон, расколотив пару стаканов и пригрозив матери полицией, взял дело в свои руки: отнял у Владки банковскую карточку и чековую книжку, составил строгое расписание покупок (по понедельникам, как было сказано выше, покупались четырнадцать средних помидоров, трехкилограммовая сетка картошк, две булки и дюжина яиц) и ежедневно выдавал ей точную сумму на расходы, плюс автобусная карточка на курсы иврита, где вот уже год Владка царила, как примадонна на подмостках сельского клуба, развлекая учащихся, да и учителя, своими несусветными россказнями:
– Я смотрю – а у тетки четыре титьки! Это бывает, называется «атавизм». И она что: она носила два лифчика, ясно? В два ряда. Так и выходила на пляж. А что делать, а войдите в ее положение: фигурка у нее в остальном была совсем неплохая…
Так вот, покупая в понедельник помидоры и картошку (повторим мы в третий раз), Владка познакомилась с Аврамом.
Приметил он ее давно, с тех пор как она стала закупаться в этом дешевом супермаркете, который (после сверочного рейда по окрестным магазинам) Леон назначил для покупок. Собственно, Аврам и был владельцем данного заведения, многодетным вдовцом, сентиментальным восточным человеком с наливным грустным носом, влажными, как маслины, черными глазами и тяжелой связкой ключей на поясе.
Он подошел к кассе, лично просчитал Владке небогатый улов, лично сложил его в пакет и сопроводил Владку до квартиры, где уселся пить чай за колченогий стол. Сам же и заварил этот чай, неодобрительно качая головой и что-то бормоча про дешевую заварку – купленную, между прочим, в его собственном магазине.
Разлив чай по чашкам и выложив на клеенку свои большие чистые руки многодетной матери, Аврам немедленно посватался к Владке.
– Ты женщина с ребенком, – сказал он. – Кто тебя возьмет, кроме меня?
Владка расхохоталась. Во-первых, ее давно смешил рисунок на этой клеенке: размноженные по диагонали крупные сливы-близнецы, до оторопи напоминавшие лиловую задницу. В сочетании с заботливыми руками Аврама сливы-задницы почему-то произвели на Владку гомерическое впечатление. Вовторых, она уже проходила параграф учебника под названием запад-есть-запад-восток-есть-восток и урок не то чтобы выучила (к учебе она, известно, была малопригодна), а просто не собиралась ходить во второгодницах. Она расхохоталась и долго не могла уняться при виде натруженных рук, задумчиво ласкавших клеенку с лиловыми задницами.
Аврам не обиделся. Он спокойно выждал, когда эта красивая рыжая женщина отсмеется, допил чай и налил себе еще.
Потом обошел квартиру, обстоятельно осматривая каждый угол, вкрутил лампочку в кладовке, где с самого их приезда теснилась кромешная тьма и для того, чтобы отыскать босоножки, надо было светить фонариком. Затем, как заправский кузнец, подковал ногу стола-инвалида обнаруженным в кладовке деревянным бруском, и стол наконец перестал шататься.
Тут из школы вернулся Леон, и Аврам пришел в восторг.
– Это же наш мальчик! – воскликнул он. – Наш мальчик, «парси»[13]! Почему ты не сказала, что твой муж был из наших?
– Мой муж, – с достоинством отозвалась Владка, плавно выходя замуж задним числом, – погиб в Афганистане. – И поникла вдовьим лицом.
– Зихроно левраха![14] – тихо воскликнул отзывчивый вдовец.
И добрый Аврам ненавязчиво и безвозмездно вошел в их домашний обиход, в их проблемы, в их безденежье, в эмигрантские одиночество и неприкаянность.
Нет, он был человеком практичным и к тому же обременен большой семьей; он не собирался вешать себе на шею эту пусть и роскошную, но довольно бесполезную женщину с ее пусть и очень симпатичным, но чужим пацаном; так, приносил время от времени помятую банку хорошего кофе или слегка продранную коробку стирального порошка, бутылку оливкового масла с поцарапанной этикеткой или пакет мороженой фасоли… а что? вещи полезные, конь дареный, большое спасибо… Но своим многодетным сердцем Аврам обнимал изрядную часть этого неустроенного мира, искренне пытаясь сделать его разумнее и пригоднее для проживания.
Для начала он совершил то, что никому до него не удавалось: погнал бездельную Владку на работу.
– Хватит шляться по ульпанам, – сказал он. – Ты и так уже много лишнего болтаешь на нашем святом языке. Надо зарабатывать хоть небольшие деньги, но в приличном месте. Я тебя устрою.
Сказал и сделал! «Приличным местом» оказалась резиденция главы правительства.
Так уж случилось, что начальником охраны этого серьезного заведения работал свояк Аврама, Нах ум. И путем трехминутной беседы с начальником по уборке, через фирму по найму рабочей силы Нахум договорился, что с завтрашнего дня Владка выйдет на работу – заведовать тряпками, швабрами и ведрами, а также канистрами с моющими средствами, выдавая их сплоченному взводу сменных уборщиц, немолодых женщин с лицами сотрудниц Эрмитажа. Перетрудиться на подобной ответственной должности было невозможно.
Во-вторых, Аврам переселил их в другую квартиру и, что гораздо важнее, в другой район, объяснив главный принцип существования человека в западном обществе: обитать ты можешь в любой подсобке, любом сарае, любом подвале – но в хорошем районе.
– А что такое хороший район? – подхватил он и сам же себе ответил: – Это приличная публика. И значит, хорошая школа.
В обычной городской школе в районе иерусалимских трущоб Леон уже освоился. Половина учеников седьмого класса охотилась за косячками, четверо нюхали «коку», многие подворовывали. И все поголовно курили – это считалось само собой разумеющимся. Курить Леон попробовал в первый же день, но сразу и бросил: ему не понравилось першение в горле и удушливый запах дыма в носоглотке. (Всю жизнь «горловые страхи» преобладали у него над стремлением к любым удовольствиям.)
Учителя в этой школе менялись со скоростью кадров в рекламном клипе; чуть дольше задержались математик, гигант с громовым голосом, перекрывавшим лавину визга и воплей на уроках, и шепотливая историчка, сразу после звонка впадавшая в нирвану, чтобы до конца урока тихо дрейфовать за своим столом, как тюлень на льдине.
Но Владке школа нравилась. Однажды она случайно завернула туда во время большой перемены, пришла в неописуемый восторг и с тех пор повторяла:
– Коллектив дружный! Ребята веселые, звонкие! Чего еще? Очень хорошая школа!
Что касается Леона, он всерьез подумывал бросить учебу и устроиться куда-нибудь, где платят такой мелюзге, как он, хоть мизерные деньги. В пекарню «Энджел», например; там и воровать не нужно – там булки после смены за так выдают.
При всей его самоотверженной экономии их банковский счет пребывал в глубоком обмороке.
Лучшей школой в Иерусалиме и одной из лучших в стране считалась университетская теплица с профессорами-преподавателями и отборными ребятами из состоятельных интеллигентных семей. Попасть в нее было непросто. Вот разве что живешь ты за углом и, согласно закону, приписан к данной школе «по месту жительства», а значит, ни одна чистопородная мам и из родительского комитета не посмеет морщить холеный носик и чинить препятствия твоему воссоединению с отпрысками элиты общества.
В тяжелой связке ключей, что болталась у Аврама под брюхом, изрядный вес занимали ключи от жилого дома, некогда перестроенного его отцом из огромного каменного ангара, в котором еще прадед держал самую большую в окрестностях Иерусалима кузницу. Квартиры – их было четыре – Аврам сдавал, подкапливая на приданое дочерям, – уж больно район замечательный: тут тебе университет, тут тебе Кнессет, тут вот концертный зал и музыкальная академия имени Рубина; тут – оглянись только! – все удовольствия, что можно просить от жизни.
А при доме подсобка была в полуподвале, «печаль и ветошь давних дней», по словам самого Аврама: квадратное помещение метров в тридцать, где от многих поколений жильцов копился брошенный или забытый при переезде хлам. Эту самую подсобку Аврам давно планировал пустить в оборот: переделать в квартирку и сдавать, например, студентам – те, как известно, могут жить и в конюшне, и в мусорном баке, и в почтовом ящике. Его большое торговое сердце не позволяло вселить туда Владку с Леоном за просто так – да и с чего бы? Но за уборку двух подъездов… почему бы и нет? Подумаешь, работа для здорового парнишки – дважды в неделю мокрой тряпкой по ступеням пройтись!
И еон ухватился за предложение обеими руками: в их бюджете высвобождались приличные «квартирные» деньги. Чем черт не шутит – может, удастся вылезти из долгов и даже платить за музыкальную школу? Тем более что специальная музшкола при академии Рубина тоже находилась чуть ли не за углом. Вот о чем тосковал он безутешно: о театре, о кларнете, о милом ворчуне и охальнике Григории Нисаныче. Короче, о Музыке.
Подсобка выглядела ужасно: затхлая, пропахшая пылью и плесенью, с двумя окошками на лестничный пролет, сизыми от корки застарелой грязи. Полуподвал, заваленный ящиками, узлами и обломками старой мебели.
Но Аврам привел двух рабочих-арабов из своего супермаркета, и те буквально за день расчистили помещение, выкинув на помойку столетнее барахло. Леон деятельно им помогал и поживился керосиновой лампой с дымчато-сиреневым стеклом, фонарем с винного завода «Кармель Мизрахи», медным подсвечником и машинкой «Ремингтон» с четырьмя выломанными буквами. Еще ему достался сине-бархатный альбом с фотографиями членов какой-то разветвленной семьи конца девятнадцатого столетия: галстухи, банты, оборки, трости, шляпы и шляпки, бороды и пейсы, кудряшки на алебастровом лбу. И круглое стеклышко в глазу добродушного пузатого старикана в хромовых сапогах.
Но главной добычей стали на диво сохранные лаковые дамские туфельки на медных пуговичках и помятый котелок времен Британского мандата на Палестину – смешная круглая шляпа, в которой физиономия Леона, когда он нахлобучивал котелок на голову, менялась до оторопи.
Его внешность всегда решительно менялась от любой, даже незначительной детали, не говоря уже о таких штучках, как парик или приклеенные усики. И дело не в деталях, не в одежде или прическе, а в самом Леоне: прикидывая на себя чужую шкуру, имя и легенду, он полностью преображался внешне. Менялись даже походка, наклон головы, манера говорить; появлялись новые жесты, которые, надо сказать, он всегда тщательно продумывал…
Владка окинула взглядом улов своего «барахольного» сына и носком туфли, как дохлую крысу, пошевелила круглый фонарь на полу.
– Больной на всю голову! – заключила она. – Хламидиоз тут развел, прям как в Одессе…
Те же рабочие побелили стены, поставили две гипсовые перегородки, приволокли газовую плиту, унитаз и душевую кабину, разом превратив полуподвал в крошечную, но уютную полуторакомнатную квартирку с кухонным уголком. А Леон уже сам вдохновенно отдраил оба полукруглых окошка – да, маленьких, но не лишенных некоторого переплетного изящества; отдраил их до чистоты богемского хрусталя, так что сам залюбовался. И Аврам явился, осмотрелся, растрогался – и совсем уж расщедрился: велел поставить две батареи, так что потом, холодными иерусалимскими зимами в полуподвале всегда было тепло.
Еще там обнаружилась арка в стене, которая никуда не вела, – стрельчатая ниша в полметра глубиной. Леон сам навесил внутри полки и очень красиво расставил все свои трофеи: «ремингтон» в центре, по бокам – фонарь и лампу. А одно из платьев Барышниного «венского гардероба» – самое изящное, кремовое, с кружевами валансьен и с черной бархоткой – повесил на плечики и на стенку; и к черту идиотские Владкины замечания.
Полуподвал сразу очнулся, зажил и превратился в уютное обиталище: то ли каюта корабля, то ли семейная часовенка.
В эту симпатичную сумрачную берлогу перекочевала и кое-какая старая мебель, собранная Аврамом у жильцов: лично ходил по квартирам на предмет «отдайте чего не жалко хорошей женщине с ребенком». Владка на это фыркнула: «Стыдобища!» – но милостиво приняла еще очень приличный секретер, кушетку, на которой Леон проспал до самого своего отъезда в Россию, и кое-что из утвари, среди которой обнаружились даже пять гарднеровских чашек с тремя целыми и двумя чуть треснутыми блюдцами.
– Живите! – сказал Аврам и, будучи склонным к библейскому ощущению мира и связи поколений, добавил: – Гарун аль-Рашид тут не поселился бы, а вам подойдет. Живите, и пусть настанет в судьбе Леона день, когда он с улыбкой вспомнит эту скромную обитель, лежа в шезлонге у бассейна на своей вилле.
(У самого Аврама на вилле в Бейт-Вагане бассейна не было. Он не одобрял все эти бесстыжие глупости и не поощрял дочерей к прилюдному обнажению тела: хочешь мыться – мойся, для того существует душ, не говоря уже о микве.)
…И за этот вот царский дар, за университетский ботанический сад неподалеку, за вежливых и приветливых соседей, за бетховенскую Тридцать вторую сонату, обожаемую жильцом из верхней квартиры, за столетнюю пинию у подъезда, за птичий щебет в ее райской кроне по утрам только и требовалось, что дважды в неделю набрать воды в ведро, раскатать ее с верхней площадки, сгребая шваброй вниз, затем отдраить каждую ступень вручную и, как говорила Стеша, «внагибку», отжать тряпку покрепче да пройтись разок всухую.
Невелика плата за крышу над головой.
Все же удивительно, как этот замкнутый мальчик – такой хрупкий на вид, выросший в столь же странного и хрупкого молодого человека, – никогда не избегал физической нагрузки, никогда не ломался под гнетом большого веса или длительных тренировок и среди бойцов своего взвода был известен тем, что тяжелейшие марш-броски молча и упорно пропахивал с шестидесятикилограммовым рюкзаком за плечами, из-за которого не видать было головы. А доволочив до базы отбитое свое тело, не валился на койку прямо в ботинках, а плелся в душ – смыть пот, грязь, песок и кровь, – после чего надевал наушники и отгораживался от друзей-командиров и прочих раздражителей внешнего мира собственной непробиваемой броней: Музыкой.
Невелика плата за жизнь.
Девочка вся была длинненькой, ломкой, страшно подвижной – стрекоза! На высокой шейке голова с кучеряво-каштановым, дрожащим облаком волос. И надо всем этим – впереди всего, в глубине всего, из самой глубины – глаза: сине-серые, зелено-синие, фиолетово-черные при электрическом освещении…
Да, она была похожа на стрекозу, что надолго не присаживается ни на лист, ни на ветку или цветок, а парит, зависая в воздухе, трепеща крылышками и разглядывая мир огромными прозрачными глазами.
Девочку-эльфа звали Габриэла – очень подходящее имя для таких синих глаз, таких длинных ног и рук, таких золотисто-каштановых волос.
Леон уже неделю смотрел на нее со своей задней парты, и на уроках смотрел, и на переменах, никуда не выходя из класса, досадливо ерзая, когда вид на нее заслонял высокий, толстый и добродушный мальчик с именем-вымпелом: «Меир!» – это имя неслось отовсюду, его знали все, он всем был нужен, даже высокомерным старшеклассникам, а на переменах становился вершиной утеса, с высоты которого, как с горы Синай, раздавался голос, уже сломавшийся в нестойкий басок.
К тому же этот громила приносил из дома кучу вкусной и дорогой еды, которая уничтожалась его друзьями мгновенно. Леон такой еще не пробовал. Они с Владкой по пятницам позволяли себе только курицу – пятница была днем скидок на птицу в супермаркете Аврама.
В тот день, когда на большой перемене человек восемь сгрудились вокруг Меира и, азартно работая челюстями, выслушивали его мнение о школьной музыкальной группе (дрянь, настоящая дрянь и останется дрянью, если мы не возьмем дело в свои руки!), Леон торчал на задней парте, с которой открывался потрясающий вид на фигурку Габриэлы, явившейся в школу в белых шортах и синей майке. Сзади на шортах были пришиты косые карманы с «золотыми» заклепками – по одному на каждую половинку обаятельной попы, так что та казалась забавной рожицей, – а на майке по-английски написано: «Ты впечатлен? Я довольна. А теперь отвали!»
Он даже не услышал, когда Меир, заметив его с высоты своего роста, крикнул:
– Эй, а ты чего под стол спрятался? – не понял, что это к нему относится.
Габриэла обернулась и сказала:
– Он не спрятался, он просто ма-аленький… – и показала, какой именно: на кончике указательного пальца, будто блоху поймала.
Леона изнутри как кипятком ошпарило. Но внешне он никак не отозвался на слова мерзкой девчонки, так и сидел, разглядывая компанию с невозмутимым видом завсегдатая греческой таверны.
– И иврита не понимает, – добавила Габриэла и прыснула.
– Нет, почему, я сразу понял, что ты – самовлюбленная дура, – отозвался Леон. – Тем более что это видно за километр.
Иврит у него к тому времени был не хуже русского. Не только потому, что врожденная (и тренированная хоровичкой Аллой Петровной) четкая артикуляция речи производила впечатление абсолютного владения языком, но и потому, что с каждым человеком он говорил с тем ритмом фразы и той интонацией, которых требовали обстоятельства, психологический тип собеседника и цель разговора.
Девочка ахнула и подбоченилась, колыша копной золотисто-каштановых волос – овца, деревяшка, глупая длинноносая цапля! А Меир рассмеялся и сказал:
– Да он еще меня перерастет, хватит на человека пялиться, вы что – очумели? И оставьте человеку сэндвич, эй, Бени, слышь, дай человеку пожрать!
Вот каким он был, наш Меир: добрый, справедливый, умный – душа-человек!
И Леон не успел оглянуться, как его дружески извлекли из-за парты, и уже через минуту он жевал булку с листом вкуснейшей бастурмы внутри и участвовал в обсуждении жгучей проблемы: как переплюнуть выпендрежников из школы в Рамат-Эшколе – у тех давно был приличный музыкальный ансамбль. Он старался не смотреть на Габриэлу, дав себе клятву, что возненавидел ее, возненавидел до конца своих дней… боковым зрением ловя синие брызги искристых взглядов, от которых невозможно было увернуться, как от шрапнели.
В этот день после уроков он впервые очутился у Меира в Эйн-Кереме – обаятельном богемном пригороде Иерусалима, с туристическим гомоном ресторанов, баров и галерей на двух центральных улицах; с задумчивым гулом монастырских колоколов, с лесистыми склонами глубокого ущелья и с нежданной деревенской тишиной сонных переулков и тупиков, что заканчивались коваными воротами в каменном заборе, за которыми – в зелени винограда и олив, среди выплесков желтых, красных и белых цветков гибискуса – пряталась скромная старая вилла, укрывшая в подоле под горой еще два своих этажа.
Впервые Леон оказался в доме Калдманов: в чудесном, распластанном по склону горы доме, встроенном в две горные террасы так, что из одной комнаты в другую вели – как ноты на нотном стане, до-ми-сольдо – полукруглые ступени.
Тогда-то он впервые увидел и Магду, и та показалась ему старухой, маленькой и щуплой, с аскетичным лицом: впалые щеки, всегда чуть сдвинутые брови, над которыми идеально ровно, как черта под некой запретной мыслью, отрезана челка, сильно пробитая сединой.
А потом уже Магда не менялась. Во всяком случае, и через десять, и через двадцать лет она оставалась немолодой сухощавой женщиной в тесном шлеме седых волос.
Словом, они ввалились к Меиру, и тот, свесившись над перилами, что плавной дугой уходили куда-то вниз, как в трюм корабля, крикнул:
– Ты где, ма-а-ам? Все ужа-а-асно голодные!
И на его зов откуда-то из-под горы по этой дуге стала медленно восходить женщина: сначала показалась седая макушка, затем голубая блузка, джинсы на тонких юношеских бедрах, легкие ноги в спортивных тапочках… вслед за которыми со ступени на ступень прыгал белый комочек с длинным розовым хвостом: крыса Буся, что, как матрос по снастям, лихо взобралась к Магде на левое плечо и отлично устроилась там, рассматривая компанию черными бусинами глаз.
Магда молча пересчитала детей, машинально прикидывая, распечатывать ли вторую пачку «бурекасов» или одной будет достаточно, и наткнулась на взгляд незнакомого мальчика – настороженный, сумрачный, чужой. Удивленно подумала, что ее великодушный сын-нараспашку уже и арабчат на улицах подбирает.
– Это Леон, мам! – торопливо пояснил Меир. – Он у нас новенький и, представляешь, как повезло, – играет на кларнете! Так что группа есть: я – гитара, Леон – кларнет, Габриэла – клавесин, а Ури – ударные.
– Здравствуй, Леон, – ровным тоном отозвалась Магда, вместе с легким голубоватым облачком доставая из морозильной камеры пачки с пирожками. (У такого салютного Меира такая морозильная мамаша, мельком заметил мальчик.) – И где же твой кларнет?
Леон пожал плечами, не зная, рассказывать ли про то, как валялись на перроне станции Чоп их вывороченные баулы.
– Его у меня нет, – легко пояснил он. – Остался там… в Союзе.
Господи, подумала Магда, кого только не приносит к нам из того самого «Союза»… Интересно все же, откуда он – из Махачкалы? Из Дербента? Как попал в нашу школу? Неловко спрашивать. И… может, он путает кларнет с какой-то их национальной э-э-э… камышовой дудкой?
Вслух произнесла тем же ровным, прохладно-приветливым тоном:
– Ну что ж, вашему ансамблю только солиста не хватает. Или солистки. – И улыбнулась: – Может, ты заодно и поёшь, Леон, а?
– Я пою… – после некоторой заминки, потупившись, отозвался смуглый мальчик, этот «мелкий восточный мальчик», из тех, что по приезде в страну сразу же попадают у штатных психологов в графу «социальный случай», в школе грешат наркотиками, страдают наследственными болезнями, а будучи призванными в армию, пополняют собой контингент военных тюрем. – В общем, я… да, немного пою.
Впоследствии Магда часто вспоминала этот миг. И хотя с тех пор много раз слушала Леона в разных залах и даже умудрилась попасть на его дипломный концерт в зале Консерватории (когда с Натаном оказалась в Москве на конференции по вопросам борьбы с терроризмом), она при первых же звуках его голоса неизменно ощущала одно и то же: дыбом восставшие на руках волоски, блаженную слабость, озноб моментально замерзшей кожи лица – как в ту минуту на кухне ее дома, когда неухоженный, несуразно и неряшливо одетый и, кажется, давно немытый мальчик (должно быть, дома экономят воду) глубоко вздохнул, расправил плечи, слегка устремился вперед, и все пространство дома затопило серебряной струей хлынувших звуков «Каватины Нормы»:
– «Ca-а-а-аs-ta di-i-iva! Casta diva inarge-е-еnti…» – с таким подлинно итальянским произношением, таким безмятежно молитвенным голосом, что Магда лишь нащупала спинку стула и опустилась на него, не чувствуя ослабевших ног, не сводя глаз с этого – о, теперь-то она увидела! – ангельской ясности лица…
Что было потрясающим в этой сцене – кроме голоса мальчика, разумеется, – застывшие чуть ли не в священном ужасе лица остальных детей. По крайней мере, лицо Габриэлы Магда будет помнить всегда: бледное лицо Габриэлы с горящими, как от затрещин, щеками; лицо ее будущей невестки Габриэлы, матери ее внуков; женщины Габриэлы, виноватой во всем.
…И всю жизнь Леона с Магдой связывали особые отношения, которые не касались ни Меира, ни Натана, ни Габриэлы.
Например, при всей своей нелюбви к электронной почте, Леон время от времени слал Магде коротенькие – в пять-шесть иронических фраз – отчеты о прошедших концертах, а она отовсюду, где бы ни оказалась, присылала ему открытки с видами каких-нибудь Афин, или Стамбула, или Санторини. И он писал в ответ: «Магда, ты – последний на земле человек, который шлет почтовые открытки, написанные рукой, и я целую эту руку, пусть и на расстоянии…»
В семье считали, что «это ужасно трогательно», и давно перестали над ней подтрунивать и дразнить ее и Леона. Между этими двумя разными во всем людьми сохранялась многолетняя, необъяснимая, но верная душевная связь, за которую оба они упорно держались.
Все знали, что за глаза Магда называла Леона «сиротой», – после того родительского собрания, где впервые увидела победительную, веселую, трепливую и щедро накрашенную Владку. Вернулась домой и сказала Натану: «Этот мальчик – сирота».
– Просто ты привязан к старухам, – как-то сказала ему Габриэла. – К старикам тоже, но главное – к старухам. А Магда заменяет тебе двух твоих бабок. Да ты и сам старичок, мой малыш. – Габриэла всегда знала, как цапануть его побольнее, как крутануть и выщипнуть кусочек сердца, чтобы оно кровоточило и болело подольше.
Но он чуял в ее слегка презрительных словах правду. Да, он всю жизнь скучал по Стеше и Барышне. Не тосковал – глупо тосковать по людям, прожившим такую неохватно длинную жизнь, – а именно скучал, искренне повторяя себе, что они тоже по нему скучают – там, на мертвенной равнине бесконечной мессы… Часто напевал «Стаканчики граненыя», что перед смертью бормотала себе под нос уже полностью спятившая Барышня. Да, он скучал по ним. И, вероятно, потому так доверчиво и крепко, с первой же встречи привязался к Иммануэлю.
…И дело не в группе, не в кларнете, не в признательности за то, что Иммануэль оплатил покупку инструмента и подарил главное: возможность учиться; всего-навсего вернул Музыку.
Никто не упрекнул бы Леона в неблагодарности: он принимал участие во всех благотворительных концертах Иммануэля, которые время от времени тот устраивал в своем «бунгало», собирая весьма достойные суммы – то на жизнь какому-нибудь очередному страдальцу, лысому после химиотерапии, то на психологическую реабилитацию каких-то несчастных женщин, битых мужьями, то на покупку трех собак-поводырей для слепцов, почему-то выпавших из бюджета общества слепых.
В такие дни из Савьона в Иерусалим присылали машину с шофером – за Леоном и «верным Гришей», что аккомпанировал всем сборным сосенкам домашних концертов. Безотказному «Грише» было за семьдесят. Заслуженный деятель культуры Адыгейской АССР и действительно хороший пианист, он скучал по своим брошенным студентам, радостно откликаясь на любое приглашение помузицировать.
На «верного Гришу» можно было положиться в любую погоду, при любом насморке и прочих «форсмажорных» обстоятельствах.
(Это он научил Леона правильно выходить на поклоны: «Не кивай, как понурый ишак, только чуть наклони корпус… еще глубже… и еще… А теперь резко выпрямись и – правая рука на сердце – улыбайся! непременно улыбайся!»)
Благотворительные концерты Иммануэля были для «верного Гриши» настоящей отдушиной, праздником, к которому он готовился загодя и потом долго и бурно переживал: и поездку в роскошном лимузине, и «прием гостей» – в просторном холле, на фоне открытого «бехштейна» (подлинного берлинского «бехштейна», привезенного в Палестину в начале века, отделанного светло-коричневым буковым шпоном, – непревзойденного «бехштейна», чей дискантовый регистр рассыпался хрустальными колокольчиками); и само выступление перед отборной публикой. В холле на пластиковых стульях, взятых напрокат, свободно рассаживались человек пятьдесят (и что это были за люди!). Ну, а после концерта гостей ждал сервированный в патио изысканный обед с отменными винами, непременным горячим блюдом и фирменными «пирожками от Фиры» (уф! – с горохом и чесночком!), – которые можно было умять штук восемь за один присест, глазом не моргнув.