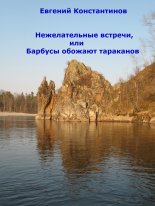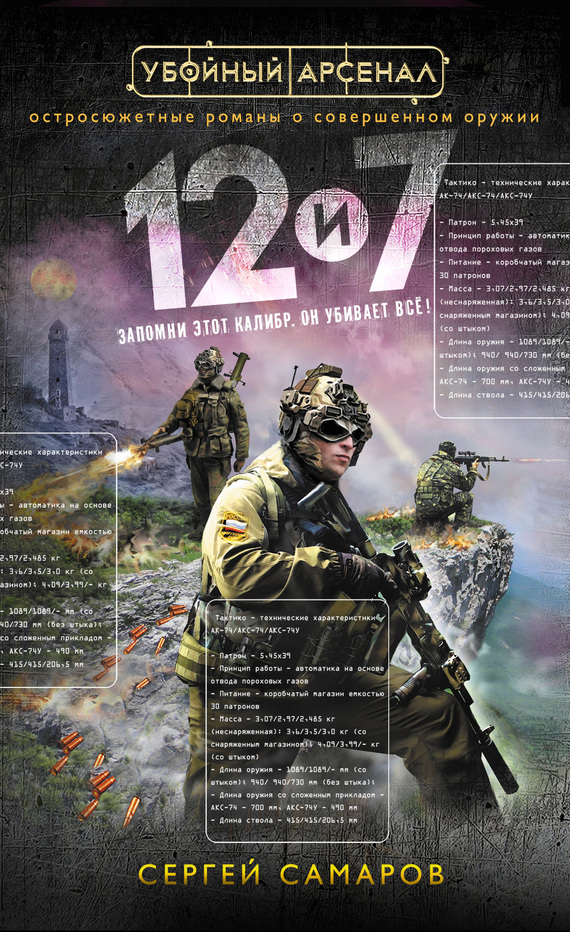Тайные полномочия Чиж Антон

Точку на карте Везенбергского уезда Эстляндской губернии с названием Тапс и вспоминать не стоило, если бы не забавное обстоятельство: городок именовался в точности, как знаменитое селение к югу от Карфагена, у которого Цезарь в пух и прах разгромил Помпея, воюя за сердце царицы Клеопатры. К счастью, студеные ветры истории местных жителей обошли стороной. Городок вел мирную жизнь заштатной провинции бескрайней империи. Жители возделывали сады и огороды, ложились рано и вставали засветло, раскормленные свиньи бродили где им вздумается, телеги с сеном и картошкой встречались куда чаще приходского пастора и школьного учителя, а местные коровы славились жирностью молока. Такой, что сливки сами вставали густой шапкой над горлышком крынки. Жизнь в городке текла неторопливо и размеренно, как местное пиво. Дел у уездного полицейского исправника было немного, разве что разнять на праздник не в меру горячих эстляндских парней. От такой службы исправник толстел, краснел и рисковал не влезть в форменный кафтан.
Покой городка нарушали лишь свистки паровозов, прибывавших и отправлявшихся по расписанию. Тапс был узловой станцией Балтийской железной дороги, через которую столичные поезда следовали или в Ригу, или в Дерпт. Станционный дом, сложенный из красного кирпича, был не больше дровяного сарая, но при нем имелась водокачка с поворотным рукавом и угольный тендер, чтобы пополнять запасы воды и топлива для паровозов. Кроме стола начальника станции в тесное помещение поместились столы телеграфиста и жандармского надзирателя. Для пассажиров, какие могли сюда заглянуть, места не осталось, так что лавку для них выставили на перроне, то есть на утоптанной полоске земли около рельсов.
Пассажиры на станции были редкими гостями. Местные жители передвигались все больше на телегах, а поезда проскакивали мимо, обдавая клубами пара и оглушая ревом свистка. Только раз в день состав останавливался на пару минут. С подножек соскакивали чистые господа, брезгливо осматривали станцию, возмущались отсутствием буфета, выкуривали папироски и бросали окурки прямо на пути, что сильно огорчало начальника станции Рюйтеля, обожавшего порядок во всем. Откровенно говоря, станция нужна была для того, чтобы обслуживать железнодорожную стрелку.
Командовал стрелкой (то есть несколько раз за сутки дергал поворотный рычаг вперед и назад) стрелочник Реэде. В городке он был знаменит тем, что мог заснуть в любом месте и в любое время суток. Стоило Реэде присесть в тихом уголке, как он тут же погружался в сладкую дрему. Начальнику станции Рюйтелю приходилось неусыпно следить, чтобы стрелочник не проспал прибытие поезда и направляющиеся в Дерпт не оказались в Риге. Рюйтель пинал Реэде в бок и прочие места до тех пор, пока тот окончательно не продирал глаза. Такого соню на любой другой станции рассчитали бы в два счета, тем более что ему перевалило за шестьдесят, но Рюйтель отчего-то не выгонял ленивого подчиненного. Стрелочника спасало от неминуемой пенсии то, что на станции, кроме него, других развлечений не было. Реэде спал при каждом удобном случае, а начальник Рюйтель нещадно будил его строго в соответствии с расписанием поездов. Сколько держался такой порядок, никто уже и не помнил. Но держался он крепко.
За час до полуночи 15 марта 1896 года Реэде спал с чистой совестью в станционном доме. Дневные поезда проследовали в нужном направление, о чем позаботились начальник Рюйтель и его крепкий кулак, а ближайшие ожидались не ранее шести часов утра. Допив свежесваренный кофе, начальник Рюйтель взглянул на часы, которые отбивали каждые полчаса хриплым ударом маятника, сверился с карманным хронометром (носил его на толстенной цепочке, чтобы все в городе знали, какой он важный человек!), и окончательно убедился, что делать на станции сегодня больше нечего. А тут еще Реэде принялся посапывать с поросячьим присвистом, отчего захотелось вылить на него графин воды. Начальник Рюйтель одарил стрелочника презрительным взглядом, от которого тот должен был растаять, как воск, приятно потянулся все телом и уже нацепил форменную фуражку, как ни с того ни с сего ожил телеграфный аппарат.
Начальник Рюйтель уволил телеграфиста, чтобы добавлять к скромному жалованью лишнюю копейку, а потому сам подхватил бумажную ленточку, выползавшую из вертящегося колеса. Сообщение было кратким, строгим, требовавшим строжайшего исполнения и, что самое главное, срочным. В конце вылезла подпись, от которой начальника Рюйтеля бросило в пот. Депешу на заштатную станцию прислал сам директор Балтийской железной дороги. Это было столь невероятно, что начальник Рюйтель усомнился в своем знании русского языка и даже перепроверил по словарю. Словарь подтвердил, что смысл понят им верно. За исключением адресата, в телеграмме не было ничего необыкновенного: предписывалось направить состав, следовавший от станции Юрьев к станции Везенберг. Поезд сверх расписания был именован экстренным и двойным литерным, то есть наивысшей степени важности. Важнее мог быть только поезд, перевозивший императорскую фамилию. Пытаясь догадаться, что бы это значило, начальник Рюйтель взглянул на часы и уже испугался не на шутку. До подхода литерного оставалось три минуты, а стрелка все еще не была переведена.
Реэде получил такой удар, от которого не только проснулся, но вскочил сразу. Начальник Рюйтель крикнул ему: «Бегом!», – и сам побежал в ночь. Таким взволнованным Реэде его никогда не видел. И хоть не привык он торопиться, что-то подсказало, что сейчас надо шевелиться без лишних вопросов. Стрелочник припустил, но нагнал начальника около стрелки.
– Что случилось, господин Рюйтель? – спросил Реэде, берясь за рычаг, который никак не поддавался начальнику. – Поездов нет до утра. Или уже утро? Неужели я столько проспал?
– Переводи на третий путь, Реэде! – закричал Рюйтель, дергая рычаг изо всех сил.
Стрелка, застрявшая в самый неподходящий момент, наконец скрипнула и сдвинула рельсы в нужную развилку. Схватив стрелочника за шиворот, начальник Рюйтель оттащил его в сторону. И очень вовремя.
Из тьмы в облаке пара вылетел стальной таран паровоза, как сказочное чудовище, вырвавшееся из векового плена и ревом оглашающее свое освобождение. За ним неслись вагоны. Было их всего два, и каждый горел таким ярким освещением, как будто внутри пылало светило. Последний, третий, вагон пролетел черной тенью. Поезд шел на предельной скорости, не меньше пятидесяти километров в час, мелькнул стремительным призраком и прощальный гудок послал издалека. После него еще долго носился ветер и поднятый сор.
Начальник Рюйтель молчал. Молчал и стрелочник Реэде, которому даже расхотелось спать. Оба боялись шевельнуться, словно не могли оправиться от впечатления, которым наградил скромных служащих полуночный экспресс.
– Что это было, Реэде? – наконец проговорил начальник Рюйтель, рассматривая темноту над путями, блестевшими полировкой рельс.
– Не знаю, господин Рюйтель, – ответил стрелочник. – Я всего лишь стрелочник. Как нам понять?
– Сколько было вагонов, Реэде?
– Очень короткий поезд. Один пассажирский класса люкс, другой вагон-ресторан, господин Рюйтель. Багажный вагон я не стал считать.
– Правильно, Реэде. Очень короткий экспресс. Такого я никогда не видел.
– Я тоже, – согласился Реэде. – Чего не придумают в столице.
– Ты ничего не хочешь мне сказать, Реэде? – спросил начальник Рюйтель, разглядывая темноту. – Ты что-нибудь увидел?
– Не знаю, что я видел, господин Рюйтель. Наверное, я ничего не видел. Наверное, я еще не проснулся. Да, так и есть, я еще не проснулся. Мне все привиделось.
– Говори, что ты видел. Я тебе приказываю, – потребовал начальник Рюйтель и ткнул стрелочника в бок. – Что ты видел в окне?
– Я видел, что окно в одном купе было раскрыто. Только одно из всего вагона. Вот что я видел.
– Этого мало, Реэде, ты так просто не отвертишься. Что ты видел в окне поезда?
Стрелочник замялся, так не хотелось ему вспоминать о том, что привиделось. Наверняка это обман зрения, какой иногда случается на железной дороге, когда поезд очень быстро едет. Начальник Рюйтель был непреклонен и строго потребовал ответа.
– Хорошо, я скажу вам, господин Рюйтель, даже если вы будете смеяться и потом расскажете всему городу, что старый Реэде сошел с ума.
– Я не буду смеяться над тобой, Реэде. Даю тебе слово.
– Тогда слушайте… В раскрытом окне я увидел человека, раскаленного, как паровозная топка, он пылал ярким пламенем, как стог сена. И так размахивал руками, как будто хотел утащить за собой в преисподнюю…
Реэде закрыл глаза, и странная картина опять предстала ему во всей яви. Что делал этот горящий человек? Почему он хотел утащить за собой бедного стрелочника? Человек ли это был? Реэде поежился, хотя чувствовал жар, и на всякий случай перекрестился. Утром он сходит к пастору, исповедуется в грехах и поставит свечку. Давно не ходил в церковь, вот и получил наказание.
– А вы что видели, господин Рюйтель?
На этот вопрос начальник станции не мог ответить самому себе. То, что он увидел, было столь удивительно, что признаться в этом было невозможно. Он же не какой-нибудь крестьянин с хутора, который верит в разные глупости, он человек солидный, уважаемый. Нет, он ничего не видел. Просто поезд слишком быстро проехал.
Сколько бы начальник Рюйтель ни убеждал себя, что ему только показалось, перед глазами упрямо вставало лицо того человека из окна. Хотя лица не было. Вместо него – пунцовая, натужная маска с выпученными глазами и разорванным ртом, какой не может быть у живого человека. Не бывает такого. Нет, это всего лишь суеверия. Им не место на железнодорожной станции в конце просвещенного девятнадцатого века. Ничего не было. Он всего лишь пропустил экстренный литерный в направлении станции Везенберг.
Начальник Рюйтель прикрикнул на стрелочника и пошел к станционному дому. Возвращаться в свой дом ему расхотелось. Наглая рожа корчилась и не отставала. А руки так и тянулись к начальнику Рюйтелю из раскаленного окна. Словно и в самом деле хотели утащить за собой.
Санкт – Петербург. Главный Варшавский вокзал
Варшавская ж/д
1
За окном раскисал март. Снег превратился в черную грязь, которую размешивали колеса пролеток, калоши пешеходов и метелки дворников. С крыш капало. От карнизов отрывались куски льдин, разбиваясь с гулким хлопком, отчего вздрагивали стоявшие лошади, а извозчики усмиряли их, дергая за вожжи и сдабривая это непечатными словечками на всю улицу. Весна стучалась во все двери. Великий пост подходил к концу, оставалось говеть меньше двух недель. Столица империи так соскучилась по теплу и веселью, так устала от зимы и ранней оттепели, что считала деньки до 24 марта, когда можно будет отмечать Пасху и вознаградить себя за лишения поста.
Осмотрев сырой проспект, Анатолий Граве отпустил штору и улыбнулся. Нельзя сказать, что он любил это время года. Трудно любить сырость, которая проникает под одежду, оборачиваясь потом долгим насморком, знакомым каждому столичному жителю. Да и развлечений для молодого человека явно недостаточно: все театры, кроме Французской оперы, закрыты, балетов нет, концертов нет – тоска и скука. И все равно у Граве сегодня было отличное настроение. Он ощущал себя великолепной статуей из мышц и молодых, здоровых костей. Статуя эта была одета в новенький костюм, пошитый у модного петербургского портного: игривая жилетка, строгие формы сюртука и брильянтовая булавка в галстуке. Граве знал, что выглядит не просто отлично, а «сногсшибательно», так, что дамам глаз не отвести, и принимал восторженные взгляды как должное. В конце концов, для чего еще нужны двадцать пять лет, как не для того, чтобы блистать беззаботно?
Куда важнее отличной формы, которую он старательно поддерживал, были успехи не столь заметные. Проведя три часа после завтрака за карточным столом, Граве положил в портмоне пять десятирублевых бумажек. Не сказать, чтобы выигрыш был большой, а если еще честнее – достаточно скромный. Важнее другое: Граве сумел наказать одного зарвавшегося господина, который хвалился, что всегда выигрывает. Теперь господин этот краснел, но сделать ничего не мог. Граве еще и пожалел его. Надо было посадить рублей эдак на триста. Но ничего, никуда не денется. Сам норовит в капкан. Наверняка предложит матч-реванш.
Так и случилось. Подойдя к Граве и пахнув дешевым сигарным духом, господин изъявил желание отыграться не позже чем завтра. Ставки будут не по рублю, а по червонцу. А если мало, так он и на сто рублей согласен. Граве выразил полную готовность быть к услугам резвого господина. На чем и расстались. Господин отправился в буфет заливать проигрыш, а Граве спустился в гардероб клуба, получил свое модное пальто и вышел на Вознесенский проспект. В него вцепился холодный ветер, под ногами захлюпало, но все это была такая, в сущности, мелочь, что Граве опять улыбнулся.
С улыбкой он обернулся, услышав свое имя. Перед ним стоял невысокий господин в скромном, но чистом пальто, довольно почтенного возраста. С первого взгляда Граве, как опытный игрок, отметит жесткие, обтесанные черты лица, резкий, неприятный взгляд и английское кепи вместо приличной шляпы или цилиндра. Он не смог бы определить, сколько лет незнакомцу: где-то в промежутке от сорока до семидесяти. В одном Граве был уверен: общих знакомых у них нет и быть не может. Ему отчего-то сразу захотелось не иметь с этим господином дела, каким бы оно ни было. Лучше всего – расстаться сразу и навсегда.
Между тем незнакомец приподнял кепи, назвался Семеном Пантелеевичем, забыв, впрочем, упомянуть фамилию, и сообщил, что обратиться к нему рекомендовал близкий знакомый. Услышав, от кого пришел «забавный старичок», как про себя назвал Граве этого господина, он смягчился, спросил, чем может быть полезен, и вернул улыбку. Семен Пантелеевич, заверил, что дело совершенно пустяковое, но не стоит торчать посреди улицы да в такую «непогодь», того глядишь, схватишь простуду. Он предложил заглянуть в ближайшую «Мальту», и хоть Граве не очень любил простые заведения, но отказаться было неловко.
В ресторане, которым именовали трактир с крепкими напитками, Семен Пантелеевич предложил отобедать от души, но обедать раньше десяти вечера было совершенно немыслимо, особенно с водкой. Граве вежливо отказался, согласившись на чай. Он заметил, что новый знакомый как бы случайно выбрал самый дальний столик, да еще такой, что рядом никого не было. Половой, знавший Семена Пантелеевича, появился с самоваром и набором закусок стремительно, а исчез легким дуновением. Прекрасное настроение стало закисать в чуждой обстановке. Граве напомнил, что готов поговорить, однако времени у него не так много.
Семен Пантелеевич согласно кивнул, разлил чай и положил себе на тарелку солидный кусок холодной лососины.
– Дело у меня к вам, господин Граве, такого рода, что надо бы нам найти одного вора, – сказал он. – И найти как можно скорее.
Граве решил, что «забавный старичок» наверняка подшутил для разговора. Хотя по его виду этого не скажешь. Как-то не вяжутся с ним шутки и веселье.
– Но позвольте, чем же я могу помочь? Для этого есть полиция, в конце концов, сыскная. Вы не по адресу обратились, любезный…
«Забавный старичок» заглотнул кусок лососины и подмигнул:
– А я так уверен, очень даже по адресу. К нужному человеку обратились. Нам ошибаться никак невозможно. Что же до полиции, то к ней мы обращаться отродясь не приучены. Последнее дело к каплюжникам[1] на поклон идти. Так-то вот…
Разговор принимал совершенно ненужный оборот. Граве не мог понять, отчего ему стало так неуютно и что такое неприятное проявилось в этом человеке. Не желая разбираться в подобных мелочах, он счел, что долг дружбы отдал вполне и теперь может со всем этим покончить. Граве вежливо поблагодарил за обед, к которому не прикоснулся, и даже привстал из-за стола, чтобы прощаться, но тут «забавный старичок» приказал сесть на место. Граве воспринял этот именно так. Вместо того чтобы оборвать этого типа раз и навсегда, он подчинился. Таким настойчивым вышло предложение Семена Пантелеевича.
– Ты не спеши, мил-друг, – сказал он, без всяких церемоний переходя на «ты». – Разговор у нас не закончен, а как будет закончен, так я тебе укажу. Выпей лучше чайку, сразу подобреешь.
– Да вы в своем уме? – спросил Граве, не особо нуждаясь в ответе.
– Только умом и пробавляемся. А вот ты, как погляжу, не понял, что тебе слушать полагается. Чтоб не пожалеть горько.
– Да кто вы такой…
– Такой, что тебе знать не полагается. Ни к чему это. А вот про тебя нам все известно, не сомневайся…
И тут «забавный старичок», не торопясь, в деталях, выложил столько интересных и опасных сведений из жизни Граве, что тому оставалось только слушать молча. Он был уверен, что такого не случится никогда. Просто невозможно, потому что он никогда и ни с кем не делился своими маленькими победами. Это было что-то вроде спорта, вовсе не способ заработать деньги, скорее развлечься и ощутить сладость победы. Во всех его победах важнее всего была тайна. Граве не сомневался, что его мастерство никому не известно. Иначе красивая столичная жизнь давно бы закончилась, его не пустили бы ни в одни приличный дом, не то что клуб. И вдруг оказывается, что какой-то «забавный старичок» кропотливо собрал столько фактов, что хватит на бухгалтерскую книгу.
– …вот и сегодня пять червонцев умеючи срезал. В общем, прими мое уважение: редкий ты мастер, хоть и самоучка, прямо-таки доморощенный маэстро, – закончил Семен Пантелеевич. – Только про мастерство твое лучше бы друзьям твоим не знать ничего. А полиции – тем паче. Как думаешь?
Граве схватил остывшую чашку и выпил, не чувствуя вкуса. Нужно было время, чтобы сообразить, как себя вести, что-то придумать, быть может, все отрицать. «Забавный старичок» привел такие факты, будто стоял за спиной. Слишком много знает. Не хватало еще письменных свидетельств. Нет, влип основательно, взяли за жабры так, что и не пикнуть. Никуда не деться с крючка. Разве бежать?
– Темными мыслями зря себя не стращай, – сказал Семен Пантелеевич, расправляясь с новым куском лососины. – Мы тебе зла не желаем. Коли слово дашь и сдержишь, душить тебя не станем. Незачем.
– Это шантаж, – сказал Граве и не узнал собственного голоса, таким сдавленным и жалким вышел ответ.
– Называй, как хочешь. Я бы сказал по-другому: одолжение дружеское. Вдруг тебе помощь понадобится, будешь знать, к кому обратиться. Мы много чего можем…
– Что вы хотите от меня?
– Тебе же сказали: вора нам найди.
– Каким образом я буду…
– Да ты не спеши, – перебил его Семен Пантелеевич. – Не купца обыгрываешь. Тут дело тонкое. С вором этим ты рядом ходишь, да только не знаешь об этом. А там, где ты ходишь, нам ходу нет. Вот и помоги нам.
– Прошу простить, я не понимаю, о чем вы…
– Уже лучше. Значит, согласен слушать. Это другое дело. А дело такое, что везде должен быть порядок. Особенно в воровстве. Ремесло это трудное, ему обучаться надо. Нельзя, чтоб на самотек шло. Я за ним приглядываю. Но вот такая история вышла, что появился у нас вор, который сам по себе жилит. Да так затяпает, что на весь воровской мир тень бросает. Где драгоценные безделушки, где сережку, где колечко, а дальше – все. Такой вот марушник[2] чистых кровей выискался.
– Что значит «все»? – спросил Граве.
– А то и значит, что берет без всякого толку. Как сорока блестяшку утащит, и никакой пользы. Пропадает бесследно. Так нельзя, это непорядок. Воровство должно пользу приносить миру. А тут что же получается: богатые дома обносит, а мир воровской не знает, кто таков и кто ему позволил. Непорядок. Слышал о таком умельце?
Граве признался, что ничего конкретного в светских сплетнях не проскальзывало. Какие-то смутные намеки, не более того. В одном он был уверен: жертвы воровства шум не поднимали и с другими не делились. Их можно понять. Неприлично рассказывать в обществе, что пропала какая-то сережка. Может, сама затерялась.
– Не можем понять, кто таков. На тебя теперь вся надежда.
– Что именно от меня требуется?..
– Да всего-то навсего разузнать про этого ловкача, найти на него непременные доказательства и нам указать. Пустяковое дело. Ну а мы по-своему с ним потолкуем.
Граве заставил себя посмотреть на это предложение с другой стороны. Да, отказаться от него нельзя. Но, быть может, это не так плохо. Если смотреть на это дело как на новое развлечение. Действительно, любопытно разузнать, кто же это так ловко грабит светские салоны? И при этом никто не заявил претензии.
– Есть предположения, кто это может быть? – спросил он.
Семен Пантелеевич от такой чести отказался.
– Когда б знали, тебя не трогали бы. И без того против правил пошли. Одно известно: называет он себя Лунным Лисом.
– Как? – в изумлении переспросил Граве. Трудно было ожидать, что в конце циничного девятнадцатого века в России найдутся воры-романтики. Хотя бы в ярких псевдонимах.
Ему подтвердили: именно Лунный Лис. Для настоящего вора такая кличка – прямое оскорбление. Кличку мир дает, а не так, чтобы сам себя назвал – и ходишь гордый. Но за это с ним отдельный разговор будет.
– Только не тяни, друг Граве, – сказал Семен Пантелеевич, вдруг поднимаясь из-за стола и бросая салфетку. – Нам его найти срочно надо. Ну, прощай, маэстро.
– Позвольте… – возмутился Граве тем, что обещания свого не дал, а сдержать его все равно придется, и закончил совсем не так, как хотел: – …Где вас найти?
– Мы сами тебя найдем. Сроку тебе три дня… А если совсем невтерпеж будет или что горячее наскребешь, так обратись к любому мазурику или нищему в Казанской части, скажи: «Стеньке-Обуху весточка имеется», – тебя и отведут куда следует. На прощание тебе скажу: хитрить с нами не надо. Мы же проверим. Если на невиновного человека укажешь, с тебя же спрос будет. У нас ведь не полиция, законы соблюдаем. Очень нам этот Лис нужен.
Семен Пантелеевич подмигнул и пошел к выходу. Подбежавшему половому он что-то бросил на ходу, тот с поклоном обещал исполнить в лучшем виде. Подлетев к Граве, половой спросил, не желает ли господин чего отведать, все за счет заведения.
Аппетит, как и настроение, были решительно потеряны. Граве думал, как подступиться к этому делу так, чтобы из капкана выскочить и не дать на растерзание светского человека. Какой бы он ни был, но не отдавать же его в лапы какого-то Стеньки-Обуха. А если не отдать – разоблачение. «Забавный старичок» не пощадит, все раскроет. Такой конец – хуже смерти. Как бы мимо проскользнуть?
Граве понял одно: ему срочно требуется размять мышцы в атлетическом зале.
2
Граф Дмитрий Андреевич Толстой вернулся в свой кабинет в скверном расположении духа. Заседание совета министров прошло так, что оставалось только скрежетать зубами от бессилия. Опять этот выскочка добился всего, чего хотел. Больше всего министра внутренних дел возмущало, каким доверием молодой государь наградил господина Витте. Кажется, если попросит министр финансов, отказа ему не будет ни в чем и никогда.
Владея в государстве властью, какой ни у кого из министров не было, граф Толстой оказался совершенно бессилен пред надвигавшейся реформой. Дмитрий Андреевич твердо знал, что для России нет ничего хуже реформ. Это он усвоил, еще когда был министром народного просвещения. Живет народ потихоньку-помаленьку, и не надо его баламутить. Уж как-нибудь справится. А ведь этот что задумал: провести денежную реформу! Загорелся шальной идеей привязать родной российский рубль к золоту, чтобы сделать его твердой валютой. Да кому это нужно? И так уже все привыкли к бумажным ассигнациям, зачем же их на золото менять?
Граф искренне не понимал смысла реформы и не желал сделать над собой малейшего усилия, чтобы понять, что именно предлагает Витте. Он твердо стоял на своем, что от такой реформы вред будет огромный, того глядишь, Россия окажется на положении колонии, вроде какой-нибудь Индии, из которой все золото вывезут, поменяв его на бумажки. А польза от всей суеты неопределенна и сомнительна.
Обещаниям Витте провести реформу так, что и никто не заметит, граф Толстой не верил. Он точно знал: стоит тронуть незыблемое здание государства Российского, как все посыплется. Еле-еле успокоили после глупости 1861 года, и опять все сначала. А кому расхлебывать реформы и волнения, которые неизбежно начнутся в народе? Конечно, ему, министру внутренних дел.
И никак эту беду не остановить. Мало того, что сам Витте прет, как разогнавшийся паровоз, так еще набрал шайку молодых да ранних чиновников, таких же негодяев, как он сам, и вся эта команда так взялась за дело, что того и гляди, действительно устроят реформу. Вот уж тогда все наплачутся. Да поздно будет, вспомнят еще старика Толстого, как он предупреждал. И никак до государя не достучаться, словно околдовал его Витте, а всего вернее: наобещал с три короба.
Многие считали графа Толстого твердолобым ретроградом, врагом прогресса и затхлым чурбаном. Но в его позиции было главное: последовательность. Он никогда не менял своего мнения, считая, что все новое заведомо хуже старого. И это было его большим преимуществом.
Министр раздраженно потребовал чаю и уселся за большой стол, за которым виднелась в огромных окнах река Фонтанка и здание его бывшего министерства народного просвещения, которое смыкалось над площадью со зданием МВД в полукруглом ансамбле.
К шестидесяти годам Дмитрий Андреевич сделал великолепную карьеру, добившись практически всего, о чем может мечтать чиновник. Дальше двигаться было некуда. Выше только трон. Но и к трону вот так запросто не подойдешь, даже с его высоты. Тут нужна осторожность. Если государь хочет реформ, пусть попробует. Главное, чтобы заранее уменьшить неизбежный вред. Как это сделать, граф Толстой не мог придумать. Тут даже его знаменитое обаяние не помогло. Многие попадали в его опасные сети.
Дмитрий Андреевич был удивительно похож на печального спаниеля, со свисающими жвалами, грустными и добрыми глазами и общей харизмой добродушного старика. Казался он таким славным, что нельзя отказать его просьбе. Просто милый песка, который готов служить и лизать руку, ласкающую его. Однако государь никак не реагировал на робкие попытки графа Толстого остановить денежную реформу. Или знал, что скрывается за этим милым и печальным выражением, или принял окончательное решение.
Послужив уже двум императорам, граф Толстой хорошо знал, что такое царская воля, порожденная романовским упрямством. Молодой царь коронован-то будет только в мае, а вот уже характер державный проявляет. И не сладить с ним даже министру внутренних дел. Если только не постараться открыть юному монарху глаза на людей, которым он имел неосторожность довериться.
Граф Толстой требовательно позвонил в колокольчик. Явился секретарь, дежуривший в приемной.
– Найди мне полковника Секеринского, да поживее, – приказал он.
Секретарь вернулся стремительно, доложив, что начальник охранного отделения находится у себя, ожидая телефонирования от министра. К новомодной игрушке – телефонному аппарату – граф Толстой тоже относился настороженно. Вот еще идея, говорить по проводам! Чего доброго, сидит где-то умный человек и все подслушивает. А для предстоящего разговора посторонние уши совсем не нужны.
Отбросив даже мысль об этом, министр распорядился ехать в один скромный особняк на Крестовском острове, МВД содержало его для встреч, которые не следовало афишировать. В этот же особняк было приказано явиться полковнику Секеринскому в положенный срок. Секретарь отправился вызывать карету министра и телефонировать в охранку, а граф Толстой начал просчитывать варианты развития событий, прикидывая, какой из них более всего подойдет к сложившемуся политическому моменту. Таких аналитических способностей недруги никак не могли ожидать от твердолобого старика. Быть может, поэтому он стал министром, а недруги его остались далеко позади.
3
Отжавшись на брусьях тридцать раз, князь Бобрищев-Голенцов решил, что на сегодня достаточно. Он мягко спрыгнул на паркет и закончил стойкой с идеально прямой спиной. Тренировка вышла усиленной, как и все последние дни. Князь совершенно забросил светскую жизнь и пропадал в атлетическом манеже. Он увеличивал нагрузки, тренируя не только плечевой пояс, необходимый для метания диска, но и остальные группы мышц. Такое упорство было неожиданным сюрпризом для его многочисленных друзей. Всем было известно, что князь с древней фамилией – веселый бездельник, отличный друг и душа любой компании, именуемый на английский манер Бобби, ничем не может увлекаться постоянно, любое дело, за какое возьмется, бросает на половине, и вообще самый милый человек и друг, но совершенно несобранный человек. В более низких слоях общества его непременно назвали бы лоботрясом, но в светском обществе ярлыки клеят куда мягче. За Бобби уверенно закрепилась слава славного, но ветреного малого. Хотя назвать «малым» мужчину чуть не в две сажени ростом, кирасирского сложения не у всякого язык повернулся бы.
Бобби ощутил каждую мышцу и нашел, что тренировки пошли ему на пользу. Набирается сила перед самым важным в его жизни соревнованием. Ради него Бобби стал дисциплинированным и усердным. Он вдохнул воздух атлетического манежа, густо пропитанный потом, помахал приятелям, которые упражнялись с кольцами и конем, и отправился в душевую. В холл он вышел свежим, пахнущим молодостью и банным мылом, и такое от него лучилось здоровье, что распорядитель Матвеев невольно заулыбался. На многих Бобби действовал как солнечный свет. С ним сразу хотелось подружиться или перекинуться словечком. Обаяние Бобби было чистым, а потому безотказным.
Часы пробили полдень. Бобби вспомнил, что опаздывает безобразно и получит нагоняй. Так что торопиться не имело смысла. Он не спеша надел пальто, пошутил с гардеробщиком и швейцаром, подбил усики, глянув в большое зеркало, и, найдя себя вполне неотразимым, вышел на улицу. С пролетки как раз спрыгнул Граве. Заметив князя, он кинулся к нему, чтобы начать срочный разговор, который нельзя откладывать. Бобби не был расположен опаздывать совсем уж неприлично.
– До вчера потерпит! – заявил он, хлопнул Граве по плечу, взошел на пролетку и приказал трогать.
Он доехал до большого особняка на Малой Морской улице, где доживала своей век его родная тетушка, бывшая фрейлина при дворе императора Александра III. Старая княгиня Мария Кирилловна души не чаяла в племяннике, хотя имела двух сыновей. Она восседала в большом вольтеровском кресле, в которое поместилась с некоторым трудом, обмахивалась платочком и встретила вошедшего грустной улыбкой.
– Какая приятная неожиданность! Мой милый Бобби явился, – сказала она, подавая полную упругую ручку.
Бобби, недолго думая, бухнулся на колени, ударился лбом об пол, молитвенно сложил ладони и состроил физиономию, умильную до невозможности.
– Прости меня, обожаемая родственница! Виноват! Каюсь! Молю о прощении.
Тетка еле сдержала улыбку, сердиться на племянника не было никаких сил.
– Ну что ты, друг мой, какие могут быть обиды. Ты опоздал-то всего на каких-то несчастных полтора часа. Сущие пустяки.
Поцеловав теткину руку, Бобби нежно прижался к ней щекой.
– Ну, прости, это в последний раз. Все эти тренировки, режим и все такое спортивное. Обещаю всегда приезжать к тебе секунда в секунду.
– О, не сомневаюсь. Если ты научишься опаздывать хотя бы на полчаса, я буду самой счастливой из женщин. На большее уже не рассчитываю.
– Слово мое непреклонно! – сказал Бобби, вставая с колен и усаживаясь в ближнее кресло. – Заметь, тетя, я бросил курить. Ну, пока бросил. Спорт для меня – это все.
– Как поживает твоя Олимпиада?
– Прекрасно! Подготовка идет на всех парах. Гоняем себя до седьмого пота, только и делаем, что тренируемся в атлетическом зале. Ни на что времени не остается. Мышцы, как сталь. Соперников мы порвем на мелкие клочки.
– Как это мило. Но я спросила про твою невесту.
– Ага, так ты про Липу! – вскрикнул Бобби. – Она тоже прекрасно себя чувствует. Сегодня увижу ее на собрании команды. Дам тоже пригласили. Пусть порадуются.
– Бедная девочка, – сказала Мария Кирилловна. – Как она могла согласиться выйти замуж за такое несносное чудовище? Я еще удивляюсь, отчего она была так грустна на моем приеме. С таким женихом лучше в петлю, чем под венец.
Бобби сделал вид, что оскорбился.
– Тетя, ты ко мне несправедлива. Я – образец жениха и будущего мужа. И если я готовлюсь к одной Олимпиаде, это не значит, что я забыл про другую. Ну как?
– Каламбуры – не твой конек, – ответила старая княгиня, глядя на цветущую физиономию племянника и невольно думая, что нет женщины, которая бы не простила этому бездельнику все что угодно. – У меня к тебе дело. На этот раз довольно серьезное. Постарайся собрать все свое внимание, вникнуть в него, хотя бы ради меня.
Племянник дал слово, что готов служить обожаемой родственнице до последней капли крови. При этом не забыл взглянуть на часы.
Оказалось, что у Марии Кирилловны случилась неприятность. Исчез дамский портсигар. Ценен он не золотом, а тем, что хранилось в секретном отделении под шелковой подкладкой. Что именно было в портсигаре, тетка отказалась говорить наотрез. Вещь чрезвычайно важная, отданная ей на сохранение. На пропажу портсигара она не стала обращать внимание. А вот потеря вещицы неприятна. И может иметь далеко идущие последствия. Тот, кто взял портсигар, скорее всего не догадывается о том, что в нем хранится. Это было бы к лучшему. Но если украдено с умыслом, тогда дело принимает дурной оборот.
– Возможно, портсигар затерялся, – сказал Бобби не слишком уверенно.
– У меня ничего не теряется, – ответила тетушка. – Слуг уже допросили и обыскали. Пришлось мне обратиться к старинному другу, Николаше Сабурову, он нынче директор департамента полиции. В юности был в меня влюблен. Но это в прошлом. Обещал взяться за это дело со всей тщательностью. И представь: с утра от него уже приходил какой-то моложавый господин. Такой внимательный, все вынюхивал, расспрашивал меня и слуг, и глаза у него, знаешь, Бобби, такие вкрадчивые, словно хочет вывернуть душу наизнанку. Но усы у него, откровенно скажу, вульгарны.
– Так он нашел пропажу?
– Разумеется, нет!
– Чем же я тебе могу помочь?
– У тебя в друзьях вся столица, вот и поспрашивай…
Бобби искренно не мог понять, что от него хочет родственница.
– О чем, тетя, мне спрашивать? Не ты ли, друг мой, украл портсигар княгини Марии Кирилловны?
– Нет, милый племянник, совсем о другом надо расспрашивать. Постарайся узнать, кто это называет себя Лунным Лисом.
Мария Кирилловна заметила, что с лица Бобби слетело привычное выражение легкой беззаботности. Он стал серьезен и даже немного строг, что было непривычно.
– Откуда ты узнала, что портсигар украл именно Лунный Лис? – спросил он.
– И ты уже слышал об этом субъекте? – ответила тетушка. – Выкладывай, что там у вас болтают в мужских компаниях.
Бобби признался, что до него доходил какой-то слух, но значения ему не придавал.
– Портсигар пропал в доме, значит, Лунный Лис оказался у тебя, – сделал он неизбежный вывод. – Признавайся, кого из столичных преступников ты пригласила на прием?
– Не болтай глупостей! – Тетка махнула на него платочком. – Были только наши, все свои. И говорить не о чем. Ты можешь помочь мне, порасспросив своих сплетников.
– А что Лис оставил вместо портсигара? – наконец вспомнил Бобби.
– Вы слишком любопытны, князь, – строго сказала Мария Кирилловна и добавила: – Бобби, если хочешь помочь моей беде, иди и не возвращайся без новостей.
Племянник послушался. Поцеловав тетушку, он немедленно откланялся.
Выйдя на улицу, Бобби в раздражении топнул ногой и погрозил кулаком кому-то невидимому. Подозвав извозчика, он приказал к министерству финансов. От швейцара, дежурившего у парадных дверей, Бобби потребовал вызвать чиновника Рибера, немедленно и без всяких отговорок. Дожидаясь, он прогуливался по Дворцовой площади, цокая каблуками по брусчатке и не глядя на хорошеньких барышень, которые с откровенным интересом глаз не могли отвести от статного красавца.
– Что же мрачен ты, Бобби, как петербургская весна?
Вынув портмоне, Бобби отсчитал сто рублей и протянул господину в хорошо сидящем гражданском сюртуке.
– Можешь торжествовать, ты опять выиграл.
– Неужели? – Господин из министерства финансов небрежно принял купюры. – Опять Лунный Лис? Чувствую, что на этом проныре я разбогатею! Кто на этот раз?
– На этот раз воришка перешел границу и стал моим личным врагом. Он обокрал мою любимую и дражайшую тетушку! – ответил Бобби. – Шутки кончились. Тут уж не только пари, дело принципа. Не надейся, Джордж, что это тебе сойдет с рук.
– Неужели? Но пока четыре – ноль в мою пользу! – ответил чиновник Рибер, Григорий Иванович, носивший среди друзей кличку в английском стиле.
– Наше пари не закончено, – заявил Бобби, который не умел и ненавидел проигрывать никогда и ни в чем. – Я отыграюсь, вот увидишь. Прямо здесь, не сходя с этого булыжника, заключаем новое пари. Ставлю тысячу на то, что этот негодный Лис никогда не сможет обокрасть… ну, скажем, мою невесту. Принимаешь?
– Ого! Тысяча! Игра пошла по-крупному, – ответил Рибер, протягивая ладонь. – Точно разбогатею.
Бобби сжал пальцы со всей силы, но в ответ получил отчаянное сопротивление.
– И не надейся! – пыхтя, говорил он, стараясь передавить приятеля. – Мы, Бобрищевы-Голенцовы, никогда не отступаем… Вот так… Вот я тебе…
Поупражнявшись, приятели наконец расцепили хватку. Да и швейцар уже косо посматривал на господ, затеявших возню у порога важного министерства, буквально напротив Зимнего дворца.
Рибер потирал багровую ладонь, но и Бобби досталось.
– Кстати, не знаешь, кто прячется под маской Лунного Лиса? – спросил Бобби.
– Если бы знал, то играл бы с тобой на десять тысяч, – ответил Рибер. – Мы, чиновники министерства финансов, свою выгоду не упустим.
– Увидимся вечером! – то ли пообещал, то ли предостерег Бобби.
4
Крестовский остров, находясь в городской черте, уже принадлежал дачному миру. Начиная с мая отдельные дачные домики, разбросанные по острову, утопали в зелени. По аллеям и дорожкам прогуливались столичные жители, которым лень было ехать дальше на природу, открывались летние рестораны и эстрады с духовыми оркестрами, жизнь кипела и била праздничным ключом. Но сейчас, во время весеннего межсезонья, Крестовский представлял печальное зрелище. Сквозь голые ветви деревьев просвечивали силуэты наглухо заколоченных дач, в кронах каркали вороны, а островки последнего снега сжимались от наползавшей сырой земли.
Дача, принадлежавшая министерству внутренних дел, находилась в отдаленном углу острова, куда не заглядывали дачники. Деревянный домик, выкрашенный грязно-желтой краской, ничем не выделялся среди других строений, скорее выглядел подчеркнуто скромным и неприметным.
Полковник Секеринский не позволил себе прибыть после министра. Когда закрытая карета подъезжала к калитке, он вытянулся по стойке «смирно», лично открыл дверь и помог сойти. Граф Толстой приветствовал его милостиво, спросил о здоровье семьи и вел ничего не значащую беседу, пока они не оказались в помещении, согретом чьей-то невидимой заботой. Полковник помог министру снять тяжелое пальто на бобровом меху и скинул шинель на вешалку. Невидимая прислуга накрыла чайный столик с кипящим самоваром, зажгла свечи и задернула занавески, чтобы ничей нескромный взгляд не помешал приватной встрече.
Граф Толстой предложил согреться чаем, чтобы изгнать весеннюю промозглость. Секеринский понял, что разговор будет непростым, раз министр, не терпящий пустой болтовни и траты времени, не может начать прямо. Он взял чашку и стал отхлебывать маленькими глотками, чтобы не упустить нужный момент. В этом мирном чаепитии был еще один подтекст, непонятный посторонним. Секеринский хоть и возглавлял Отделение по охранению общественной безопасности и порядка, в просторечии «охранка», но чин полковника имел по жандармскому корпусу. А граф Толстой был шефом корпуса жандармов. Выходило, что великий магистр рыцарского ордена удостоил аудиенции одного из своих верных рыцарей. Что было намного больше награды и говорило о личном доверии.
– Полковник, что вы думаете о реформе Витте?
Вопрос, заданный в лоб и без малейшего предупреждения, не застал полковника врасплох. На этот счет Секеринский имел твердое мнение.
– Я думаю, что государству это может нанести существенный вред. Бывали на Руси и золотые червонцы, и серебряные. И что с того? Ничем хорошим это не закончится. Купцы наши хитрее, быстро смекнут, что бумажки можно поменять на золото, и забьют им все подвалы. А кто хитрее, увезет золотишко куда-нибудь подальше, да хоть в Лондон. И останемся мы ни с чем.
– Рад, что вы так мудро смотрите на этот вопрос, – сказал граф Толстой. – Тогда вы должны понимать, что над Россией нависла страшная угроза. Только слепцы ее не замечают. Угроза эта страшнее бомбистов и революционеров, с которыми мы, с Божьей помощью, успешно боремся и скоро выведем под корень. Тут беда такого масштаба, что головы не сносить. И противиться ей очень трудно.
Секеринский выразил полную готовность предпринять любые усилия, чтобы защитить империю.
– А что мы можем сделать? – риторически спросил граф Толстой. – Мы бессильны перед монаршей волей. Государь наш, имея доброе сердце, доверяется порой кому попало. Конечно, ослепление такое пройдет, но как бы тогда не было поздно. Что думаете, полковник?
И с этим начальник охранки был целиком согласен. Он ждал, когда ему прикажут что-то делать. Конкретные действия, даже самые трудные, были ему ближе намеков, полунамеков и разного рода подмигивания. Он бы предпочел, чтобы ему сказали прямо: того – в камеру, сего – допросить с пристрастием, а этого довести до тишайшего состояния. Специалисты имелись всякие и все, как на подбор, надежные.
– Есть у меня одна мысль, вот только не знаю, как к ней подобраться, – опять повел обходной маневр граф Толстой. – Вот если бы открыть глаза государю на тех, кого он наградил своим доверием. Да так ему глаза открыть, чтобы он убедился, каких змей пригрел на своей монаршей груди!
Полковник плохо представлял, как может самому государю открыть глаза, но идею всячески поддержал.
– Приказывайте, ваше высокопревосходительство! – только сказал он.
Граф Толстой аккуратно поставил чашку на хлипкий столик.
– Да что же я вам могу приказать, дорогой Петр Васильевич. Тут ведь такое тонкое дело, не знаешь, как подобраться…
Ну, это было для полковника пара пустяков. «Тонкие» дела у охранки выходили отлично. Для этого имелся целый арсенал проверенных и безотказных приемов, да и людишки нужные всегда под рукой.
– Это возможно. Нужно время, чтобы к самому подобраться…
– Время сейчас на вес золота, – сказал граф Толстой столь значительно, что у полковника не осталось сомнений в его желании. – Шестнадцатого марта наш ловкий министр финансов будет делать доклад о своей реформе на Государственном совете. Необходимо, чтобы до этого государь отчетливо увидел, с какими людьми имеет дело.
Позволив себе некоторые раздумья, Секеринский многозначительно кашлянул.
– Тогда надо выбрать кого-нибудь калибром поменьше. Кого изволите?
– На ваше усмотрение, Петр Васильевич. Только помните: мы сражаемся за будущее всего государства, поэтому результат должен быть столь зрим и вещественен, чтобы ни у кого… – палец графа указал в потолок, – …не осталось и малейшего сомнения.
– Можете не сомневаться. Слушаюсь…
– Ах, Петр Васильевич, как приятно, что вы понимаете все с полуслова. Только не забывайте: должно быть сделано с умом, расчетливо и точно. И самое главное: неотразимо.
Именно так и делаются «тонкие» дела. Секеринский уже перебирал кандидатов на ответственное задание. Тут нужен был человек незаурядного таланта. Впрочем, одна кандидатура была на примете. Да и мысль у него сразу мелькнула столь оригинальная, что полковник даже удивился, как такое могло прийти в голову. Однако же ничего невероятного, чего бы нельзя было провернуть за считаные дни, оставшиеся до назначенного срока, в этой идейке не было. Выполнимо и реалистично. Будет и тонко, и неотразимо, как жаждет министр. Просто отличная идейка созрела.
– Могу предложить следующую комбинацию…
– Подробности оставляю на ваше усмотрение, – быстро сказал граф Толстой. – Верю, что вы справитесь.
– Нужна небольшая поддержка с вашей стороны.
Граф Толстой сдвинул брови, отчего выражение доброго спаниеля стало совсем не добрым, а старчески-брезгливым.
– Что такое?
Секеринский быстро и точно объяснил, что ему нужно. Просьба показалась министру столь дерзкой и чрезмерной, что он было подумал: а не лишился ли полковник ума? Но начальник охранки быстро убедил его, что в этом нет никакого риска. Зато результат будет отменный. Он ручается своей головой и погонами жандарма. Быстро разложив ситуацию на возможные варианты, граф Толстой пришел к выводу: риск есть, но обещанный результат того стоил. Витте уже никогда не отмоется. Он обещал замолвить словечко, когда это потребуется.
5
Спорт в жизни чиновника министерства финансов Рибера занимал почетное второе место. На первом, конечно, был золотой рубль. Но если грядущая реформа приносила моральное удовольствие, то на спорт Рибер потратил все свое наследство. К дому неподалеку от казарм Измайловского полка он пристроил настоящий атлетический зал. И пусть зал был не самый крупный в России, прямо сказать, небольшой зальчик, зато настоящий. С дубовым полом, шведскими стенками и всем необходимым для занятий атлетикой. Зал предоставлялся всем желающим совершенно бесплатно. В нем тренировались не только поклонники легкой атлетики, но даже боксеры и борцы. Рибер пускал всех, кто искренно любил спорт во всех его проявлениях.
Нынче в зале было не протолкнуться. Репортеры всех петербургских газет, и даже нескольких московских, друзья, болельщики, жены, подруги, любопытные и просто зеваки набились тесной толпой, чтобы не пропустить историческое событие: официальное представление первой российской олимпийской команды.
Рибер проявил исключительную скромность. Все внимание он отдал генералу Бутовскому. Алексею Дмитриевичу вот-вот должно было исполниться шестьдесят. Рост он имел совсем не героический и сложение не спортивное, но развитие спорта вообще, а гимнастики в частности поддерживал изо всех сил. Он состоял в личной дружбе с основателем возрожденного олимпийского движения Пьером дэ Кубертеном и вошел от России в Международный олимпийский комитет, который назначил на 24 марта открытие первой Олимпиады в Афинах.
Генерал Бутовский, смущенный обилием народа и репортеров с блокнотами, вышел вперед и начал свою речь чуть слышно. В зале зашикали, воцарилась полная тишина. Голос Бутовского стал громче. Он говорил о том, как важно, что нашлись в России люди, которые поддержали олимпийскую идею, и теперь в Афины отправится целая команда, она будет достойно представлять страну. Особо благодарил министра финансов, но не забыл и прочих энтузиастов спорта. Не умея долго и красноречиво говорить на публику, генерал заметно смутился, закашлялся, но нашел выход из положения. Он представил команду, которую имел честь возглавлять.
Самой большой была сборная по легкой атлетике. В нее вошли господин Рибер, взявший на себя прыжки в длину. Метание диска и копья досталось князю Бобрищеву-Голенцову. Бобби приветливо помахал публике и был встречен скромными аплодисментами. В соревнованиях по классическому бегу должны были выступить Петр Лидваль, а на забег с барьерами выйдет Антон Граве. Барон Сергей Дюпре, молодой человек, только-только достигший совершеннолетия, собирался принять участие в марафонской дистанции. Его худая фигура и бледное лицо репортерам понравились, они наградили юношу приветствиями. От чего он пришел в глубокое смущение.
С каждой новой фамилией росло возбуждение. Публика яростно била в ладоши, выкрикивала радостные возгласы, нашлись и те, кто размахивал шляпами в помещении. Поддавшись всеобщему воодушевлению, генерал Бутовский приободрился и представил другие виды спорта. В соревнованиях по вольной борьбе будет участвовать чемпион петербургского клуба «Геркулес» Илья Мангейм. Крепыша, на котором еле сходился пиджак, оглушили овации. В соревнованиях по стрельбе примет участие чиновник министерства финансов Федор Немуров. Этого человека с никому не знакомой фамилией приняли на ура, не хуже, чем оперную звезду. Наконец, в состязания по гимнастике за Россию выступит князь Лев Урусов. На господина в твидовом пиджаке отреагировали вяло. Видно, заряд эмоций был растрачен. Князь презрительно вздернул усы и скрылся в толпе. Бутовский не стал скрывать, что состязания по фехтованию, плаванию и теннисные матчи пройдут без российских спортсменов. И все же команда, которую посчастливилось собрать, может рассчитывать на хорошую копилку золотых медалей. Он в этом не сомневался и просил всех поддерживать наших спортсменов, болея за них со всем жаром души.
Генералу ответили полной поддержкой.
От накативших восторгов Бутовский так расчувствовался, что не удержался и пустил слезу. К нему бросился молодой человек с кудрявой шевелюрой, порывисто обнял и, как будто заслонив собой, обратился к публике, широко раскинув руки:
– Господа! Это! Великий день! Событие! Невероятно! Рассказывать детям! Новая эра! Спорт! Мир! Свершения! Победы! Олимпиада! Россия! Мы! Торжество духа! Красота! Потрясение! Незабываемое! Состязания! Медали! Мы им покажем!