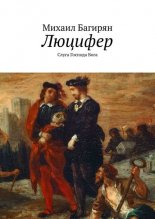На златом крыльце сидели Беломлинская Виктория
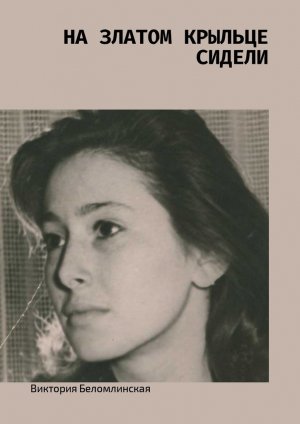
Людочке рассказы эти не нравились, но она их и не слушала – ходила вокруг хаты, да бывшей конюшни с деревянным метром в руках, обмеряла что-то и высчитывала. А на другой день Николай Николаевич возил ее по окрестным колхозам договариваться о сдаче быков, о продаже коровы и другой живности. Потом, прихватив с, собой мешок сушеных бычков, смоталась в воинскую часть, с парой бутылок водки на колхозные виноградники, и вот уже прикатил на берег здоровенный МАЗ, полный бетонных столбов. Работяги вбили столбы вокруг всего хозяйства Савельевны, а затем появился военный джип, с мотками колючей проволоки. В три ряда по столбам обмотали Людочкино наследство и как раз в это время объявился на берегу дядя Леня. Вернулся из Феодосии, куда по случаю всего происшедшего его увезли на своей «Ниве» полковник с полковничихой. Уговаривали у них на зиму остаться. Но он чувствовал себя в городе плохо, его тянуло на берег и не мог он собой людей обременять. А вернувшись, как увидел Людочкино сооружение, да еще с этими вот сидящими за проволокой на холме воющими в небо собаками, так только рукой махнул, ушел к себе в хату и, пока Людка не уехала, никому не показывался.
Незадолго до Людочкиного отъезда Петровна забеспокоилась: «Что вы с собаками собираетесь делать, Людочка?» – спросила и возмутила дочечку:
– Ну, до чего пустая женщина! – жаловалась она Антонине Филипповне. – У меня такое горе, а она про собак беспокоится! И еще ругает меня, что я участок огородила! Известное дело, чужого никому не жалко! Ей, видите ли, смотреть неприятно… – но от Антонины Филипповны участия ждать не приходилось, потому что Людочка тут же сообщила, что будинок продавать им не будет сейчас, а что собаки машину Николай Николаевичу ободрали, так она за собак не в ответе – известное дело: животные, к тому же теперь ничейные…
…Доев последнюю колбасину, укатили домой хохлы, кончился отпуск у ленинградцев, несолоно хлебавши собрались в дорогу молодожены, и Петровна напросилась с ними доехать до поселка. Там она пересела на автобус до Феодосии. Однако, вернулась через несколько дней и не одна, а с компаньонкой – маленькой, худенькой, рано увядшей хромоножкой. Теперь она могла бесстрашно ночевать в своем доме.
И странная, небывалая благодать вдруг разлилась над бухтой. Лето исходило последним теплом, мягко перекатываясь в прозрачную чистоту ранней осени. Леня снова выходил в море вместе с Петровной рыбачить, семейным уютом обволакивали душу совместные обеды с ней и хромоножкой – Петровна, как бы шутя, уговаривала Леню взять эту грустную женщину в жены, он иногда бросал искоса на нее тайный взгляд, примеряя к своей неудачной судьбе ее неудачную внешность. Петровна тотчас угадывала смысл его раздумий, смеялась заливисто, по-молодому, грозила пальчиком и кокетливо подначивала:
– Мариночка – что ж с того, что невзрачная, но она женщина… У нее трое внучат без папки растут – такая беднота! И жить негде! Она бы к вам переехала, им бы свою комнатку оставила! И хотела того или нет, но пугала Леню: его робкий интерес к Марине вспархивал, как птичка из травы и испарялся в высоком небе.
Тишь стояла над бухтой. Не кружили в долине ветры, не выли собаки. Странно они повели себя: умчались в степь за Людочкой, но вернулись под вечер и не пошли за проволоку, а прямиком к Петровне на двор и упали у ее ног, как подкошенные. Она не стала их отгонять. Еще и прежде носила им объедки, а теперь повела себя по правилам вовсе не известным на берегу: каждое утро варила большую кастрюлю овсяной каши, сбрасывая в нее все остатки, смывая с тарелок жир. «Что-то вы выдумываете, – удивлялся Леня. – Мне вот и себе-то варить лень, а вы собакам…» Но она, мало что варила им, еще завела для каждой по отдельной миске и разносила по углам так, что скоро каждая собака знала свой угол.
И все-таки как-то раз вышла у Жучка с Балахаем страшная грызня. Не из-за еды, а из-за места у ног Петровны. Точно как прежде дрались они из-за места у ног Савельевны. Но Савельевна быстро огреет их чем подвернется по хребтам, а тут как раз Леня отошел куда-то, Петровна с Мариной растерялись, испугались, так страшно грызлись псы. Грызлись не на жизнь, а на смерть, Белка в драку не лезла, только кружила вокруг, лая, что было мочи, но сынки не слышали, в их свирепом рыке тонул ее лай, вырванные с мясом клочья разлетались в стороны, окровавленные морды щерились, вгрызались, неразъемным клубком катались псы по земле. Леня прибежал, не думая долго, схватил первое, что попалось на глаза – ведро с водой и плеснул в катавшийся по земле клубок. И охолодил псиный пыл. Разбежались по степи в разные стороны, скрылись из глаз, только слышно было, как там где-то, скуля и повизгивая, зализывают свои раны.
Насыр. Собаки.
Петровна с Мариночкой от этого происшествия разнервничались, стали валерианку друг другу капать, Петровна к тому же огорчалась, что надо вот опять к колодцу идти, а у нее сердце болит и Леня, подхватив два ведра, пошел за водой. А на обратном пути увидел и аж замер – даже ведра на землю опустить не сразу сообразил: подлизывая с рваных боков кровь, сидел на бугре Балахай, а Жучок, еще опасливо, еще неуверенно полз к нему на брюхе, то и дело останавливаясь, проверяя, вздернутым носом чуя, остыла ли братнина обида. На последних метрах совсем к земле припал и дивно было смотреть, как они мирятся – эти твари – как старший брат Балахай внимательно и нежно стал зализывать рваную рану у самого глаза на морде Жучка, как тот подставляет ему то один бок, то другой, а потом и сам деловито, с пониманием – будто помнит, где рвал – осматривает старшего брата, подлизывает, где тому не достать. Тут подбежала к ним Белка и оказала свою особую материнскую ласку и они с невиданной щенячьей кротостью поддались ей.
Аж слезы набежали, и Леня еще долго стоял, собаки уже ушли с того места и, наконец вернувшись с ведрами, Леня застал мирную и вполне обычную картину – Жучок лежал у ног Петровны, Балахай в сторонке, а Белка, та вовсе на отшибе.
– Так вы что ж, – спросил Леня, – с собой заберете их?
– Куда это я заберу их? – возмутилась Петровна. – По-моему, я еще не сумасшедшая!
– Так что ж вы их кашей кормите? Я думал, вы их с собой забрать хотите.
– Да зачем они мне? А вы эту дрянь свою прогоните, они ж вас ни от кого защитить не могут, а я вам крупы оставлю и еще пришлю.
Ишь, как у нее все ладно получалось. И не объяснишь ей, что этими своими кашами обрекает она собак на голодную смерть. Леня вспомнил, как однажды увидела Савельевна, что Надя котятам в мисочку молоко наливает, ощерилась довольно:
– Котят кормишь? Ну, корми, корми, делай моим собакам консерв на зиму.
Надя потом все старалась всучить кошачий выводок приезжим. А ведь здесь на берегу так оно и в самом деле заведено: кошки летом птенцами откармливаются, собаки голодной зимой гоняются за кошками, ловят в степи сусликов, всякую мелкую живность… А какие ж они будут охотники после ее каш? Крупы она ему оставит. Ей не понять, он и сам еще не вполне понимает, что его ждет – как оно это будет, когда останется он здесь один? На всем берегу один… Но царящее в природе оцепенение и слабое человеческое тепло как-то сковывали мысли и располагали жить сиюминутной несложной жизнью, просто пользоваться дарованным покоем, не давая воли подползающему к горлу страху.
И вдруг разом сгрудились облака, почернели, набухли, вздыбилось и рванулось к берегу море, ветер сбросил со стола перемытые тарелки, подхватил клеенку и понес, закружил над пляжем, как невиданную гигантскую птицу, разметая перепуганных чаек.
– Ой! Ой! Как же мы выберемся отсюда? Мариночка, собирайтесь быстрей! – всполошилась Петровна, кинула топор за порог, чтобы отвести грозу, подхватила сумки, сказала: «Счастливо оставаться, Ленечка! Мы на Уварове пойдем. А вы не скучайте! Я приеду! Вот вам крест, приеду!» Леня хотел было проводить женщин, помочь сумки нести, но псы прытко вскочили на ноги и Петровна взмолилась: «Не надо, Леня, оставайтесь, за вами ваши увяжутся, свара начнется, оставайтесь вы! А собачки вернутся, куда ж они денутся?!» – нашла ему утешение.
Уже от дверей своей хаты Леня долго смотрел в степь, еще долго ему было видно, как спешит Петровна, как переваливается с боку на бок хромоножка, – верно Петровна подгоняет ее, как псы то забегают далеко вперед, то зачем-то кидаются в степь и снова возвращаются, и кружат вокруг женщин, и Петровна машет на них сумками. Он подумал, что, может, собаки, добежав до деревни, поймут, что самое лучшее для них в ней остаться, приманит их какая-нибудь загулявшая сука, прибьются ко двору. Хотя старую Белку, да и свирепого Жучка скорее пристрелят, а вот из Балахая, если его на цепь посадить, хороший сторож получится. Где-то еще в море загрохотало, отблеск молнии осветил край неба над бугром, и Леня с надеждой подумал, что пугливая Петровна уже наверное повернула назад – вошел в хату, смел со стола крошки, мышиный помет, окурки, услышал, как первые сорвавшиеся капли ударили по крыше, решил нагреть кипятку, протопить – вернутся женщины мокрые, прозябшие, а тут и чай, и тепло, и чисто. До часа ночи все ждал. Словно ребенок, в ожидании ушедших родителей, не раздеваясь прилег на кровать и среди плачевных мыслей не заметил, как уснул. А проснулся ночью от пробившегося в сон тягучего воя собак. Лампа выгорела до дна, гроза, пролившись, истощила тучу, луна жидким светом наполнила комнату – можно было понять, что идет второй час ночи.
Долина гудела чуть-чуть, и море ослабло – все звуки отступили перед наплывающей, протяжной, к самой луне устремленной тоской.
«Ой-ей-ей-ей-ей-е-е-ей! Ой-йй-ей-ей-ей-ей!..» Господи, куда денешься? Он проникает в тебя – этот вой – в живот, до самого горла. Не ушами оказывается, а животом человек тоску слышит. Ни лежать, ни сидеть она не дает, уж лучше выйти за дверь, только не надо смотреть в ту сторону, где за колючей проволокой воют собаки. Страшно смотреть.
С первого раза, как Леня увидел дочечкину затею, показалось ему, что это она специально для него на такую подлость пошла, чтобы ему было на берегу о чем вспоминать, от чего корчиться. То есть он, конечно, понимал, что всего менее Людочка о нем думала, она свое добро ограждала, но так уж, видно, судьба подстроила. Он даже смотреть в ту сторону не будет, ему казалось, что, если посмотрит, что-то лопнет в нем, жила, которая держит его на ногах, разорвется. А покуда все это: колючая проволока, бугор, собаки на нем – еще не явь, а только воображение его – еще можно вздохнуть, вобрать в легкие побольше воздуха и побежать в сторону от этого воя. Перевалить через холм – Леня знал, что холм преграждает дорогу всем звукам – растратить силы, вымотать себя так, чтобы потом свалиться замертво и уснуть. А на утро все не так страшно покажется. Ну, в конце концов, жил же он в лагере, пока не стал умирать. И потом, когда в Трудармии уже работал, что он лагерной проволоки не видел? Начальник не хотел его в Трудармию записывать. Это был такой заколдованный круг – без прописки никуда на работу не берут, а без работы нигде не прописывают. А Надя пошла к самому начальнику. Перед тем она на рынок зашла, буханку хлеба купила и под телогрейку ее засунула. Начальник ей отказал, а она ему говорит: «Нет, ты все ж таки запиши Ленечку, потому, что знаешь у меня что здесь? – и на буханку под телогрейкой показывает. – Я сейчас разнесу тут все к чертовой матери!» Он аж затрясся весь, уже кнопку тайную под столом нажал, а Надя буханку на стол выложила, нагнулась к нему через стол и ласково так говорит: «Ну, прошу я тебя, родненький…» – Охранники вбежали – ничего не понимают: начальник чуть не целует Надю и хлеб ей назьд пихает и от радости руками машет, дескать, «идите вы», Наде говорит: «Ну ты, чертова баба! Запишу я твоего дохлика…»! Ну и матом, конечно. А Надя – чмок его в щеку… Господи, какая ж она была! Ну, и что ему теперь эта проволока? Все равно на берег надо идти, надо за водой к колодцу – каждый день надо мимо ходить. Надо привыкать…
И привык. Утро начинал с зарядки: руки туда-сюда, Наклон из стороны в сторону – так только, чтобы размяться. А потом пробежка. Бегать решил всегда одной дорогой – тогда грязь ли, снег ли – все постепенно вытопчется, ноги не будут вязнуть. Вернувшись, спускался к морю, окунался, растирался, набирал из колодца пару ведер воды для баранов. Разделавшись с баранами и птицей, прибирал хату, потом включал приемник и садился плести сети. Это хороший промысел – вполне, правда, незаконный. Если рыбнадзор найдет у тебя сети – для первого раза конфискует и штрафом обложит. Зато спрос на сети всегда есть, не иссякает клиент. На осетра идет крупноячеистая сеть, на хамсу, тарань, камбалу, леща – мелкая. Человек из Керчи еще летом привез ему целый мешок шпулек. Он же привез Лене и танковый аккумулятор. Теперь можно смотреть телевизор. От Петровны Леня скрыл, что у него есть аккумулятор – пока на берегу были люди, ему вовсе не нужен был телевизор. Пользоваться и приемником и телевизором надо экономно: кончатся батарейки, сядет аккумулятор – все кончено: в Уварове, в магазине, кроме водки и соли, ничего не купишь. Хлеба и того нет, не то, что батареек. Но, как ни странно, он не видит в телевизоре большой радости.
Еще раньше, когда Надя была жива, им случалось доставать тракторный или танковый аккумулятор, но любой живой душе они радовались больше, чем безответному глядению на экран. Жизнь расположила их всего больше ценить возможность поговорить, услышать в ответ пусть корявую, но живую речь, а все, что показывали и говорили с экрана, особенно теперь, когда он остался один, казалось ему или пустым или нестерпимо выдуманным. Иногда ничего не удавалось посмотреть, начинало мелькать, ерзать изображение, иногда вместо фильма показывали хоккей или танцы на льду – этого он совсем не понимал: причуда какого-то совсем нереального мира, в котором должно быть царит вечный праздник, всего избыток.
Отпущенные ему на целую жизнь страсти все ушли на что-то другое, азарт его никак не вязался ни с музыкой, ни с шайбой. Вот и теперь, бегая, растираясь, он делал это не для того, для чего могли это делать люди с экрана, а только чтобы еще чувствовать себя живым.
Фильмы он, к своему огорчению, тоже не мог смотреть. Всякое геройство, всякая любовь с ее пустыми изменами – все ему казалось ложью. Всю судьбу, свою и Надину, он мог бы с легкостью уложить в несколько строк, но даже слабого отражения тех страданий, той борьбы за просто жизнь, которые выпали на их с Надей долю, он нигде не находил. И только тошнотная горечь воспоминаний подымалась к горлу. Он давно уже научился разговаривать сам с собой. Поймав себя на этом в первый раз, заплакал, попробовал не с собой говорить вслух, а с собаками, но не вышло. Раньше, когда на берегу были люди, он много ласкал собачат, говорил с ними, а теперь, молча, бросал лепешки, сало, молча потрепав по загривку, отгонял от себя – какой-то вредный голос внутри внушил ему презрение к единственной возможности – если говорить, так только с собаками.
До конца ноября он осе ждал, что кто-нибудь приедет на берег. Особенно в ясные дни, когда затихало море и серебрилось под прохладными лучами солнца. Такие дни выпадали этой осенью не часто и как-то внезапно, непродолжительно и так же внезапно сменялись штормом – верно, поэтому обычные посетители берега опасались оказаться застигнутыми непогодой на берегу. Или, думал Леня, постарели его клиенты, нет в них былой прыти, постарели, как и он сам. Однажды он увидел, как проехал мимо газик рыбнадзора, увидел, как не то Коля, не то Леня посмотрели в его сторону, но машину не остановили: дескать, жив дядька Ленька и ладно. Остановиться, спросить не надо ли чего, да просто поговорить не захотели, или некогда им было, но скорее всего, не к чему – и он себя, пустой берег, свой дом увидел со стороны и подумал как о чем-то постороннем: а и в самом деле, не к чему.
Чем дальше шло время, чем ближе двигалось оно к зиме, тем заметнее дичали псы. Днем они гонялись где- то в степи, голод заставлял их рыскать в поисках добычи, может быть, временами им и выпадала удачная охота – ведь и в прежние времена, стоило разъехаться с берега людям, приходилось пищу самим добывать – но в прежние времена они возвращались с охоты к хозяйским ногам, под сень обитаемого дома, хриплый хозяйский оклик одергивал их, возвращал им их природный собачий облик. Теперь они зверели и зверели с каждым днем. Дело не в том, что злобились, а как-то паршивели:
прежде гладкая блестящая шерсть на Жучке поблекла, как ржавчиной покрылась, свалялась и торчала клочьями на Балахае, старая сука стала лысеть, проплешины обнажили ее обтянутые шелушащейся кожей ребра. Иногда она возвращалась окровавленная и Леня понимал, что это Жучок, а может и Балахай погрызли ее, отгоняя от добычи. Более опытная, хитрая, выдержанная, она скорее всего была удачливее сынов в охоте, но вряд ли они допускали ее воспользоваться плодами своей удачи. Наверное от голода у нее выпали зубы и только два нижних клыка выползли на верхнюю губу, превратив ее в страшную, лысую старуху.
Однажды, после сильного шторма на берегу осталась лежать тушка молодого дельфина. Ее тотчас стали рвать чайки, запах крови привел к ней собак. Только голодная жадность мешала Жучку вцепиться в Балахая и отогнать его от падали. Давясь вырванным куском, он рычал, угрожающе вздергивал губу, но тут же вновь приникал к кровоточащему боку. А Белке все не удавалось пристроиться и хотя бы полизать крови – рвать мясо ей уже было нечем.
Как только наступали сумерки, собаки возвращались за колючую проволоку. Садились на бугор и выли. Лене казалось, что они рвут кишки из его живота, как только что рвали внутренности мертвого дельфина. Дельфин скоро завонял – ветер перегонял вонь из края бухты в край, разносил запах мертвечины по всему берегу. Взяв багор, Леня пошел к морю, чтобы столкнуть зловонные останки в воду. Он никогда не боялся этих собак, но когда подошел к туше, вернее к тому, что от нее осталось, псы ощерились, в их налитых кровью глазах он прочел волчью готовность к прыжку. Однако что-то другое остановило его, он не сразу понял что, но вдруг разглядел: за головой дельфина – почти единственно оставшейся ото всей туши, – лежала уже вспоротая клыками сыновей Белка. Загрызли они ее, отгоняя от пищи, или она сама околела, но теперь они пожирали ее и, пьяные свежей кровью, готовы были защитить свою добычу от Лениного багра.
Взрезаемый воем собак воздух долины все больше и больше наполнялся новым, прежде неведомым непокоем: не только собаки – казалось вся степь дичает и наползает на еще недавно обитаемое, а теперь опустевшее, обезлюдевшее место.
Снег еще не выпал, ливни смывали следы зверей, но Леня уже несколько раз среди ночи слышал куриный переполох в сарае. Утром он осматривал сарай, заделывал все щели и все-таки в один прекрасный день увидел разметанный за сараем окровавленный пух унесенной в степь курицы. А еще через несколько дней, войдя в курятник, сразу наткнулся на уложенные в ряд трупики сразу четырех молодых петушков с перекушенными шеями: ласка подушила птицу, напилась крови и так зловеще аккуратно уложила рядком. Леня знал, это ее повадка. От испуга ли, переполоха, или еще от чего, перестали нестись куры. А может кто-то крал яйца. Леня больше не находил ни одного. А еще через какое- то время случилось то, чего никогда раньше не случалось – пала укушенная гадюкой овца. Искать змеиные лазы, заделывать новые и новые подкопы под стены сарая – дело бесполезное, расползающееся по всему его существу оцепенение лишало Леню воли как-то оградить свою живность, оберечь то, что осталось от наступающей, все более чувствующей свое право степи. Раньше никогда ее обитатели не подступали в такую близь к жилью, а теперь чутьем угадали: кончилась жизнь на берегу и двинулись на разбой и захват.
Где-то в середине декабря море обрушилось на берег штормом невиданной силы. Но и долина не сплоховала: двинула ему навстречу такой шквал ветра, что, сидя в хате, Леня впервые за все годы жизни на берегу испугался, что хата может обрушиться. А что оно стоит – разнести эти стены? Камень к камню прилеплен глиняным раствором, давно постаревшим, кое-где высыпавшимся, расшатай стены покрепче – и вся постройка рухнет, как детская затея.
А гудело и било в стены не день и не два – Леня боялся дверь открывать, боялся, что не удержит и ее вырвет с петлями. Но выходить надо было: то выпустить, то впустить собачат, то самому на двор, баранов напоить. Вот так, отхлестанный ветром, ослепленный им вбежал он в сарай и всей грудью наскочил на бараний рог. Старый валух Борька, низко опустив упрямую голову в неумном раздумий стоял в самых дверях и рогом вышиб налетевшего на него Леню, отбросил его в лужу перед сараем. От удара так сперло дыхание, что показалось – все! Это конец. Превозмог все-таки жуткую боль в груди, дополз до хаты, влез на кровать и все дни, не считая их, что бушевала непогода, пролежал пластом. Давно выгорела лампа, пил протухшую в графине воду, думал о том, скоро ли найдут его мертвого в хате и станут ли, если провоняет, хоронить или побрезгуют.
Думал, как о чем-то постороннем, без слов, без всякого о себе сожаления. То впадал в забытье, а очнувшись, не понимал, который час – часы не завел и остался без времени: день смешался с ночью, все мглой затянуто, как тут определишь, который час? А встать, включить приемник – сил нет. Боль в груди притаилась и не тревожила, пока не шевелился. И приятно было лежать, чувствуя, как слабеет, без боли, без отчаяния, без всякой неприятности уходит из него жизнь. Он сначала не мог понять, откуда это давно забытое чувство покоя и вдруг понял: не слышит воя собак. Ревет море, трубно, надсадно гудит долина, а воя собак не слышно. И нет тянущей кишки из живота тоски. И потянуло в сон. И приснилось, будто приехали на берег какие-то люди, не то на танке, не то на вездеходе, но с треском, грохотом, и он, Леня, громким, свободным голосом объясняет им, что он потому не в зоне, что это и не зона вовсе и там, на бугре вовсе не часовой стоит, а суслик, но сам-то он видит, что это никакой не суслик, а кутающийся в огромный тулуп часовой. И кто-то говорит ему, что все равно, раз он не умер, он должен идти за проволоку, а не лежать в своей хате и голосом Савельевны кричит: «Ся! Ся, Жучок! Ся, Балахай!» И сразу ворвался в сон протяжный вой. Открыл глаза и в разлившемся по хате лунном свете увидел летящий за окном белый пух.
Пришла зима. Воздух в хате остыл, окошки до половины затянуло ледяными узорчатыми шторками. Зуб на зуб не попадал. Однако почувствовал, что боль в груди совсем притупилась, и без всякого усилия заполз между перин. Подумал, что раз уж пока не умер, надо будет снова начать жить. Вот только полежит немного, погреется в перинах, как следует подумает о чем-то важном, хотя думать мешает, как зубная боль, вой собак. Только один вопрос сливается с этим воем, продолжает его, когда дух перехватывает в собачьих глотках и длится по мере нарастания звука в пронзительном, безответном:
«Почему?» Почему он не может слышать этого воя? Почему его жизнь оказалась повязана им? Почему так отзывается в нем собачья тоска? Все другие вопросы казались неважными, какими-то вторыми, и вдруг нашелся ответ: да потому, что это его вой, это не псы, а он сам сидит там на бугре за колючей проволокой и, вздернув лохматую голову к небу, кричит о своем одиночестве, о своей, никому не нужной жизни, к которой нет сочувствия ни в ком, как нет в нем сочувствия к их собачьей доле! О любви кричит и ненависти, и у него и у них, унесенных смертью. О том, что ему так же невозможно уйти с этого берега, как им, хотя ни его, ни их никто и ничто здесь не держит – но только они одни знают, почему он не ушел. Вот то-то и ужасно, что он не ушел по тому же самому, почему и они остались. И они, так же как и он, ничего не умеют ни забыть, ни простить.
Но нет. Он встанет, соберется с силами, выйдет, достанет деньги из тайника и уйдет. Он никому ничем не обязан, он не сторож Петровниному дому, она нарочно пугала его городской жизнью, дескать, здесь его деньги – деньги, а в городе – тьфу! – он не пропадет, он еще может работать, все равно он теперь не хозяин своей жизни, степь теперь здесь хозяин.
И не заметил, как истекла эта собачья ночь. Еще прозрачная как медуза висела луна, а над горой уже озарилось нёбо восходом – пришел новый, ясный день его жизни, и Леня, слабый после болезни, но полный решимости встал. Затопил плиту, нагрел воды, побрился, накормил давно погрызших все валявшиеся на полу сухари, собак – щедро кормил, отрезая большие куски сала; вскрыл пару банок тушенки и, намазывая на печенье, то совал себе в рот, то бросал собакам. Дверь привалило снегом, открыл с трудом и ослеп от искрящейся под солнцем белизны. Голова закружилась, но все-таки собрался с силами, далеко в степь унес парашу. Потом, подхватив ведра, пошел на берег. Проходя мимо проволочного заграждения, вспомнил свой сон и усмехнулся – под снежным покровом все дышало таким благолепием, что совсем не казалось страшным ~ даже проволока, сливаясь с искрящейся землей, не вызывала раздражения.
Увидел свежую путаницу собачьих следов – где-то они рыскают, отпустила и их тоска, но вдруг что-то показалось ему странным, и он остановился: надо же, недаром боялся он, что ему разнесет хату – сорвало непогодой шифер с крыши хаты Савельевны с одной стороны начисто. Сброшенные листы побились, видно. и занесло их, и на перекрытия снега навалило – от того сразу и не понял в чем дело – теперь, как подтает, натечет вода в хату. Путного в ней, конечно, нет ничего. но все равно разорение полное. Он подлез под проволоку, спустился с бугра во двор и сразу увидел, что и на будинке шифера нет совсем, и сарай зияет черным провалом.
Озираясь по сторонам в поисках свалившихся осколков шифера, прошел двор насквозь, вылез из-под проволоки со стороны моря и сразу увидел поваленный возле колодца столб. «Вот оно – все, конец!» – резануло по сердцу: сколько лет жил на берегу, обламывали берег шторма, обрушивали каменные глыбы, а столб стоял. Когда-то сломило перекладину, не стало вроде бы смысла в этом столбе, а вот стоял эдаким знаком препинания. И чтобы крыши с домов сдирало – тоже дело невиданное. Не пошел к колодцу, решил сначала на Петровнин дом взглянуть и аж ноги подкосились: целиком с ее крыши содрало шифер. Надо думать в море снесло.
Странно, однако, что же это его-то пощадила непогода? Вроде не крепче его хата, а цела осталась? И тут увидел: вокруг дома Петровны, на уступе, нависшем над морем, ветер обнес снег и обнажил две широкие борозды, продавленные по земле гусеничным трактором. По ходу их Леня стал сапогом разгребать снег и больше уж не сомневался: столб у колодца, может, и свалило штормом, а вот шифер – дело рук человеческих. Приехали в непогоду, почуяли, что брошен берег, сняли шифер и увезли. Небось и в хатах пошарили. А шифер деревенским всегда пригодится – они ладят из него самодельные парники, поставят изгородкой и открывают то одну сторону, то другую – с которой солнце светит. Листу шифера – два рубля цена, а поди, привези его на берег – он тебе золотым встанет. А им, сволочам, трактор дармовой, отчего не взять, что плохо лежит? Вот тебе и танк!
Леня все разгребал, разбрасывал сапогом снег и шел вдоль колеи – он словно бы еще не мог до конца поверить, что все оно так просто, что пока он подыхал в своей хате, онемевший от безлюдия, – они, люди, приехали сюда, на берег, непогоды не пострашились, как раз прикрылись ею, и его дом обойдя – значит не сомневались, что он там? – а даже не помыслили справиться, что с ним, почему не вышел на шум?! – им это не интересно было, им только и надо было, что ободрать чужие крыши, да побыстрее смыться! Гниды, воры никем не судимые, не ловленные, твари, хуже всякого зверья! Жгучая, давно забытая ярость закипала в душе, захлестывала, как тогда, давным-давно, в той, канувшей в прошлое, но не забывшейся жизни на берегу. Тогда артель всем скопом выбрала его, Леню, своим завхозом.
Перед тем пропил непутевый мужик артельный провиант, муку, крупу, консервы – все променял на водку, оставил людей голодать, но сам повинился и еще тем оправдывался, что пил-то не один, а с ними же, с артельными. Простили его, но скинувшись на новые запасы, решили всем миром положиться на Леню – знали: этот не пропьет, не продаст, чужой копейки не прикарманит. Но только вдруг стали у него пропадать продукты: то ящик тушенки исчез, то мешка сахара недосчитался – словом, при всей бухгалтерии концы с концами не сходятся. Он молчит, из своих докладывает, а оно так и тянется. Тогда в самую путину он снарядил артель всем, чем положено, а сам в последнюю минуту сказался больным и в море не вышел. И укараулил вора, прямо у задней стены кладовой, когда тот сквозь раздвинутые доски уже вылез с мешком и доски на место прилаживал. А мешок тут же на землю положил. Такая ярость тогда захолонула Леню, кинулся он на вора и началась драка. Бандит тот из пещер на берегу приходил, здоровенный детина был, Леня перед ним сморчок, но бросала его на ворюгу злоба, и был у него за поясом обоюдоострый рыбацкий нож – еще бы секунда и вспорол бы человека, но тут с криком: «Засудят, Ленечка!» бросилась наперерез Надя – он успел, к счастью, руку отдернуть, а бандитский кулак как раз Наде по зубам пришелся. Упала она, Леня кинулся к ней, а вор убежал налегке. Мешок остался. И всему тому делу одна Савельевна была свидетельницей – глядела на их сражение из-за угла своей хаты, наслаждаясь злорадно, как ее соседей вор-чужак избивает, не пришла на помощь, да еще потом, когда, рассказывая артельным, как оно было, Леня стал ссылаться на нее, отнекивалась: «Не, не бачила, може брешет, сам, може, брал…» – хотела его бесчестным перед людьми выставить, завидовала, что ему доверяют. А он люто, до брезгливой тошноты ненавидел воровство – оно всегда из-за кого-то одного чернит других, рядом с воровством всегда навет, всегда напраслина, размазывается грязь и непричастных пачкает. Он в тот раз тоже всякие домыслы строил: то на одного подумает, то на другого, и всю жизнь потом себя перед этими людьми виноватым чувствовал, хоть и словом их не обвинил. Знал: нельзя, не поймавши, на людей говорить. Нет, свои деньги – это ерунда, его не беспокоили свои пропажи, а вот когда тебе люди доверили – это особая ноша, ее так, вдруг, за здорово живешь с плеч не сбросишь.
Сволочи, он один здесь на берегу, здесь нет свидетеля, который докажет, что дядя Леня не пропил тот шифер, не за бутылку водки позволил деревенским увезти его с берега. Петровна первая спросит: «Леня! Как же это вы не слышали, они же на тракторе приехали?» – поди расскажи ей, как это он не слышал. «А, падлы! Блядины сучьи!» – выругался он ото всей души, вдруг увидев ползущих ему навстречу псов. Прямо по следу, ведущему мимо колючей проволоки – здесь Леня уже не мог докопаться до колеи, здесь в низине снег густо прикрывал разбойничий след, но Леня всем нутром чувствовал его, а тут еще увидел, как на брюхе ползут навстречу ему собаки, вынюхивая колею прижатыми к земле носами.
– Вы почему молчали?! – вдруг заорал он. – Бляди вы после этого! – И с разбега саданул сапогом по морде одного, другого, а те, только коротко взвыв, не поднялись на ноги, а все норовили лизнуть бивший их сапог и тут такое невозможное нечто поднялось в нем, смешалось с недавней надеждой выжить, уйти отсюда, все прожитое здесь взболтнулось, перелилось через край, аж глаза залило, и, пока он бежал до своей хаты, пока шарил под кроватью и выхватил оттуда карабин, он как будто не видел ничего, только одна мысль гнала его:
«Убью, гады!» – мысль, что ни для чего, кроме как терзать его душу, эти псы не живут на свете и сейчас он убьет их и станет свободным, наконец, за всю свою каторжную жизнь станет свободным, вот только отпихнет их от себя, они побегут, он прицелится и пальнет по ним!
Но, почуяв нависшую над ними смерть, псы, сколько ни бил их Леня сапогом, только взвизгивали, только плотнее приникая брюхом к земле, тянули к нему виноватые, покорные судьбе морды. В их больных глазах стыли слезы и вдруг он понял, что на всей земле нет никого, кто молил бы его о прощении и кого мог бы он простить перед своей смертью. И коротко ухнул в прозрачном воздухе выстрел – одинокий, шальной, но точно в сердце пославший пулю. Над белой долиной пронеслось эхо и растворилось в долгом протяжном вое собак…
1998 Экванак, Нью-Йорк
Вика Беломлинская пишет в Насыре. 80-е.
ВОЛЬТФАС
«Уо1tе-fасе» – фр. бук. поворот лица внезапный поворот лицом к преследующему».
Словарь иностранных слов
Я редко страдаю бессонницей. Сны тоже вижу редко, обычно сплю глубоким, как смерть, сном, а уж если мне что привидится, просыпаюсь разбитая, растревоженная дурным предчувствием, что непременно случится что-то – оно тут же и случается. Но в ту ночь я вообще не могла уснуть. С отчаяньем думала о предстоящем дне, в котором не может быть времени для дневного отдыха, но все безнадежней становились попытки привести в порядок разгулявшиеся нервы, отогнать страхи, тянущее душу чувство вины перед мужем, перед семьей, перед моим облупившемся, потрепанным домом. Перед тем, что называется домашним очагом, гнездом – и я его наседка, его хранительница, и у меня нет права на легкомыслие, на дурное настроение, на каприз, и уж, конечно, ничто в этом быту не предполагало этого бешеного поступка, лишившего меня теперь сна. Я и только я, виновата в том, что барахтаясь в темноте, неумолимо тону в мрачной бездне безвыходности – я втравила в эту безвыходность мужа, он пошел у меня на поводу, как слепая лошадь – ни собственной воли, ни собственного здравого смысла. И как мы теперь выпутаемся, неизвестно. Он должен был меня остановить, как мог он с глупым умилением потворствовать разгулу пошлейшей фантазии? Собственно, я и сама в какой-то момент подчинилась чужой воле, меня словно загипнотизировала эта Беллочка – моя зубная врачиха.
Пока я сидела у нее в кресле с открытым ртом, она, то сверля мне зуб, то что-то помешивая на стеклышке и вмазывая мне в рот, не смолкая ни на минуту, говорила, говорила и вмазала в самую мою душу всю свою совершенно непомерную, для меня неподъемную страсть к роскоши.
Я вылезла из кресла, заболевшая никогда прежде не томившей меня идеей приобретательства. Всю жизнь безразличная к вещам и оттого жившая достаточно беззаботной жизнью (ибо покупалось в доме только необходимое, и то без разбора), я вдруг оказалась во власти мистической жажды обладания совершенно не нужной мне, бессмысленно дорогой, не по мне роскошной вещи. Конечно, несправедливо во всем обвинять Беллочку – крупнотелую, выхоленную брюнетку, с тяжелой, красиво уложенной на затылке косой, с носиком, словно пришпиленным за кончик защепкой от белья, с маленьким, вычурным ротиком. Глупо, конечно, ее обвинять, но я ничего не могу поделать с собой, я думаю именно так: «покуда я раззявила перед ней свою, ничего хорошего не достойную пасть, она вмазала мне в самое нутро эти шкурки каракуля – двадцать штук. Набор на шубу по чудовищной, в мире не существующей цене».
«И думать нечего, – говорили ее пунцовые губки – Это же удача, просто везение: каракуль – это же всегда деньги! Да я только скажи здесь – схватят с руками! Я прихожу в шубе – на меня набрасываются; „Белла, где взяла? Белла, достань!“ Но я не хочу им отдавать. Пусть лопаются от зависти, а вам, моя золотая, сейчас, минуточку потерпите, ничего-ничего, я больно не сделаю… вам отдам, вы будете, как куколка, вы будете настоящая дама – без шубы дамы нет, а в нашем возрасте это уже вопрос: дама вы или нет?! А деньги – это тьфу! Вы мне еще сто раз спасибо скажете; ваши дети будут носить и ваши внуки (это же каракуль! Закройте рот!)»
Я закрыла рот и проглотила твердую убежденность в том, что мне необходимо достать две тысячи. Нет, я никогда не хотела быть «дамой», я знала, что даже, обернувшись каракулевым завитком, в «даму» не превращусь, но дети! Боже мой, внуки!
Меня сбила с толку зримая разрозненность шкурок – если бы они уже были сшиты в шубу, я может быть и сообразила бы, что и сейчас моим двум дочкам и одной внучке разом в эту шубу не влезть, придется по очереди, а ведь могут еще появиться внучки и даже правнучки. Но бред есть бред. Если бы я не была в бреду, я бы вспомнила о том, что никогда в жизни у меня не было своей парикмахерши, маникюрши, никогда я не покупаю отрезов, потому что у меня нет портнихи, я ненавижу ходить на примерки, мне пальцем лень пошевелить, даже языком, ради тряпки. Можно ли надеяться, что я когда-нибудь найду скорняка, что эти шкурки с лапками и хвостиками, маленькую отару, блеянье которой так и стоит у меня в ушах, я когда-нибудь смогу превратить в «вещь», которая в свою очередь пре- вратит меня в «даму», а моих детей и внуков в ее наследников?
Разумеется, этого и сейчас не случилось. Мало того, нынче, когда я вспоминаю ту бессонную ночь, каракуль катастрофически подешевел, а шубы из него, как похоронная процессия, мрачными рядами висят за спинами продавцов.
Однако, я говорю о скучных низменных вещах: купить-продать, шубки-шкурки – жизнь вообще состоит из низменного, каждый здравый человек это понимает, но можно ли так мелочно, так прозаично унижать свое перо, опускать в такие вороха свою пишущую руку, только для того, чтобы извлечь на свет божий истинную причину бессонной ночи! Низменное… Вот то-то и есть, что в дни, когда мы с мужем изыскивали невероятные способы добыть деньги, ничего низменного не было – была высокая мечта, было вдохновение!
Мне опять хочется все свалить на другого – с больной головы на здоровую – но именно мужем моим, едва я рассказала ему об этих шкурках, овладели мечта и вдохновение – я только позволила ему парить в их вихре. И вовсе не шкурки убиенных барашков составляли суть этой мечты – нет, тут надо обернуться и взглянуть на прожитое вместе бок о бок, плечо к плечу – иначе как бы мы пережили все то, что выпало на нашу долю в последние годы? А выпало много и все сразу.
Только к сорока годам мы стали обладателями отдельной квартиры, и я решилась рожать второго ребенка – я всегда хотела его, но не ко времени решилась: в одночасье умер отец. Умер в мае, а девочку я родила в ноябре, говорят, когда является на свет скорпи- он, кто-то близкий уходит. Бессонный поворот вины и боли… За смертью отца тотчас нагрянула безысходная болезнь мамы. Покуда я, как могла, тянула дни ее жизни, моя старшая дочь на минуточку сходила замуж и тут же, беременная, сбежала от мужа. Мама, беспомощная, полубезумевшая, прикованная к постели! Младшая моя еще тоже в штаны писает, а тут уж ясно, что надо забирать к себе внучку, если хочу, чтобы старшая продолжала учиться, чтобы не обкорналась ее жизнь и вернулась к ней еще не прожитая юность. А, главное, чтобы хоть пару часов в ночь спать совестливым сном, без тревог о появившейся на свет девочке. Ни сил, ни рук не хватило бы, если бы муж мой свои не подставил! Сколько угодно можно говорить о любви, но кто знает, что она такое есть, однако я хорошо знаю, что такое дружество, надежность в беде, преданность в испытаниях. С ним вдвоем, забросив всю остальную жизнь, мы выращивали две маленькие жизни и, как могли, длили ту, что уже была на исходе.
А потом были похороны и такая, все заслонившая усталость, что даже горе не обожгло, а только обдало холодом. И надо было отдавать долги, наделанные за время маминой болезни, благо муж мой художник, работает по договорам, а не по вдохновению, и, сколько может работать, столько и заработает. Зато я – ни копейки, и старшая дочь даже стипендии не получает – хорошо, что вообще учится. Он работает, как вол, ни от какой работы не отказываясь, чтобы всех нас прокормить – сквозь непроглядный бессонный мрак этой ночи я вижу его примученное вечной гонкой лицо. Из другой комнаты доносится до меня его похрапывание, и в нем слышится мне отзвук его сочувствия моим женским тяготам. Он благодарен мне за мир в доме, за старшую дочь, зато, что я заменила ее материнство своим, за то, что не раскисла. Он добрый и ласковый человек, мой муж, а я воспользовалась его добротой, задела в нем струну признательности и теперь корю его за то, что он пошел у меня на поводу, не проявил ни твердости, ни здравого смысла, не сказал мне: «Ты спятила, ну какая шуба, неужели ты не понимаешь: не по Сеньке шапка!» Нет, он даже слов таких, кажется, не знает. Это я теперь говорю: «Не по Сеньке шапка!»
Сначала он обзвонил всех, у кого можно было бы занять хоть пару сотен. Но, как знак судьбы, прозвучало в ответ абсолютное безденежье ближних, и тогда он позвонил одному типу – тот пообещал кое-что разузнать, и на лице мужа появилась загадочная уверенность. Вскоре он объявил, что все в порядке, нужно только придумать, что бы отдать в залог: деньги даст ростовщик под проценты – очень божеские – и под залог. Понятно, что если бы в это время на нас двоих пришлась бы хоть капля здравого ума, мы тут бы и остановились: драгоценностей у нас нет, в залог отдавать нечего. Но необыкновенный полет мысли разом бросил нас к столику – к маленькому антикварному столику, маркетри в бронзе – единственной ценной вещи в нашем доме, моей наследной реликвии.
И вот поздним вечером, уложив детей спать, мы погрузили столик в такси и через весь город повезли его в заклад. Мы едем и очень веселимся, нам смешно от мысли, что о этом городе, а может быть, даже в целом мире никто не возит столиков в заклад, уж во всяком случае никто, у кого ничего, кроме столика, нет, не стал бы закладывать его ради такой затеи.
И вот теперь я лежу без сна, у меня в ушах, в глазах, во рту, в легких гул тоски от стыда и безвыходности. И дико мне вспоминать о том веселье – так же, как дико вспоминать, о нашем притворном желании соответствовать церемонности и напыщенности ростовщика, об усилии ничем не выдать отдельности наших жизней от жизни его и его крокодильски-моднючей жены.
В Ленинграде все мало-мальски друг друга знают, или друг о друге, и я понаслышке знаю, что этому губатому, шепелявому бывшему плейбою капиталец достался в наследство от папаши, и к пятидесяти годам, женившись на молоденькой уродине, он вынужден к мизерной инженерной зарплате добавлять проценты. Я понимаю, он не виноват в том, что ни прокормиться, ни одеться на его зарплату нельзя; мы оба – и я и муж благодарны ему, мы ведь и сами затеяли жить не по карману – шубу нам. видите ли, подавай!
«Нет, – говорю я себе среди ночи – я дрянь, я тысячу раз дрянь!» Среди просеявшейся тьмы я отчетливо вижу, какая я дрянь, нахлебница, иждивенка, провокаторша! Ничем, никогда не помогла мужу, за все годы, что прожила с ним, этой осенью впервые заработала триста рублей – впервые напечатали мой рассказ – один-единственный из вороха исписанной бумаги.
Может быть, эти триста рублей вскружили мне голову? В самом деле, разве я не жду, что теперь, когда один из моих рассказов увидел свет, мне начнут звонить из редакций, приглашать, просить дать что-нибудь и для них? Жду, но ведь знаю же я, что у меня для них ничего нет – я пишу давно, написано много, но я никогда не знала нужды считаться с мнением редакторов и цензуры. Да, я была вольна в пределах своего дома. По заказам трудится он – мой друг, и товарищ мой верный. А тщеславие свое я надежно сковала, так что и не достанешь – но так ли уж надежно? Не оно ли прорвалось наружу, абсурдно и бессовестно обретя очертания ободранных барашков?!
Конечно, мы расплатимся, даже столик, может быть, не придется продавать, муж будет работать еще больше, он будет недосыпать, усталость навсегда врежется в морщины у глаз, я слишком хорошо представляю себе, как тошно ему делать сотню сухих букварных картинок для издательства «Просвещение», делать их без всякой надежды кого-нибудь просветить ими и без всякой надежды на просвет в подневольной работе…
Ночь, конечно, все преувеличивает, громоздит одно на другое, но разве днем я не испытываю стыда перед ним? Мыть, стирать, готовить, кормить, зашивать, гладить – это не стыдно; это труд, понятный каждому, но сидеть за столом и писать отсебятину, никем не заказанную и не оплачиваемую – этого не имеет права человек, в один прекрасный день решивший превратиться в «даму». То есть, именно «дама» и имеет право писать отсебятину – именно так и выглядит в глазах ее необстиранных ближних все, что она пишет. И я не подхожу теперь к столу, я стесняюсь его и сама себя. А между тем потребность писать никуда не исчезла. Только теперь мне кажется, что всю жизнь я писала не так и не то. Надо выдумать что-то такое, что сразу вдруг понравится всем – и редакторам, и цензорам, и читателям, и режиссерам, и композиторам. и хоть сколько-нибудь мне самой. Задача с тьмой неизвестных!
«Надо заработать немного денег, любой ценой, какой угодно работой, пусть даже безымянной», – уже смутно, сквозь предутреннюю, внезапно наплывшую на меня дрему, думаю я. Мысли мои растекаются, какие-то неясные фантазии утешают душу, и я уже не могу удержаться на краю дремы, мягко соскальзываю в бездну сна.
Разбудило меня нервно-настойчивое дребезжание телефона. Междугородный звонок, подумала я, еще не открыв глаза. Должно быть, мужу из московского издательства – я вскочила и успела схватить трубку вот-вот готового отчаяться телефона.
– Приношу извинения за столь ранний звонок. Вероят- но, я разбудил тебя? – Он всегда говорил мне «ты», но такой у него голос, таков строй речи, манера держаться, что я всегда отчетливо слышу «вы» – должно быть его жены, его любовницы, его партнеры по преферансу тоже слышат это «вы». Я взглянула на часы: ровно девять! В квартире тихо, наверное, муж, догадавшись о моей бессоннице, ушел и увел с собой детей, чтобы они не будили меня. Значит, эта историй началась в девять часов утра, со звонка из Москвы.
– Нет, что вы, – ответила я, сколько могла бодрым голосом.
– Тебя, должно быть, удивляет мой звонок? – Нет, он не слишком меня удивил: за четверть века нашего знакомства раза три-четыре ему случалось звонить в наш дом.
Это значило, что ему нужно навести справку, узнать чей- либо телефон. И всегда при случайных встречах он тоже говорил мне «ты», а я, всегда отвечая, сбивалась с «вы» на «ты» и, наоборот.
Вообще, голос его невозможно не узнать – это не просто голос, это часть облика, это инструмент, но вовсе не музыкальный, а скорее хирургический – от него веет холодом никеля, он проникает в вас так. как если бы он находился в руках опытного нейрохирурга. Он настораживает и вместе с тем импонирует вам – услышав его, вы тотчас же перестраиваетесь на некий, несвойственный вам лад, вы немедленно вступаете в какие-то еще не известные вам, но наверняка корректные отношения с этим голосом.
Мы знакомы очень давно, но как-то стороной. Впрочем, мы с мужем бывали пару раз у него дома еще в ту пору, когда он был ленинградцем. Уже став москвичом, он приехал в Ленинград с новой женой, и кто-то привел их к нам, но наше знакомство так и осталось опосредованным – через кого-то, через что-то, через его интерес не к нам, а к кому-то или чему-то. Очень возможно, что такое же ощущение возникало и у других его знакомых, может быть, даже у его жен, у его любовниц.
Помнится, в молодости я всегда завидовала его любовницам. Мне в моих романах всегда недоставало игры, условности, внешней формы; меня огорчала скоропалительность их развития, когда все ясно, но что ясно, когда ничего не ясно, но уже неинтересно. Мне не раз случалось наблюдать его невысокую подтянутую фигуру, увенчанную некрасивой головой пасхального болванчика, будто кто-то к яичной скорлупе приклеил немного волосиков, оставив лысину, перекатывающуюся в обширность лба; приклеил крепкий нос, наметил глаза да рот, но смешно не получилось, и бросил расцвечивать. Получилось уныло, зато многозначительно.
Его походка, манера держаться отличались той особой мышечной свободой, которая спортсменам и балетным – каждому на свой лад – дается как результат уверенности в своем физическом великолепии, в то время как человек, когда-то ощутивший себя некрасивым подростком, стремясь победить сковывающую его застенчивость, вырабатывает эту свободу движений умственным расчетливым усилием.
Наблюдая где-нибудь в ресторане Дома кино или на «Крыше» в Европейской, как он проводит к столику свою спутницу, как усаживает ее, всегда некрупную хорошенькую блондиночку, делает заказ официанту и тотчас уходит в беседу, я всегда с завистью думала: ну о чем же все- таки он с ней беседует? Блондиночка, конечно, славненькая, кажется актрисуля из третьеразрядных. Со счастливым обалдением в лице она норовит то привскочить, то помахать кому-то, озирается по сторонам, но в конце концов тупится в тарелку – должно быть, он объяснил ей, что это моветон – он ведь знает, с кем имеет дело, но знает так же, что властен это сырое и податливое лепить на свой лад. «Я могу из горничных делать королев!»
Мне почему-то всегда хотелось, чтобы кто-то что-то стремился сделать из меня. Я завидовала до тех пор, пока одна из мордашек, брошенная им с ребенком, не кинулась в лестничный пролет. Тогда много говорили об этой истории. И страшным холодом стало веять от одного его имени. Но странное дело: даже то, что он не только не усыновил осиротевшего ребенка, но никогда никакого участия в нем не принял – даже это осталось за чертой обсуждения, словно плавным жестом его долгопалой руки отведенное в сторону. Скоро он заставил говорить о другом – мне кажется, он всегда знал, что о, именно тот человек, о котором люди обязательно должны говорить, стало быть, ему только и остается срежиссировать, о чем им говорить, а что забыть намертво. В довольно короткий срок он дал обильную пищу толкам – вот только что вышел на экран фильм по его сценарию в соавторстве с одним очень крупным деятелем – как он до него добрался?
– А вы смотрели фильм? Ничего особенного, но занятно: о разведчике, да, о нашем шпионе…
А вот, едва увлекшись антиквариатом (на гонорар за фильм, должно быть?), он точас прослыл одним из самых удачливых коллекционеров, вот уж он не ленинградец, а москвич, нет, и жена с ним переехала. Немного позже пришли слухи, что он ее, уже немолодую, бездетную, бросил. Но, боже мой, она же ему никогда не мешала, кто бы подумал?
– А знаете на ком он женился? На дочке дипломата, она уже ребенка ждет!
– А как же та?! Вот бедняга!
– Ну нет, он с ней с прекрасных отношениях. Весь антиквариат оставил у нее!
– Неужели?
– В сущности живет на два дома.
– А как же та?
– Он обеих держит в руках: чуть что: «Цыц, не дам ни копейки!» И они обожают друг друга.
– Ин-те-ресно…
Время катило ком сплетен, он рос, то обретая вовсе легендарные очертания, то вдруг проглянет реальность, да еще тут же явится миру прямое подтверждение в виде много-много серийной телевизионной постройки из дав- но забытого комсомольского романа; тогда чье-то завистливое: «Он входит в десятку самых богатых людей!» вас не удивляет, даже внимания вашего не задело бы, кабы тут же не услышали: «А знаете, на ком он женится?»
– То есть, как? А та?
– Ни та – ни эта! Он на голландке женится!
– Интересно…
– Тихо-мирно, без лишнего шума: внушил, что это всем будет выгодно; будет ездить туда-сюда, шмотки возить… то-се…
– Ин-те-ресно…
Это было как раз последним, что докатил до меня ком сплетен, и поэтому, когда я услышала: «У меня к тебе деловое предложение» – мысль о том, что муки и упования бессонной ночи оказались вещими, как бывает вещим сон, выстрелила в мозгу, и я замерла у телефона.
– К сожалению, я сейчас болен, времени у меня мало, в ближайшие дни я уезжаю и надолго. Поэтому, если тебя интересует мое предложение, ты должна буквально се- годня-завтра выехать в Москву.
Я не спросила, что за предложение. Я могла спросить, и он мог мне ответить: «Это не телефонный разговор». Но я не спросила.
– Сейчас нет мужа, он придет, и я выясню, смогу ли я приехать.
– И сразу перезвони мне по номеру… Это квартира моей первой жены – болею я, естественно, у нее.
«Естественно» – с многозначительной усмешкой. Я повесила трубку и села. Я сидела так до самого возвращения домой мужа с детьми. Слышу детские голоса, понимаю, что надо идти, помочь им раздеться, но сижу, как села – у телефона.
– Что с тобой? – спрашивает муж.
– Знаешь, кто мне звонил? – говорю я. – Из Москвы… Да. И предлагал мне работу.
– Да ну? Дети, перестаньте орать, видите, нам с мамой поговорить нужно? Какую работу?
– Он же на голландке женился: наверное, у него есть договор, а он уезжает и, должно быть, хочет нанять меня, понимаешь?
– Он так и сказал?
– Нет, он ничего этого не говорил. Он сказал, что у него ко мне деловое предложение, и я срочно должна приехать в Москву. Но какое у него может быть ко мне, деловое предложение? Я не спросила конкретно – это не телефонный разговор.
– Да… В общем-то конечно; у тебя вышел рассказ, так что вполне может быть…
– Он сейчас болен и сам приехать не может. Мне немного понадобилось слов для того, чтобы через десять минут родной мой уже звонил приятелю и просил у него сто рублей в долг мне на дорогу – приплюсуем их к гигантской сумме, тяготеющей над нами. Но ведь я теперь заработаю, я соглашусь на все, я буду работать, я недрожащей рукой выполню любой заказ – ведь ездила я же на стройки, писала очерки, за жалкие, ничего не оправдывающие гроши – а тут пожалуйста, пусть даже авторство мое будет анонимно – это даже лучше, это поможет мне отстраниться, что угодно переделать во что угодно, выдумать то, что я сама выдумать не могу, исполнить чужой замысел, каким бы далеким от меня он ни был… Через каких-то полтора часа я уже могла перезвонить в Москву и сказать, что выеду завтра, значит послезавтра:
– С вокзала прямо сюда: тебя будет ждать великолепный завтрак и деловая беседа, – и он продиктовал мне адрес.
Тут я сделаю небольшое отступление. Когда-то я написала рассказ, так и оставшийся моим любимым рассказом. Имя его героя осталось моим излюбленным именем. Он вовсе не был хорошим человеком – этот герой – ущербный, с неполучившейся жизнью, с ничтожной мечтой, приведшей его к гибели, такой же убогой, какой была вся его жизнь, если бы только смерть не была всегда возвышена относительно любой самой жалкой жизни. Но все равно я, создавшая его, прошедшая с ним весь путь из детства к небытию, любила и жалела его. Я скорбела об уродстве его детских лет, видела, как неумолимая реальность вела его к концу – сам он был для меня только жертва этой реальности. Он погиб в конце придуманного мной рассказа, и я навсегда храню в сердце память о нем. И мне дорого его имя. И если бы я и теперь предавалась вымыслу, я никогда не назвала бы своего героя тем именем. Но здесь нет места вымыслу – это только хроника, запись реально происшедших собы- тий.
Я сама согласилась стать одним из главных действующих лиц этого рассказа, ради все той же неподдельной реальности – но мое имя неизбежно известно читателю, а вот что делать с именами других действующих лиц – не знаю. Ясно одно: я не имею права называть их настоящих фамилий, но с фамилиями как раз дело обстоит проще: я позволю себе по мере надобности позаимствовать их у любимого мной писателя, настолько большого писателя, что, будь он жив, он никогда не обиделся бы, только посмеялся бы над моей дерзостью. А вот с именами дело обстоит хуже. Кому-то можно дать какое попало имя, кто- то и вовсе обойдется, однако имя главного героя мне не измыслить. Вернее, мне не отторгнуть его от реального имени, тут все мое нутро протестует, как я ни стараюсь, какое бы ни пыталась прилипить ему имя – тотчас его голова отскакивает от туловища, и он получается уже не он. Остается одно: дать ему фамилию Шишнарфиев и избежать упоминания его имени, или нет, пусть будет имя, пусть оно останется тем самым, которым его еще маленького, с легким детским пушком на головке, с сопливым носиком, переваливающегося на нетвердых ножках окли- кала мама: «Саша! Сашенька!»
Итак, решено, Саша, завтра я сажусь в поезд – само по себе великолепно, что послезавтра мне не надо будет варить детям геркулесовый клейстер, караулить молоко – оно все равно всегда убегает из кастрюльки и пятном неудачи запекается на плите, мне ничего не надо будет мыть и скрести – мне обещан великолепный завтрак и не менее великолепная беседа.
…Я точно знаю, что это был субботний день, но сейчас не буду говорить о том, что не дает мне сбиться, это само собой станет ясно в дальнейшем; тогда же, войдя в его подъезд, я просто ощутила, что за всеми дверями еще спят, нежатся в сладком предутреннем сне, потягиваются – каким-то постельным теплом пахнуло на меня на этой безлифтной лестнице, как-то еще осторожно, боясь разбудить хозяев, тявкали на меня из-за дверей невыгулянные собачонки, а на последнем, пятом этаже я, здорово запыхавшись, позвонила и услышала шарканье, шлепанье, покряхтыванье, и неузнаваемый, а только что-то отдаленно напоминающий надтреснутый голос предупредил:
– Извини, я не одет. Дверь распахнулась, и я мгновенно и сильно обомлела: в болтающейся, просторной так, что можно в нее дважды обернуться, пижаме стоял передо мной желтый, ссохшийся, как старый пергамент, источенный болезнью, как- то оседающий на зыбкие колени Саша. Я так и уставилась на ушедшие в глубину придерживаемой руками пижамы желтые ребра, потупилась и увидела желтые беспомощные ступни, сунутые в стоптанные шлепанцы – чуть было не отпрянула, не убежала, но в это время услышала:
– Да заходи же! Вот, прости, хвораю, но, думаю, это не помешает нашей беседе… быть занятной…
Кажется, он понял, что потусторонним, ужасающим, как само явление гибельности, предстал моим глазам. Но уже знакомая ироническая улыбка скользнула, искривила рот, и прозвучало непременное, обязательное, как галстук – на сей раз вместо галстука;
– Меж тем, ты выглядишь замечательно, похорошела!.. Прости, я сейчас разбужу хозяйку, я должен лечь, ты пока приводи себя в порядок с дороги, чувствуй себя как дома.
Он все-таки нашел в себе силы принять мое пальто, повесить его и отправился о комнату, дверь которой выходила в прихожую. Не слышно распорядившись там, он прошаркал мимо меня в другую комнату, скрытую углом прихожей.
Я много лет не видела его первой жены – я назову ее Варварой, но ни ее скошенный и теперь вросший в раздавшуюся шею подбородок, ни брылями обвисшие щеки уже не произвели на меня ни малейшего впечатления. Кутаясь в стеганный нейлоновый халат, она мельком скользнула по мне еще мутными со сна, заплывшими глазами, сказала: «Ты пройди к Саше». И ушла на кухню. Но мне не хотелось к Саше! Я бы с удовольствием пошла с ней, я бы сама им обоим приготовила завтрак и подала бы в постель, я бы уж лучше целый день, пока не придет время бежать на поезд, готовила, мыла бы, подавала и уносила бы, а на кухне нервно курила бы сигарету за сигаретой, но только бы не сидеть там у его постели, не зная, как спрятать, чем прикрыть сквозящий ужас безнадежности. Но, призвав на помощь все свое мужество, я нарочито храбро, как-то даже по-военному, даже отмахнув желание попасть в уборную и ванную, вошла к нему и удивилась не меньше прежнего.
Да, пожелтел, похудел, и пижама на нем все та же, но совершенно непонятно, каким образом уже обрел всегдашнюю свою импозантность, и никакая потусторонняя тень уже не касалась его чела, отнюдь: выражение деятельной заинтересованности в сочетании с принятой им удобной и вместе с тем изысканной позой посередине огромной четырехспальной кровати – карельская береза, старина, Павел Первый! – все отражало уверенность и благополучие, призывало к спокойствию.
Однако, не так-то просто. Что-то такое я пробормотала вроде того, что, дескать, сейчас уже не так чтобы… И обволакивая меня, проникая в меня хорошо настроенным голосом, Саша объяснил, что у него болезнь желчного пузыря, что да, он потерял двенадцать килограмм. На днях его покажут известной целительнице и диагностке Джуне, но в смысле диагноза он ничего нового услышать не опасается, потому что ему уже лучше, а от операции. очевидно, отвертеться не удастся. Однако, мне должно быть известно, что он собирается в путешествие:
– Прикрой поплотнее дверь, извини, что пользуюсь правом больного и вынуждаю тебя ухаживать за мной. Видишь ли, ни Варя – человек мне очень преданный – ни Лиза! Кстати мы с тобой сегодня у нее обедаем, я собираюсь сегодня встать – само собой разумеется, никто другой не должен быть посвящен в содержание нашей беседы.
Эту преамбулу, как и все дальнейшее, я запомнила чисто механической памятью. Внутреннее мое участие в беседе шло совершенно вразрез всему произносимому, во всяком случае в тот момент, когда он говорил, что ему уже лучше – мрачная мысль о том, что все так говорят, и никто крепче безнадежных больных не надеется, про- вернулась во мне и затмила все прочее.
– Ты извини, – он еще ничем не затруднил меня и мог бы так часто не извиняться, но мысль эта осталась невысказанной. потому что последующая фраза успела исключить всякое высказывание с моей стороны.
– Я знаю, ты сама любишь и умеешь поговорить, но сейчас тебе придется совершить над собой небольшое усилие и по возможности терпеливо меня выслушать. Готова ты к такому построению нашей беседы? И легкая улыбка, и ей в ответ мой молчаливый кивок: мечтала же, чтобы кто-то из меня делал что-то, и вот – пожалуйста!
– Так вот, прости, я должен встать! – Еще одно извинение и улыбка, перекроенная в гримасу страдания, глаза, затянутые болью внутрь. Покряхтывая, он доплелся до стола и сделал несколько жадных глотков из горлышка большой аптекарской бутылки с прозрачной жидкостью.
– Новокаин, – объяснил он – болеутоляющее, сейчас пройдет… Лизкина сестра достала… – И я увидела, как быстро, готовая истаять, порция бодрости пополнилась и на моих глазах затвердела. Уверенно, вполне здорово он вернулся к кровати, принял прежнюю позу, по-турецки уложив ногу на ногу, а я вся превратилась в слух.
– Так вот: разумеется, тебе это неизвестно, но уже много лет я работаю, пишу эссе, статьи для западных издательств. Это не слишком трудно – дело только в несколько ином освещении, ну скажем, судеб русских модернистов – если это статья об истории русского модерна. – словом надо знать, что может интересовать западного читателя и соответственно подавать материал. И, как видишь, совершенно безопасно: конечно, я не подписываю статьи своим именем и, к сожалению, оно на Западе никому неизвестно. Но даже, если бы и было известно, совершенно очевидно, что там пробавляться такими статейками – это совсем не то, что писать их, сидя здесь. Теперь я (напоминаю: только тебя и никого больше!) хочу посвятить в свои планы на будущее. Ты знаешь: я женился на голландке и вот уезжаю, как предполагается всеми, в том числе и Варей и Лизкой, на три- четыре месяца. Варе я, правда, сказал, что если мне удастся там сделать операцию, то я продлю срок своего пребывания до восьми месяцев. Конечно, если уж делать операцию, так только там – здесь при всех связях, при том, что я могу лечь в самую лучшую клинику – шансов выжить после операции практически нет: все московские клиники заражены стрептококком. Можешь себя представить, если сыну лауреата Ленинской премии, героя Соцтруда и т. д. вскрыли чирей на голове и внесли инфекцию – через три дня он умер – что можно ждать после той операции, что нужна мне? Варя это понимает, и Лизка тоже. Но тебе я скажу больше – я, вообще, не собираюсь возвращаться. Во всяком случае, я хотел бы иметь возможность не возвращаться. Н, наверное, ты сама догадываешься, что мой брак, если и не вполне фиктивный, то и не вполне сложившийся в нерасторжимую семейную связь, с женщиной хоть и достаточно обеспеченной, но только по нашим нищенским понятиям богатой, не подает мне права рассчитывать на ее средства, необходимые на операцию, санаторий после операции, и вообще, на жизнь. Я не привык быть зависимым от кого-либо здесь и не хотел бы этой зависимости там. Одним словом, я должен обеспечить себе возможность безбедного там существования. И как это ни странно, я понял, что лучше всего мне решить эту проблему, находясь еще здесь. Из всего, что я на сегодняшний день имею, я ничего не могу вывезти. Единственное, что имеет смысл здесь продать со всей возможной выгодой, – это некоторые – я не склонен к преувеличениям – мои способности. Я имею в виду литературные способности. И представь себе: покупатель нашелся.
Покупатель, заказчик, продюсер – как угодно – но человек, готовый заключить со мной договор на многосерийный фильм для израильского, не будем стесняться этого слова, Тель-Авивского телевидения. Казалось бы, все устроилось, как нельзя лучше: я уезжаю, пишу первую- вторую серии, исполняю условия договора и в качестве нормального миллионера начинаю благополучное существование в любой угодной мне западной державе. Потерпи еще минутку – я вижу твое нетерпение: сейчас тебе все станет ясно.
Он ошибся: то, что он принял за нетерпение, было ошеломлением! Голодное нытье под ложечкой, надежда на приятную (вовсе не такую бесправную) беседу за завтраком, тоска по сигарете – все решительно растворилось и туманом окутывало мои ошеломленные мозги. Убийственно далеко Сашины планы лежали от моей маленькой надежды на легкою наживу путем экранизации романа «Жатва», «Битва», «Новь» или «Бровь» – все равно какого! Я молчала не потому, что согласилась молчать – я онемела!
А он продолжал:
– Сейчас ты поймешь, причем здесь ты и зачем я тебя вызвал. Видишь ли, я сказал, что мне удалось выгодно продать свои способности. Должен признаться, я их продал слишком выгодно: как человек, относящийся к себе вполне здраво, я признаю за собой профессионализм, умение кое-что делать. Но все это не стоит тех денег, на которые можно рассчитывать – такие деньги платят за талант. У меня его нет – он есть у тебя.
Вот слова, резко вытолкнувшие меня из оцепенения. … Этой зимой на выставке одной очень старенькой ленинградской художницы, уже побродив по залу и наглядевшись на смутно-грустные пастели, мы вышли куда-то под лестницу, где толпились курильщики, все больше восхищающиеся преклонным возрастом художницы, нежели ее работами.
Муж с кем-то стал спорить, говорить о «Ленинградской школе», о верности теме, и в это время к нам присоединился абсолютно некурящий молодой человек, живыми глазками, с большими ушами и широко растянутым ртом. Поклонник всех искусств, гость всех сколько-нибудь примечательных дней рождения. Обладатель великолепной памяти, он звонил, поздравлял и оказывался приглашенным – случалось и мной, но годы знакомства ни в дружбу, ни даже просто в расположение не превратились, а так и оставались только знакомством. Даже с легкой примесью неприязни.
При всем том он слывет большим интеллектуалом, знатоком чего-то такого, чего никто другой не знает. Но главное за ним числится какой-то поступок – в точности не известно какой, но доподлинно известно, что именно этот поступок прервал его блестяще начатую карьеру, помешал идти по дорожке, проторенной знаменитым, много преуспевшим отцом, и, более того, навсегда поссорил папу с сыном.
Это обстоятельство создало ему репутацию человека чрезвычайно порядочного, и она успешно уживалась с его «Жигулями» (при многолетней безработице), с его гастрономическими изысками и папиной дачей в одном из наиболее респектабельных ленинградских пригородов. Большеухого молодого человека с маленькой головкой и по-лягушечьи растянутым ртом я, как нетрудно догадаться, назову Аблеуховым-младшим, хотя в моем рассказе роль ему зримо отведена самая небольшая. Так вот, подойдя к нашей компании, молодой Аблеухов соединил в любезнейшей улыбке губы с ушами и, всем корпусом устремившись ко мне, сказал:
– Я о вас наслышан чудес! Вся Москва говорит о том, что вы замечательная писательница!
– Да бросьте вы! Какие глупости! – прервала я с тем ерничеством, которым всегда старалась скрыть горячую волну прихлынувшей к голове радости, едва услышу похвалу своим практически не видным миру трудам. Эти выхлопы придушенного тщеславия всегда смущают меня до полного помутнения в глазах, и я панически стараюсь скрыть, смазать, но только не выдать свое состояние. Но когда рядом стоит мой муж, друзья, привычная обстановка, сигарета в руке – отчего ж тогда не найтись? И я, все так же ерничая, отвечаю:
– Чем всякие глупости говорить, уж лучше, миленький, пригласили бы меня погостить на дачу.
Я знаю, что после ссоры с отцом он съехал с ленинградской квартиры и постоянно живет в огромном загородном доме, комфортабельном двухэтажном замке.
– Что может быть проще и вместе с тем приятнее для меня!
«Миленький» как-то еще определенней сломился в корпусе, и я уже готова была отмахнуться от его на самом деле вовсе нежданного гостеприимства, как вдруг услышала:
– Тем более, что я уезжаю в Москву, и дом будет пустовать недели две-три.
Это решило дело – слишком долго у меня перед тем болели дети, слишком они были серенькие, блекленькие, как те пастельки, что мы только что рассматривали.
По договоренности, наш приезд совпал с его отъездом. Он спустился со второго этажа, муж помог ему отнести о машину множество каких-то коробок, и он передал мне ключи со словами:
– Убедительная просьба: никогда не оставляйте дверь открытой. Даже если вы дома. Обязательно держите ее на цепочке. Кто бы из каких бы организаций, то бишь органов, ни стал ломиться – ответ один: хозяина нет, я вас впустить не могу! Вообще я очень рад, что мне не пришлось оставлять дом пустым.
Помнится, я механически подумала о том, что уж если придут из органов, вряд ли мой домработницкий ответ их остановит, но точно, что наставление показалось мне шуточным, однако двери справно запирала, и две недели прошли дивно: дети перестали кашлять, порозовели, мы надышались на весь остаток зимы и благополучно разминулись с хозяином, оставив ключи и благодарственную записку в условленном месте за два часа до его возвра- щения.
А зачем, собственно, я рассказываю об этих случайных каникулах? Ах, да! Вот что: я вспомнила о них потому, что в то субботнее утро, с трудом разомкнув слипшиеся связки, хриплым, не своим голосом спросила:
– Откуда ты знаешь о моем таланте?
Чудная, смущенная улыбка человека, говорящего от глубины души приятные сокровенные слова другому, осветила Сашино лицо, и даже румянец пробился сквозь пергаментную желтизну щек,
– Ты меня удивляешь! Я читал сам, кроме того, знаю мнение двух наших едва ли не лучших писателей. Поверишь ли, я человек, нелегко поддающийся очарованию дамской прозы, но ты обладаешь магической властью вести за собой. В том, что ты делаешь, есть та самая способность видеть изнутри, одним точным штрихом нарисовать живой мир из плоти и крови, есть та щемящая нота – словом, все то, что совершенно недоступно моему скромному дару и без чего нельзя создать маленький, тесный и теплый мирок еврейской семьи: разочарования, бушующие страсти – осуществить ту часть замысла, которую надо писать только так, как это можешь ты! Разумеется, это только часть общего – остальное я возьму на себя. Все, что касается чистой публицистики, исторически достоверного материала, крупных общественных фигур, не говоря, конечно, обо всех организационных делах. Но мне нужен твой талант!
– А им? Что им нужно?
– Конечно, это всего лишь схема, но примерно это должно выглядеть так: черта оседлости, маленькое местечко, отсюда, из тех предреволюционных лет начинается история одной семьи, клана, история разрушения патриархального быта, революционного бунта, возвышений и падений. Мы должны провести наших героев через гражданскую, через коллективизацию, через тридцать седьмой год, через войны, через дело врачей- вредителей – вплоть до отъездов, до Исхода и увидеть уже даже не внуков, а правнуков тех, кто когда-то начинал взрывать мир. У меня есть идея; их будут играть одни и те же актеры, но уже в джинсах, уже у стоек баров, снова бунтующие, снова стремящиеся все поджечь, взорвать. Общая идея такова: не надо! Вы уже один раз породили гидру, железные челюсти, которые вас же перемалывали! Вглядитесь в страшный опыт своих отцов и дедов и поймите – больше ничего взрывать не надо! Причем самые разнообразные судьбы: кто-то был расстрелян, а кто-то расстреливал, кто-то превратился в так называемого «государственного еврея», но рано или поздно и он оказался обречен. Есть такой великолепный тип идеалиста, полного идиота: я знаю потрясающую историю человека, который до войны сидел, во время войны получил Героя Советского Союза, но после войны опять сел, вышел в пятьдесят шестом, ничего не поняв, точно таким же фанатичным идиотом.
– Да. У меня самой семнадцать лет отсидела тетка, вышла и первым делом спросила меня: «Ты комсомолка?» Я говорю: «Тетя Лена, сейчас только порядочные люди не комсомольцы, а я как все» – мне было восемнадцать лет, и я была очень беспощадна. Она в крик: «Я не верю, что тебя воспитал мой брат!»
Саша задел во мне одну из самых звучных струн, его замысел взволновал меня.
– Вот: ты сама все это прекрасно представляешь! Каждая серия – одна законченная новелла.
– Ты знаешь, у еврейских мальчиков совершеннолетие в тринадцать лет: в этот день старший брат моего отца перед всей мишпухой произнес речь на древнееврейском языке, в которой он должен был изложить свою жизненную программу. Это была его первая революционная речь. Он клялся посвятить свою жизнь борьбе с эксплуататорами. Можешь себе представить, какой произошел скандал! Родственники разбежались, а дедушка кричал: «Вейзмир! Что ты со мной сделал, разбойник!»
– Великолепно! – Неподдельное удовольствие озарило Сашино лицо, его желтые, вялые руки, прогибаясь наружу, будто они лишены суставов, беззвучно аплодировали мне. – Это центральный эпизод целой серии!
О голоде я забыла совсем, но курить от возбуждения хотелось еще сильней. Вообще эта невозможность при нем курить действовала на меня как-то странно, словно бы не давала способа овладеть собой, чем-то пригасить возникшую взвинченность. А он продолжал:
– Как видишь, я не ошибся: ты именно тот человек, который сможет скомпенсировать мой сухой профессионализм. Это будет широкое эпическое полотно, и в нем должны действовать крупные исторические фигуры – к примеру, Троцкий – но ты не пугайся: это как раз я беру на себя. Ты будешь делать только то, что лучше тебя никто не смог бы сделать. Конечно, работа потребуется большая – я имею в виду подготовительная работа – тебе придется много ездить, побывать во всех еще сохранившихся провинциальных местечках, придется знакомиться с людьми, как-то входить к ним в доверие, расспрашивать – словом собирать материал.
– Саша (в эту минуту мне показалось, что я овладела своим взбудораженным сознанием), Саша, скажи мне, как же при том, что ты уезжаешь и даже не собираешься возвращаться, тебе представляется возможность совместной работы?
– Ну, это как раз самое простое: мы в общих чертах оговариваем объем твоей работы, и ты начинаешь собирать материал. Что-то небольшими порциями ты пишешь – пусть это будут совершенно разрозненные куски, неважно, но все написанное ты пересылаешь мне. А уж остальное – моя забота.
– Как пересылаю?
– Разумеется, не по почте. Есть три канала, которыми ты будешь пользоваться: небезызвестный тебе Флейш, Аблеухов и Морковин. Он, кстати, будет служить для тебя основным источником информации. Ты знакома с ним?
– Да нет… Только понаслышке от Флейша… или от Аблеухова… – странная мысль шевельнулась в голове и на минуту замедлила происходившее в ней кружение. Жить в бешеном темпе скачущей, возбужденной фантазии было в тысячу раз приятнее, и я отогнала ее. Уже отлетая от меня. она, видно, все-таки коснулась Саши и потребовала от него кое-каких объяснений:
– У него есть доступ к любому закрытому материалу, одно время он работал в Ленинской библиотеке, у него остались там связи. Ты сможешь получать через него и любую выходящую на западе литературу. Но думаю, что поездка в Биробиджан для тебя будет гораздо полезнее, чем вся литература вместе взятая.
– Саша, – опять маленькая заминка в трепещущем сознании, – я же очень прикована к дому…
– Ты все-таки не поняла, как должна измениться твоя жизнь с того момента, как ты дашь согласие на наше соавторство! Прежде всего – полное финансовое раскрепощение! Кстати, поскольку я тебя вызвал, все связанные с поездкой расходы мы делим пополам. Варя!
– Сейчас, завтрак уже готов, я только переоденусь, – отозвалась Варя, но дело было не в завтраке.
– Варя! – с настойчивостью дрессировщика повторил Саша, и она тотчас появилась в дверях.
– Пожалуйста, принеси двадцать пять рублей,
Сердце мое в это время проделало несколько болезненных скачков. Но к тому моменту, когда Варя вышла из комнаты, успело занять свое место:
– Это невозможно. – сказала я, глядя себе в колени, – Я приехала потому, что хотела приехать…
– Не говори ерунды! Что за провинциальные ужимки; я деловой человек: вызвал тебя, считай, в командировку и, как минимум, обязан оплатить тебе дорогу. И имей в виду: когда я уеду, ты будешь у Варвары получать все требуемые суммы, включая расходы на бонну для детей, а после первых же переданных мне материалов, твой муж сможет навсегда расстаться с заказной работой, перейти на твое иждивение и заниматься свободным творчеством.
Четвертак уже лежал у меня на коленях. Почему я не смахнула его? Просто твердой рукой не вернула Варваре? Может быть, потому, что в моем мозгу метались, налетая друг на друга, долги, шкурки, заложенный столик, сотня, занятая на дорогу, – и все это вперемешку с развалившейся на куски надеждой хоть что-нибудь заработать своим трудом.
Что-то грубо-глупое было в этом четвертаке. И я не понимала, почему Саша с такой убежденностью говорит:
– Вы, провинциалы, поразительно умеете создавать мелочные, неловкие ситуации, в то время как всего-то и требуется: понять суть деловых отношений и спрятать деньги в сумочку.
Чувствовала, он зазря меня шельмует, но не нашла в себе сил не то что превзойти, а хоть как-то уравновесить его барственную уверенность и свою нищенскую суетливую добропорядочность. Я принесла ее ему в жертву и положила четвертак в сумку.
– Сашу нельзя волновать, – донесся из кухни голос Вари. – Кончайте торговаться и идите завтракать.
Положив деньги в сумку, я достала наконец из нее сигареты, но надежда на то, что сигарета вернет мне ощущение комфортности, не оправдалось, так же как и надежда на приятный завтрак. По тарелкам была разложена пшенно-тыквенная каша (о, если бы просто пшенная!), а посередине стояла литровая банка, наполовину наполненная зернистой икрой.
– Сделать тебе бутерброд? – спросила Варя, достала из банки столовую ложку икры и протянула ее Саше. – Икра – это кровотворное, – объяснила она. – При его гемоглобине необходимо две ложки в день,
– Нет, спасибо. Мне бы чашечку кофе и, если можно, я закурю.
– Кури, конечно, только в форточку: Гарри не любит дыма. Да, Гарри? Ты не любишь дыма?
И Гарри – большой, с локоть величиной, цветастый попугай (как я могла говорить о тыквенной каше и умолчать об этом чуде в клетке, занимающей всю середину кухни?) ответил хозяйке из утробы вырванным криком, будто я не курить собиралась, а пытать его калеными щипцами. Потом он еще несколько раз издавал этот адский вопль, очевидно желая мне доказать, что он, единственный среди обилия вещей в квартире (пусть даже более ценных!) – живой. Словно его мучила мысль о том, что его, так неуклюже выставленного посреди кухни, сочтут просто имуществом, Но в то же время крик этот призван был объявить, что полноценным собеседником он быть не может и что бы ни услышал, никому не выболтает. Поэтому, как только Варвара вышла, Саша сказал:
– Разумеется, все должно делаться под «крышей»: я могу снабдить тебя официальной бумагой, скажем из Центрнаучфильма о том, что мы с тобой собираем материалы для сценария об истории Госета. И ты и я понимаем, что фильм о еврейском театре сейчас никому не нужен, но никто не может запретить нам – я ведь не лишен права здесь в Союзе работать – заниматься этим фильмом. Правда, для Варвары и Лизки я попрошу тебя твердо придерживаться иной версии: я предложил тебе работать над сценарием о русских модернистах начала века. Так нужно. По поводу этой версии тоже можно оставить тебе официальную бумагу, и она тебе тоже может пригодиться, – все, что ты будешь делать, должно делаться под официальной крышей.
Он говорил, я, безусловно, слушала – ведь запомнила же совершенно дословно. Но вместе с тем воображение уводило меня в даль невозвратных лет: я видела себя девчонкой-продавщицей книжного магазина и похожего на попугая книгоношу Яшу: крючился оседланный очками нос и сквозь чудовищные линзы испуганно ширились зрачки почти слепых глаз. Он должен был стать гениальным математиком – с четвертого курса инженеров водного транспорта, где учился в одной группе с моей сестрой, он ушел и был принят на третий в МГУ; экзамены профессорам сдавал в их домашнем кругу за чашкой чая, очков тогда не носил, и глаза его излучали какое-то светлое смущение от необъяснимой удачи родиться с мозгами специально устроенными для теории и абстрактного мышления. Но эти мозги прикрывали слишком хрупкие кости – они дали трещину, когда здоровенный верзила с какого- то, забыла с какого, но совсем с другого факультета, однажды подошел к нему сзади, и с двух сторон обхватив, сжал его голову огромными лапищами, оторвал от пола, подержал в воздухе, а когда опустил – Яша упал без сознания. Была такая шуточка: «Хочешь, Москву покажу? А то все в Малаховку ездишь!» – это он говорил уже ничего не слышавшему Яше. И больше Яша нигде и никем, кроме как книгоношей у нас в магазине подписных изданий, работать не мог; у него была старенькая мама, и он с каждым годом слеп все больше, и голова болела все чаще, а потом он совсем ослеп.
О том, что он умер, я узнала от своей сестры уже через много лет после того, как ушла из магазина. Но я всегда помнила про эту Малаховку – Яша много про нее рассказывал: те два года, что он учился в Москве, он жил не в общежитии, а на квартире в одном из пригородов Москвы, где вокруг синагоги, под сенью ее теснилась таинственная заповедная патриархальная жизнь. Здесь ходили в лапсердаках и камилавках, мальчики до четырнадцати лет носили косичку, здесь соблюдали субботу и на гортанном, как камни перекатывающиеся в стремительном течении ручья, языке толковали Талмуд. И все это – Малаховка.
– А-а! – истошно заорал попугай и дико расхохотался. Было отчего, потому что как раз в это время, вырванная его криком из тумана воспоминаний, я сказала:
– Саша, ты знаешь такое место: Малаховка?
– Вот именно! Мы с тобой завтра… нет, завтра я сдаю анализы… Послезавтра мы туда съездим. А сегодня я хотел бы, чтоб ты посетила один очень интересный дом. Впрочем, ты не сказала самого главного?
– Да, – ответила я. – Да, Саша, не знаю, получится ли у меня, но я согласна.