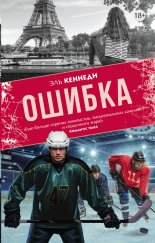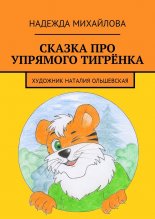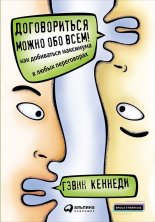Конь Рыжий Черкасов Алексей
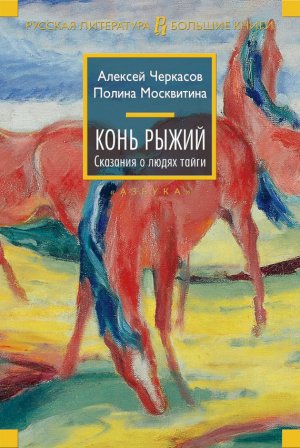
С улицы трахнули шпалою в окно, и оно со звоном вывалилось. Купец не успел развернуться, как в купе бросили камень будто, и этот камень лопнул со страшным грохотом. Все купе густо задымилось. Купец оглох. Мотал башкой, хватаясь за темя, и тут почувствовал, что у него оторвало ухо, разворотило щеку и в левом боку застрял огненный комок – прожигало насквозь. Но он был еще в себе, соображая, что и как дальше. Позвал Люсьену – ни звука, ни оха, и поп Михаил тоже молчал – упокоился.
– Та-ак, – сказал себе купец, зажимая ладонью развороченную щеку и место, где было левое ухо. – Та-ак, бандюги…
В окно валил дым – и то ладно, не задохнешься. Товар горел. Жалко. Ну да конец всему. И товарам, и купецким делам.
Огненный комок сжигал внутренности, но купец, стиснув зубы, примолк. Он был уверен, что бандиты ждут, не подаст ли кто голос из купе, и тогда бросят еще одну бомбу. Если он будет молчать, они разворотят дверь, и тут он в упор с короткого расстояния. Эх, если бы пришить этого проклятого ординарца хорунжего! Это он, Санька, выдал, наверное, купчину за большевика.
В дверь били, били прикладами. Купец молчал, а карабин держал на изготовку, стволом к двери. И как только дверь раззявилась, он из темноты на свет сразу увидел трех в шубах, но Саньки не было.
– Тут все горит, – сказал один из них. – Пущай к черту все сгорит!
Бандит повернулся спиной к купе – лицом к другому, в шубе – на одну пулю двое! Ахнул выстрел, и еще один. Купец передернул затвор – патрона больше не было. Он помнит, где-то на полке Люсьены казак Санька спрятал свое оружие. Хотел перелезть на вторую полку, но сорвался и упал на горящие тюки.
В окно стреляли по верхним полкам, но купчину выстрелы не беспокоили. Он хватал голыми руками пламя, обжигался и не чувствовал ожогов.
Он слышал, как зачастил пулемет. Та-та-та-та-та! Он еще не сообразил, в чем дело, как на линии за разбитым окном раздались голоса:
– Красные из Самары! Красные из Самары!
Наступила тишина. Удивительная тишина. Купец примолк. Время остановилось.
Кто-то лил воду на купца и товар.
В купе вошел проводник с фонарем – дюжий, сытый дядька, а за ним трое с винтовками. Купец поднял голову, испачканную в крови и саже, тяжело рыкнул:
– Гады! Стреляйте! У, гады! Бандюги!
Один с винтовкою ответил:
– Мы не бандиты. Мы красногвардейцы. Надо спасти человека! Быстрее!
Купчина помотал головой:
– Поздно. Хана мне. У-ух. Нутро сгорело. Сколько я их, э? Сколько! Э-э?
– Трех бандитов убили. Один ранен.
– Слава Христе! – И купчина сунулся головой в обгорелый, мокрый тюк. Рядом с ним, скорчившись, лежала Люсьена с браунингом в мертвой руке. Поп Михаил головой упал на лавку, а туловище под купцом.
Потом явился откуда-то Санька, предъявил свой демобилизационный документ и сказал, что он, дескать, ехал со своим красным командиром, а где теперь командир – неизвестно, была еще женщина – большевичка из Петрограда. Не иначе как бандиты утащили их за собой. А он, ординарец, спасся, спрятавшись под вагоном. Санька врал отчаянно.
А купец еще жив был и слышал вранье черноусого Саньки Круглова. Собравшись с силами, он шарил руками возле Люсьены, пока не нащупал браунинг. Тогда он приподнял голову – на него никто не смотрел, все были в коридоре у дверей, ждали доктора.
– Та-а-ак, – растяжно протянул купчина. – Где он, бандюга? За большевика продал?! Где он?
Браунинг качался в руке купца, а голова падала вниз. Все отпрянули от двери. Теряя сознание, купчина все-таки выстрелил в пустое пространство и, шумно вздохнув, скончался.
– Господи, помилуй! – перекрестился Санька, робея; он догадался, какого бандюгу хотел пристрелить купец Георгий Нефедыч. – Без памяти, а все еще стреляет. До чего отчаянный! Я с ним, товарищи, душа в душу жил. Ехали мы в Екатеринбург с товаром, чтоб закупать там хлеб для голодающего Петрограда. И вот как привелось!..
Санька умел врать и выкручиваться – не зря же таскался в ординарцах!..
И что самое отрадное было для Саньки в конце всей истории: лосевый кошель с золотыми империалами перекочевал-таки к нему в мотню и болтался на том же нательном ремешке Георгия Нефедыча!..
Так-то вот!
«Умей жить, умей крутиться» – было девизом Саньки Круглова.
Делать нечего – пришлось вытащить трупы.
А добра-то, добра-то сколько досталось Саньке!..
IV
Они шли двое в немом и стылом пространстве ночи. Санную дорогу перемела поземка. Местами, сбиваясь на обочины, Ной проваливался в снег по пояс. Он тащил куль и увесистый чемодан из буйволовой кожи, перетянутый ремнями. Дуня шла сзади с карабином на ремне через плечо. Приноравливалась идти рядом, но санная дорога была до того узкая, что они сталкивали друг друга на обочины.
Покуда шли возле леса, Дуня со страхом озиралась: не вылетит ли из чащобы волк?
– Ной Васильевич!
– Ну?
– Передохнем.
– Устала, якри тебя?
– Дорога такая трудная, как будто здесь никто не ездил. А снегу-то, снегу-то!
– Перемело…
– Тебе не тяжело тащить куль с этим чемоданом?
– Дотащу.
– Боженька, что они теперь творят с пассажирами? Как же трудно жить!
– Само собой. Летают, покуда крылья не обломают. От разрухи и распутства характеров Расея вроде напополам переломилась. Уразуметь не могу: какая жизнь будет после? Советы берут силу, а удержатся ли?
Перешли какую-то речку в черных ветлах по берегам; дорога круто свернула в займище, слева черный лес, справа плоскогорье, редкие опушки уныло белеющих берез, покатый склон, открытый всем ветрам; ветер содрал снег с горы, и они долго шли сбочь пашен. Шли, шли и подступили к логу. Уткнулись в такой глубокий снег – коню по пузо. Ной тыкался то в одну, то в другую сторону, но дороги не было – потеряли. Куда она девалась, холера? Ной оставил куль с чемоданом возле Дуни и, взяв карабин, пошел искать дорогу. Дуня как стояла в снегу по колено, так и села, будто в белый пуховик. Ветер дул в спину. Спасала обезьянья дошка. Дуня подняла воротник, спрятала руки в варежках в широкие рукава шубки и так это удобно устроилась, как в кошевке будто. А снег мело и мело. В низине чернел лес – белое и черное.
Снег мело и мело…
Ной лез и лез взгорьем в поисках дороги. Ветер рвал из-под пимов сухой снег, взвихривал, стлался белым дымом. Полы бекеши то обжимали ноги, мешая идти, то раздувались парусом. Кое-где по склону темнели в темном забвенье одинокие приблудные сосны, размахнувшиеся вширь и ввысь. Хоть бы луна выглянула из свинцовой тяжести – ни луны, ни прибежища от ветра и мороза.
Опираясь на карабин, как на дубину, Ной искал дорогу и потерял собственный след. Будто и не шел здесь. Туда сунулся, сюда – нету следа. Что за наваждение? Не потерять бы Дуню. «Ого-го-го-о!» – позвал он, повернувшись лицом в лог. Ветер напирал в спину, подталкивал. Дуня не ответила. Ной испугался и пошел вниз, в лог, потом опять вернулся – не то взял направление. Собственные следы терялись – заметало снегом. Быстрее, быстрее по склону горы. Еще раз крикнул. Прислушался, не ответит ли Дуня, но голоса не было. В логу чернолесье, как дегтярная река. Мрачная, тяжелая река. Бежал, бежал склоном, загребая ногами снег, падал грудью вперед, вскакивал и снова бежал. Белая, белая мгла. За десять шагов ни зги не видно. Крутится, вьет, вьет белые кружева, заметает следы. Белым-бело. За склоном горы чуть тише. Здесь где-то Дуня. Догадался – прикорнула на снегу и уснула, как всегда случается с усталым человеком. Это же бог знает что! Так и замерзнуть можно. До рези в глазах осматривался вокруг, выписывая спирали, и сам заблудился. Понять не может – как и откуда они шли? С той стороны или с этой? В какой стороне Самара, Волга? А вот и дорога. Точно, дорога! За гребнем снега, вылизанная до санных борозд. Опустился на колени, пощупал – точно! Дорога шла вглубь леса, в лог. Но где же Дуня? И снова полез взгорьем.
– Ага-га-га! га-га!..
Только ветер посвистывает в ответ.
Спит. Спит. Младенческим сном праведницы. Надо же, а? Где же ее искать? Подумал, заломив папаху на затылок. Взмок. Жарко. Главное – спокойствие в данный момент. Как на позиции. Если нет уверенности перед боем – лучше не начинать атаку. Дорогу он теперь знает как найти. Вот здесь излучина лога – чугунная река чащобы круто поворачивает влево, а ему надо взбираться вверх, на склон горы и там осмотреться. Лучше всего идти спиралью. Идти и кричать во все горло. Снег, набившись в голенища пимов, таял, и он чувствовал, что портянки стали мокрыми. На крутом склоне выскользнул из рук карабин и укатился вниз. Побежал за карабином, поскользнулся, круто выругался, ворча: экое, прости господи!
Умостился в снегу и, не помня как, задремал, а по всему телу разлилась до того сладостная истома, что, казалось, не было ничего дороже такой приятной минуты. Век бы отдыхать в таком вот умиротворяющем тело и душу покое. А покоя нет. И когда он настанет, покой для воина России?
– Экое! Чавой-то я, лешак? – беззлобно выругался, поднимаясь. Ноги дрожат в коленях, пальцы рук онемели. Но где же Дуня?
Ни карабина, ни Дуни.
Собрался с силами, призвал на помощь всех святителей и пошел дальше в поисках карабина. Шарил шашкой по снегу.
– Эвон куда укатился!
Надо стрелять – может, Дуня услышит выстрелы?..
V
Горит, горит, горит! Вся земля горит от края и до края, от неба и до неба. И так жарко, душно – не продохнуть. Будто пожар проник в сердце Дуни, и жжет ее, жжет сонную, расслабленную, и она куда-то бежит, бежит от пожара. Она одна в поле, на бездорожье. Где-то здесь хорунжий Ной Лебедь. Она все еще помнит, что он оставил ее в снегу, а сам ушел искать дорогу. Прошло много-много лет. Ной ищет и ищет дорогу, она, Дуня, ищет и ищет Ноя, зовет, кричит громким голосом, а голоса нет!
Стреляют. Стреляют. В кого стреляют? Дуня отчетливо слышит выстрелы и никак не может понять, в кого и где стреляют?
Снег летит и летит. Но где же Ной?
«Что это я? Что это я? – испугалась Дуня, очнувшись. Она сидит в снегу. Почему она сидит в снегу? Она слышала выстрелы. Или во сне были выстрелы? – Как жутко, боженька! Где же Ной Васильевич?» И опять хлопнул выстрел – совсем недалеко. Это же Ной Васильевич стреляет! Попыталась встать, и ноги не подняли, как чужие будто. «Я замерзну, совсем замерзну! Боженька!»
– Нооой! Нооой! – закричала что есть мочи, и Ной услышал. Побежал к косогору. – Я совсем окоченела! Встать не могу, – жалостно пробормотала, глядя снизу вверх на Ноя.
– Экое, господи прости, потерялись! Часа два ищу и сам закружился. Экая огромятущая пустошь! Ног не чуешь? Ужли обморозила? Оттирать надо. Ах ты, беда!..
Усадил Дуню на туго набитый куль с добром, стащил фетровые сапожки и, стянув шерстяной носок, давай растирать ступню в теплых, широких ладонях. Трет, трет да приговаривает, чтоб она никогда не забывала, что ноги у нее прихвачены. Дуня бормочет что-то о страшном сне.
– Плюнь ты на сон! – урезонил Ной. – Чего страшиться-то?
Оттер обе ноги, но Дуня едва могла ступить на них – огнем горели. Но она терпела и шла, шла за Ноем – за его широкой спиной.
Скоро уткнулись в сонную тишь бедной деревеньки дворов в пятнадцать или того меньше: там халупа под соломенной крышей и там, там, как копны, разбросаны среди белого безмолвия. Ни собачьего бреха, ни огней, ни дымов над придавленными снегом бедняцкими избами.
Постучались в окно какой-то хаты, еле разбудили бабу. Земляной пол, лавки, столик, нищая кухонька с черными чугунками и большущая печь, откуда высунулись белые, пшеничные головенки детей с вытаращенными глазами: один другого меньше, как поросята будто, сколько их, хозяюшка? Девятеро. Хозяина нет – вдова, до того истерзанная нищетой, что у Ноя в носу завертело. А есть ли в деревеньке добрый хозяин с лошадьми, чтоб подрядить отвезти в Самару? Ой, ой! Самара-то далече-далече! Хозяйка не бывала в Самаре, должно, далече. Ну а Волга? Волга недалече – за деревней сразу Волга. А за Волгой богатая деревня.
Ох-хо-хо!..
Ни чаю испить, ни погреться – соломы мало осталось топить печь, а кизяков совсем нет, корову бандиты прирезали и сожрали.
– Экое! – глянул Ной на испитую бабу, как она испуганно жалась спиною к печи, заслоняя свое пшеничноголовое богатство, успокоил: – Чего боишься? Или думаешь, не из той ли я банды, которая сожрала твою корову? Не из банды. С поезда мы, бежим в Самару. Погреемся малость, да пойду искать лошадей. А ты ложись спи, не бойся. И я вот тут вздремну.
Дуня как вошла в избу, села на лавку, в простенке у стола, тут же уснула – умаялась. В шубе небось угреется. Баба залезла на ту же печь, откуда выглядывали детские головенки, пошушукались там и вскоре улеглись. Потухла коптилка. Чернь и холод по всей избе. Ной вздремнул и, как только синь отбелилась в одинарном замерзшем окошке, встряхнулся, сунул карабин под лавку к Дуне, закрыл увесистым кулем и потихоньку вышел.
Едва забрезжило утро, Ной подкатил с состоятельным мужичком из соседней деревни на паре лошадей, звонким золотом расплатился, чтоб домчал мужик до Самары, к поезду торопились. Но не застали поезд – ушел при полудни, а они подъехали вечером…
VI
А в Самаре-то, в той Самаре – народищу невпроворот. Со всего голодающего Приволжья. И столько-то горя горького, столько-то охов и голодных людей, что в голове у хорунжего Лебедя, как в ступе просо: толкется, толкется, а что к чему – разберись! Одно слово – голод!.. Россиюшку опоясал голод, как нищего неугревные лохмотья.
Самара-то, русская Самарушка!
На вокзале – ни продыху, ни отдыху, ни толку, ни понятья, все смешалось в кучу и ревело одним отощалым людским мыком: дайте уехать! Дайте уехать! Куда уехать?!
А военных-то, военных! С Юго-Западного, Северо-Западного фронтов, а ты откуда, хорунжий?..
А поезда на Сибирь нет и не скоро ожидается, нужда за горло схватила: паровозов нет, депо вымерзло, угля нет, масла нет, машинистов нет, кочегаров нет, одно ясно – нет как нет! На все и вся один ответ: нет!
Разруха!..
Еле-еле Ной выжал место для Дуни в закутке вокзала: сиди, да не спи, и револьверчик свой держи в строгости: ухарей, как червей в навозе. Ты же, якри тебя, пулеметчица! Тут у нас все богатство, потеряем – никак не уедем.
Вышел на перрон: все пути забиты воинскими эшелонами. А по перрону чехи, чехи, словаки. Те самые, которые целым корпусом сдались в плен, отказываясь воевать за интересы Австро-Венгрии в союзе с кайзеровской Германией, чтобы создать потом свою республику. Многие из чехов, как помнит Ной, пели национальные песни, славили Яна Гуса, а когда свершился октябрьский переворот, категорически отказались воевать вместе с русскими войсками против Германии и Австро-Венгрии, и по приказу ставки эшелоны с чехословацкими войсками отведены были в тыл, где и ждали решения своей судьбы. И вот – эшелонами забита Самара!
Эшелоны, эшелоны, и все при боевом укладе: на платформах зачехленные пушки, пулеметы, минометы! Вот дела так дела!
Узнал у железнодорожника: вечером отправят санитарный эшелон с тифознобольными чехами во Владивосток по специальному разрешению Ленина.
Как бы уехать с этим эшелоном? Железнодорожник посоветовал толкнуться к генералу – эвон императорские вагоны, видишь? Там много набилось бывших русских вашбродей. А ты не «вашбродь»?
– Хорунжий, – с достоинством ответил Ной.
– А! Из тех же перышек!
– Красный хорунжий.
Железнодорожник в замасленной тужурке некоторое время внимательно приглядывался к Ною, потом сказал:
– Ежли красный – не иди в генеральский вагон. Там нос держут на свержение Советской власти. Вот такие дела! А других поездов нет – пути забиты. Дня за три рассортируем чехов по станциям, как только поступят указания власти, а пока пробка заколотилась. – Подумав малость, посоветовал: – А ты попробуй. Да не выпирай красную кожу наружу – может, уедешь с ихним эшелоном.
Направился хорунжий в генеральский вагон. Стрелок при немецкой винтовке с ножевым штыком никак не мог уразуметь, что понадобилось высоченному казаку при шашке и в лихо заломленной папахе в генеральском вагоне! Гнал прочь. Винтовку наискосок – запруда стальная.
Вышел из вагона капрал Кнапп – морда утюга просит, глаза вприщур, усы нафабрены. Часовой доложил капралу Кнаппу: лезет русский казак.
– Шьто надо, казак?
– Здравия желаю, ваш-сок-бродь! – отчаянно козырнул прошлогоднему противнику хитрый хорунжий; черт с ним – рука не отсохнет, а вывезти может.
Капрал Кнапп молчит. Знает, бестия, что с революции русские чествование отменили.
– Хорош казак! Шьто надо?
– Уехать бы мне в Сибирь, ваш-сок-бродь, с санитарным эшелоном. Как бы поговорить с генералом?
– О! Генераль? Не можно! Нет! Можьно подпоручик Богумил Борецкий. Он будить отправлять эшелон на Владивосток. Франций, Франций!
Капрал позвал за собою служивого в мягкий, бывший императорский вагон под медными надраенными орлами. И кого же Ной встретил в коридоре вагона? Вашброди, вашскоброди! И все нацепляли на себя погонушки, иные в эполетах, аксельбантах, начищенные, наутюженные, нафабренные, как золотые империалы из банка. Что же такое происходит? Бог ты мой! Кого видит? Сотник Бологов в кителе, в начищенных сапогах, усики накручены, глаза-шельмы и кадык, давящий на воротник кителя. Но откуда же у сотника есаульский погон с одним просветом без звездочек? Когда и кто произвел его в есаулы?
Зеленовато-кошачьи глаза Бологова до того округлились, не мигая, будто готовы были выскочить из орбит.
– Конь Рыжий! – воскликнул он, забывшись. – А, черт! Извини. Надо же – запомнил. Какими судьбами занесло тебя сюда, господин хорунжий?
Ной сказал, как его занесло, – уехать надо.
– А, черт! Вижу и глазам не верю. Ты хоть скажи – откуда явился в Самару. Из Гатчины? Ну как там?
– Демобилизовали полк.
– Да ну?! Здорово! А немцы прут на Петроград. Не сегодня, так завтра возьмут. Пятнадцать дивизий шарахнули. Слышал? Прут, прут немецкие битюги! А ты знаешь, как раскололи наш центр? Это же солдатня! Хорошо, что ваш полк не восстал, – расчихвостили бы вас. Я еще двадцать четвертого января смылся из Пскова – еле ноги убрал, многих наших центристов шлепнули. Через военно-полевой суд. А сейчас тут встретил Дальчевского, генерала Сахарова и Новокрещинова – их выслали из Петрограда. А хорунжего Мотовилова произвели на тот свет. Слышал? Да много здесь наших офицеров из Пскова и Петрограда.
Ной помалкивал. Ну, сволота! Хоть бы в одном глазу совесть проклюнулась! Сам же приезжал подбивать полк к восстанию, а теперь похохатывает.
– Ну а как там женский батальон в Суйде? Разгромили?
Ной неопределенно пожал плечами – и молчок.
– Эх, и батальонщицы были! Мм! Штук тридцать – георгиевки. Из телефонисток, гимназисток, курсисток, разные, всякие. Я у них часто бывал. Нарвались здорово они!.. Была там парочка: одна сибирячка Дуня Юскова, пулеметчица, и Женя – институтка из Смольного. Я с этой Женечкой – бог мой! До сих пор в голове угар. Дальчевский говорил, что ты спас Дуню Юскову. Где она?
Ной хлопал карими глазами – и ни звука, как в рот воды набрал.
– Эх, и молчун ты, хорунжий!
– Само собой, – весьма неопределенно ответил Ной, подумав: если увидит Бологов Дуню Юскову – моментом захомутает и утащит за собою в преисподнюю, в смолу кипучую.
– А мы тут собрались на чествование чешского генерала Сырового, пятидесятилетие, кажется. Просил к обеду всех русских офицеров откушать в вагоне-ресторане. Будут какие-то важные лица. Переговоры ведем. Чрезвычайно важные! Большевиков не сегодня завтра пихнут из Петрограда. С нетерпением ждем этого дня. Чехословацкий корпус нам может оказать помощь. Ну, пойдем к подпоручику Богумилу Борецкому. Может, он втиснет тебя в санитарный эшелон. Но имей в виду: уважение, уважение и парадная честь! Это наши будущие союзники, учти. Особенно офицеры корпуса.
Подпоручик Богумил Борецкий изволил откушивать в своем отдельном купе, не ожидая званого генеральского обеда. На подносе – индейка, кофеек в серебряном чайнике, бутылка марочного коньяка, что-то еще, накрытое ослепительно-белыми салфетками, ну и сам, собственной персоной: в одной исподней рубахе, австрийских шароварах на тяжах, чтоб не свалились, молодой, здоровенный, грудина на отрыв пуговиц, в щеки пальцем сунь – кровцу добудешь; упитался на тыловом харчеванье на территории позапрошлогоднего противника. Не воевал, должно, ни за Австро-Венгрию против России, ни за Россию против Австро-Венгрии, а вот, поди ты, какую власть имеет! По уставу царской службы не положено отдавать честь противнику или тем паче военнопленному, да еще перед сидячим, гологоловым, а вот на тебе – замри и стой, хорунжий драный, тянись хвощом, коль Россию одолела вша несусветная!
«Есаул» представил: так и так – хорунжий Енисейского войска, рубил большевиков в Петрограде во время недавнего мятежа, бежал и теперь надо ему уехать к себе в Красноярск. И ни слова о разгроме женского батальона!..
Ноя как дегтем окатило! Вот как господа вашброди аттестуют себя чехам! Все они, оказывается, рубили большевиков и чудом спаслись. А ведь сами бежали из армии без оглядки и, конечно, погоны не цепляли на плечи!
Подпоручик так-то липуче разглядывал хорунжего Лебедя, ну будто купить задумал. Вытер губы салфеткой, оттянул большими пальцами тяжи на плечах, отпустил – звучно шлепнули, еще раз оттянул – еще раз шлепнули. Понравилась музыка.
– Петр-град? Капут польшефик! Фриц, мадьяр – делать пудут с польшефик – шлеп, шлеп, – показал оттяжкою на тяжах. – Ми требайт от польшефик немедлен отправка Владивосток. Мальчаль Петр-град! У них тут плохо, – повертел пальцем у виска. – Они думайт, наш корпус пудет за польшефик сражайт немцев, австро-венгров. Фи! Ни будить! Н-нет. Ми пудем делайт так польшефик, – еще раз показал на тяжах: шлеп, шлеп.
Хорунжий руки по швам – струна туже не натягивается.
– Краснояр ехайт?
– Так точно!
– Может, ждайт будешь Самара чешска эшелон? Сегодня большой событий будейт. Ваш офицеры, генералы встречаются нашим генералами Сыровым, Чачеком и русс Шокоровым, офицерами.
Нет, хорунжему надо спешить домой. Нельзя ли с санитарным эшелоном сегодня? Жена с ним едет больная. (Бологов глаза вытаращил. Жена?! Но промолчал.)
– Какой болесь? Кранкхайт? Ваш мадам?
– Воспаление легких? – подсказал Бологов. – Давай что-нибудь.
– Болесь – нельзя эшелон. Нельзя! – категорически отрубил подпоручик, заливая себя, как из огнемета, убойным горючим из трофейной французской бутылки.
Бологов покачал головой:
– Сам себе все испортил! Золотишка нету? Я выйду, ты орудуй, – и смылся.
Ладно. Хоть нелегко Ною расставаться с золотом, полученным еще при Николашке, а запустил руку под рыжую бекешу, достал гомонок, куда отложил десяток империалов на всякий экстренный случай, и серебром рублишка три. Подпоручик подкинул на ладони золотые, а серебро вернул. Позвал охранника, сказал по-чешски, чтобы отвели казака с его мадам в санитарный вагон с разрешения, мол, генерала Сырового.
– Буйдеш ехайт, козак. Скоро ехайт. Эшелон – тиф, тиф. Чтоб мадам никакой общенья офицер. Бросай будут. Вон, вон! Понял?
– Так точно!
– Мало рубил польшефик, козак! Мало! Ми топить будем польшефик. Вольга! Ха, ха, ха! Доволен? Нет?
– Премного благодарен, вашбродь!
Из конюшни-то уписной, императорской, да в санитарный эшелон – благодать господня.
Ефрейтор одного из вагонов санитарного эшелона, знающий десятка три русских слов, указал место для казака с его дамой. Вагон плацкартный, пропитанный карболкой, как потник конским потом, набитый тифозными больными, два туалета настежь открыты – рай господний! Последнее купе занавешено серым одеялом, забито ящиками с медикаментами. Одна нижняя полка свободна.
– Тут! Ты, мадам, – тут! – Ефрейтор показал на полку. – Воровайт медикамент – капут. Понимайт? Капут! Пуф, пуф!
– Так точно! На кой ляд мне ваши медикаменты!
VII
На вокзале Дуню облепили офицеры, разъедают ухаживаньем, как ржа железо, куря папиросы – до тошноты ароматные. Она давно не курила настоящих папирос! Сам Ной не курил, и ординарец не курил. Дуня просила достать табачку – так-то стыдил, усовещал! Водки не пьет, табак не курит и на женщин не взглядывает. Не житье – монашья схима.
Штабс-капитан, особо атакующий Дуню, угостил красавицу знатной папиросой. Прикурила от зажигалки. Штабс-капитан галантно преподнес Дуне пачку папирос и зажигалку, сработанную из винтовочного патрона: колпачок на фитиле на тонкой серебряной цепочке. Дуня сунула зажигалку с пачкой дорогих папирос в сумочку, поблагодарила офицера. Затянулась на все легкие, и как будто огонь разлился по венам – моментом опьянела, в щеки и в шею кровь кинулась.
– Спааасибо, – едва выговорила, и глаза смягчились.
Штабс-капитан шумнул на офицеров, и они разошлись кто куда: субординация!
Ну, ясно: откуда? далеко ли? чей карабин? Ах, хорунжего? А кто хорунжий?
– Боженька! – бормотала Дуня. – Судьба свела меня с хорунжим. – И Дуня так-то жалостливо выглядела, что молоденький штабс-капитан тут же подсел к ней на кожаный чемодан и давай прочесывать: где и что? и как? Пулеметчица? Женского батальона смерти Керенского? Как это патриотично! Что? Что? Батальон восстал под Петроградом и был разбит в Гатчине. Да что вы?! В Самаре он ничего не слышал о восстании батальона. Об этом должна узнать вся Самара, Нижний Новгород, вся Волга! Здесь, в Самаре, собираются лучшие люди России – весь аромат и букет России; все изгнанные офицеры и эсеры из Петрограда сейчас здесь. Штабс-капитан непременно введет Дуню Юскову, патриотку, в узкий круг особо доверенных людей. У Дуни екнулось: «особо доверенные»! Как те, из Пскова, которые толкнули на восстание, а сами спрятались в кусты. А батальонщицы за них поплатились кровью.
– Ты, Дуня, в партии? – умощает штабс-капитан. – Я буду лично рекомендовать тебя в нашу партию социалистов-революционеров. В ближайшие дни в России ожидаются грозные изменения. Немцы сейчас под Петроградом. В неделю они разделаются с большевиками, и тогда…
Дуня не слышит, что еще говорит весьма осведомленный штабс-капитан, она видит, как толкаются среди пассажиров проститутки – рыжие, пепельные, отчаянно крашеные, усталые и голодные, торгующие телом, и все их разглядывают сразу, как будто на лбу у них клеймо, а они рыщут, липнут нахальными глазами с вытравленной совестью…
– Уберите руку! Сейчас же! – резанула Дуня и, встав, швырнула прочь недокуренную папиросу. – Как вам не стыдно!
– Что ты, что ты, Дуня?
– Ко всем чертям, господин офицер! Ко всем чертям! Я таких, как вы, повидала на позиции. Убирайтесь! – И топнула.
Молоденькая проститутка захохотала:
– Прибавь красненькую, офицерик! Она в дорогой шубе – на красненькую дороже.
– Если вы сию минуту не уйдете – пристрелю! – с ненавистью резанула Дуня, сузив глаза.
И штабс-капитан понял: пристрелит, такая пристрелит. Убрался, не оглядываясь.
Ной прибежал с доброй вестью: уедем, якри ее, хоть с обманом, а уедем, в санитарном эшелоне чехов.
– Паскуду одну встретил у чехов в офицерском эшелоне, – говорил Ной. – Да ты его знаешь. Сотник Бологов. Погоны есаульские нацепил, шельма.
– Сволочь! – присолила Дуня.
– Само собой. Да вот что в удивление: радуются вашброди, что немцы прут на Петроград. Как будто не русские матери народили их, господи прости.
VIII
Они уехали.
Две недели отсиживались и отлеживались в купе с медикаментами. Ной пристроился спать на полу, доставал на станциях продукты, носил кипяток в чайнике и все так же держал себя в строгости, как старший брат с заблудшей сестрой.
В конце февраля добрались до Ачинска. Из Ачинска на перекладных – до Ужура, и тут повезло: на почтовой станции нашли четверку саврасых, впряженных гусем в важнецкую кошеву – семерым ехать. Хозяин назвался Терентием Гавриловичем Курбатовым из деревни Яновой Новоселовской волости. А ты откуда будешь, служивый? Из Петрограда в Минусинск? Ну, братец, гостю из Петрограда Курбатов всегда рад. Садитесь. Поговорим дома про Питер, как и что там происходит у большевиков с их Лениным.
– А мне вот, служивый, здешний телеграфист передал, что красные собираются подписать мир с немцами. Оторопь берет. Такого Россия не переживала со времен нашествия Наполеона. Кони у меня – молнии, американский автомобиль загонят. Собственного завода. Да-с. Садитесь. Садитесь. А вы, гостюшка, устраивайтесь спиной в передок, да вот доху накинем на вас. Ноги спрячете под медвежью полость. Ну, Павлуша, трогай!
Молодой парень, Павлуша, в новехоньком полушубке под красным ямщицким кушаком, взобрался на облучок, обитый, как и вся кошева, выделанными медвежьими шкурами, ухарски гикнул, и они помчались…
Ветер не поспевал за кошевой, пунцовое, будто кровью напитанное солнце до того отяжелело, что никак не могло подняться на синюшную гору небосвода. Дуня – ноги в ноги с Ноем, и смешно и дивно: называют себя мужем и женою, а ни разу бородатый Ной и пальцем ее не тронул. Брезгует, может, батальонщицей Керенского? И Минусинск близко, совсем близко. Терентий Гаврилович пообещал завтра, в воскресенье, к обедне доставить в Минусинск. А там куда? К дяде Василию Кириллычу? А потом? К папаше-душегубу в Белую Елань? Страшно!
Горы, Ужурские горы. Местами чернел лес, а потом снова равнина, пашни, лысые горы. Мороз за сорок градусов, а Дуня как в печку спряталась.
Терентий Гаврилович хотел угостить их из утепленных тайников кошевы первеющим коньяком – отказались: Ной не употребляет – не сподобился, а Дуня отказалась из-за Ноя, облизывая губы: ох, как бы она выпила!
Терентий Гаврилович – бородка русая, соболья шапка, подборная черная доха, белые, с розовой росписью по голенищам, романовские пимы, образованный, начитанный – сказал, что в Сибирь притопал как народоволец на вечное поселение, обзавелся семьей и хозяйством; пустопорожней политикой заниматься некогда – без штанов останешься.
Павлуша на облучке посвистывает, едва шевелит вожжами, а кони мчат, только подковы щелкают. Вспомнились Дуне рысаки конюшни папаши, кучер Микула, такой же размашистый, чернобородый, как отец, видела отчий дом на каменном фундаменте, где не сыскалось ей малого закутка – выгнали прочь; вспомнила себя маленькой в белом батистовом платьице, сестру Дарьюшку, как каплю с каплей схожую с ней – из одного плода. И вдруг как-то сразу, счужу увидела себя в кричащем наряде девицы заведения мадам Тарабайкиной.
IX
Деревня ядреная, неумолотная. Долго и с великим усердием надо молотить такую деревню, чтобы она разорилась. Ну а про Терентия Гаврилыча говорить нечего: этого разве в распыл пустить, тогда уж не подымется.
Дом Курбатова на середине главной улицы – крестовый, под железом, на кирпичном фундаменте. Наличники резные, карнизы резные, и по краям крыши окантовка узорами, ставни голубые, ограда как крепость, – тесовые ворота украшены железными полосами и бляхами, навес, где обычно зимуют голуби.
Хозяина встретили домочадцы. Терентий Гаврилыч важно представил:
– Вот моя супруга, Павлина Афанасьевна, прошу любить и жаловать. Сын Павел, только что из Пермского лазарета, старший сын все еще воюет на Юго-Западном фронте. Жив ли? Неизвестно. Писем давно нет. А вот старшая дочь, Глафира Терентьевна, здешняя учительница. А на ее руках Кешка – внучонок, шустрый вояка, спасу нет. А вот еще одна белая лань – дочь Катя помышляет уйти в гусары. Ну-с, а гусары вышли из употребления. Вот, Катя, перед тобою хотя и не гусар, а казачий хорунжий с шашкой. А это наши люди – Павел, кучер, знакомы, брат его Тимофей Акимыч, прапорщик, из румынского плена, навоевался. Ведает моими конторскими делами. Супруга Тимофея – Федосья Наумовна, главная наша кормилица: не обижаемся. Без нее мы так и не знали бы, с чем едят малороссийские галушки и вареники. А это наш шорник, Селиверст Назарыч, молодой еще, но знающий дело. Был шорником у меня его отец, а теперь сын. Всякое мастерство требует, служивый, постоянства и любви к делу.
Ной с Дуней со всеми поздоровались за руку, как и положено на Руси православной.
– Федосья отведет вам комнату, располагайтесь. Если хотите, оставайтесь на воскресенье. Нет? Домой тянет? Понимаю, понимаю! Ну-с, передохнем часик, а потом и в баньку. А банька у меня, скажу вам, голуби мои питерские, столь же заглавная вещь, как и хлеб насущный: остудину из тела гонит.
Хозяин позвал Ноя в отведенную комнату, где Дуня возилась с малым кудрявым Кешкой: так-то играла, забавлялась, как будто Кешка был ее сыном.
– Познакомились? – уставился на Дуню Терентий Гаврилыч. – Ну-ну. Дозвольте спросить, Евдокия Елизаровна, мм, как бы вам сказать… Нет ли у вас сестры, Дарьи Елизаровны?
– Боженька! – ахнула Дуня. – Вы знаете Дарьюшку?
– Как же, как же! – усмехнулся хозяин. – В декабре прошлого года была у меня в гостях с мужем. Но как вы поразительно схожи. Я еще в Ужуре удивился: как будто Дарья Елизаровна, капля в каплю. Потом подумал: не может быть. В кою пору попала бы в Питер? Да и муж ее…
– Боженька! Терентий Гаврилыч! Расскажите же, расскажите, ради бога. Я ничегошеньки не знаю. Мы и вправду похожи – близнецы. Так, значит, вы ее видели? Вот диво-то! Дарьюшка замужем! А кто ее муж?
– Горный инженер. Гавриил Иванович Грива. Сын минусинского доктора Гривы. Слышали про такого доктора? Из политссыльных социал-демократов.
– Это тот, у которого яблоневый сад на Тагарском острове?
– Он самый.
– Боженька! Как я рада! Хоть сестричка вырвалась от папаши-душегуба.
– Н-да! Елизар Елизарович Юсков, как я знаю, человек не из любезных. Крутоват.
– Зверь зверем, – поправила Дуня. – А куда Дарьюшка ехала с мужем?
– Из Красноярска возвращались к себе в Минусинск.
Дуня похлопала в ладоши:
– Как я рада, боженька! Завтра встречусь с чертушечкой, вот уж повеселюсь! Мы так давно не виделись!
– Ну а теперь, супруги Лебеди, сготавливайтесь в баньку. Что такое дорога от Питера до Яновой – не надо сказывать: не почистишься и не помоешься. Так что освободитесь от своего дорожного бельишка, как мужского, так и женского. И всю верхнюю одежду отдайте на прожарку. Федосья подаст вам по смене белья. А все свое сымите – прожарить надо. Ни за белье, ни за протчее, в том числе за дорогу, никаких расчетов. Вы – мои гости. Ну, кудрявый, пойдем. Сейчас подошлю Федосью.
Ной до того растерялся, что не в силах был глянуть в лицо Дуни.
«Вот те и на! Супруги!» – только и подумал.
– Верхнее мы можем достать свое, – молвила Дуня. – А мы ведь и правда обовшивели за дорогу.
– Само собой.
А вот и Федосья с кипою белья: подштанники, нижняя льняная рубашка для Ноя, штаны суконные, рубаха плисовая; Дуне белье и платье старшей дочери Курбатова.
– Ты это, таво, Дуня, переодевайся, а я буду покель там, – кивнул Ной на соседнюю комнату и был таков.
X
Баня! Парное царствие для костей и тела. Не жить русскому человеку без бани, ну никак не жить. Да еще такая вот, как у Курбатова. Просторная, что дом, с двойными рамами на больших окнах за плотными занавесками, с огромной каменкой и дымовой трубой, чтоб топилась по-белому; над каменкой специальные жерди для прожарки одежды, там и наряды Дуни, и штаны с лампасами, и все прочее; веники заварены в соленой воде, чтобы березовые листья хорошо льнули к телу, пробирая паром до косточек, шесть широких скамеек – для двоих каждая, с медными тазами, лавки для отдыха возле стен, кадки с холодной и горячей водой и со щелоком для женских волос, потолок и стены струганые, с крючьями для белья. Ну а про полок для парки особо сказать надо: в четыре яруса; на верхнем полке чешет себя веником Селиверст-шорник, а на нижних еще семеро мужчин; хозяин отсиживается на парадной лавке, угревается перед паркой; Павлушка-кучер не успевает поддавать воды в каменку. Ной покуда терпит на одной из скамеек; он отродясь не парился: донские редко жучат себя вениками.
А Селиверст-шорник наяривает: