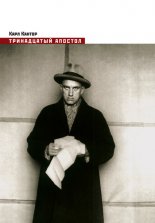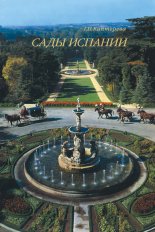Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии Ванеян С.
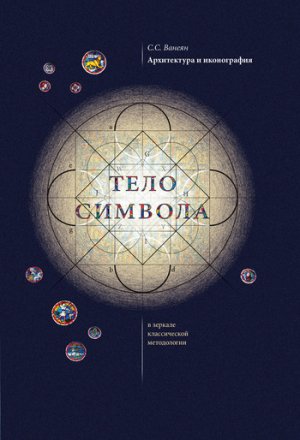
Но один момент все-таки был принципиально новым: это отождествление концов Креста с четырьмя сторонами или частями света. Тем самым в привычные характеристики мироздания вносятся сугубо моральные оценки и идея Божия Промысла: ведь согласно этой традиции Христос был распят лицом на Запад и спиной на Восток. Тем самым Господь отвернулся от Иерусалима, эра Ветхого Завета закатилась, вперед выступают бывшие язычники. Сама ориентация Креста, таким образом, обозначает переломный момент мировой истории, полный пугающего трагизма. Первым всю эту пространственно-небесную поэтику Креста описал Рабан Мавр, положив начало всей средневековой строительно-архитектурной символике.
Другими словами, символика пространственных векторов в их соотношении с явлениями небесными и земными, в том числе и связанными с земной поверхностью, дает ориентацию и в реальном пространстве, и в его интеллектуально-духовной проекции. Отсюда полная смысла связь между элементарным положением здания в пространстве и его назначением, функцией. Внешняя ориентация отражается и во внутреннем устройстве церковного здания, в смысле его внутренних членений и направлений, что предполагает и просто задает определенный порядок движения присутствующих в храме. Особенно это касается перемещений священника. А в целом, конечно же, все это отражает пространственную динамику богослужения, в частности чтение Евангелия, когда направление, обращение читающего диакона или священника отражает именно проповедническую интенцию всего храмового пространства и богослужения[115].
Понятно, что за этим стоит не только связь севера и юга, но и более универсальная – правой и левой стороны. Последние связи по смыслу крайне конвенциональны: левая сторона – это земная жизнь, правая – обращенность к иному миру, хотя восходят они к соответствующим эсхатологическим местам Евангелия, когда на Страшном Суде праведники и грешники будут разделяться именно одесную и ошую Христа.
Пример пространственного символизма, пусть и выраженного в форме направлений и ориентаций, доказывает одну очень существенную вещь: символика как таковая прямо не была связана с архитектурой, она ее превышает, объемлет собственно сооружение и проникает внутрь его. В подобной ситуации скорее архитектура будет содержанием этого символизма, конкретным наполнением подобного символического пространства или, лучше сказать, среды, обладающей своей размерностью, своей динамикой и т.д. Зауэр вспоминает и символизмы иного порядка. В частности, тех же природных элементов, то есть материала, камня, если брать земной храм, или самоцветов, если иметь в виду Небесный Иерусалим. Это и символизм «мистической ботаники», превратившейся в позднее Средневековье в «самый настоящий чудо-сад Божией Матери». Нельзя забывать и символическую зоологию «Физиолога» и многочисленных бестиариев. Все эти вещи обладают собственным сокровенно-мистическим смыслом независимо от архитектуры. И в практически непрерывный ряд такого рода священных по смыслу вещей включается – в какой-то момент – и архитектура.
С одним, впрочем, существенным уточнением: она сама в себе содержит целую череду предметов, элементов, частей и деталей, составляющих и ее убранство, и просто устройство. Поэтому как всеобщая природно-космическая символика представляет собой среду, внутри которой можно обнаружить и архитектуру, так и последняя, в свою очередь, становится вместилищем предметной символики меньшего масштаба.
Именно этому символизму посвящена самая обширная часть книги Зауэра, отражающая в своей крайней детализированности не столько структуру церковного сооружения, сколько потребность создания его словесного эквивалента, в котором можно заново пережить архитектуру как плод и строительных, и экзегетических усилий. И все это, как неустанно напоминает Зауэр, – под знаком Литургии и в свете исторического развития.
Мы, к сожалению, не можем проследить столь же подробно вслед за Зауэром содержание всей символики, но выяснить содержание того текста, который создает по поводу данной символики сам Зауэр, – наша непосредственная задача…
И начинается «строительство» подобного символического здания с выяснения тех имен, которые приписываются церковному зданию уже первыми авторами в лице Климента или Оригена. За именованием, отражающим «естественное значение», скрываются «духовное представление, более глубокие идеи», так что нередко имя церковного сооружения – это уже «переносное обозначение, используемое лишь при рассмотрении идеального значения». То есть уже наименование – ключ к невидимым и не буквальным слоям смысла, и подобные отношения суть истинный фундамент всякой архитектурной, тем более сакральной символики и одновременно – всякого описания (в том числе и иконографического).
У Зауэра, когда он говорит о происхождении подобных именований, мы наблюдаем известную и в данном случае вполне уместную теорию о происхождении священных имен из священного трепета, связанного с переживанием сакрального и перенесенного с самого сакрального на место его явления, то есть на место теофании. Но исторически мы имеем здесь проблему сугубо архитектурную: ведь до некоторых пор ранние христиане не имели собственно церковного пространства, «религиозного культового здания, возведенного и устроенного непосредственно и исключительного для этой особой цели»[116]. Подобное обстоятельство означает, что до тех пор, пока «богослужебные практики» осуществлялись в иудейских молельных домах, частных жилищах или в иных «импровизированных пространствах для молитвы», – до тех самых пор невозможно говорить о «собственной символике христианского Дома Божия», что, соответственно, не предполагает у авторов того времени описания и толкования подобных «мест собраний»[117].
Тем более интересны «мельчайшие следы» тогдашнего восприятия Дома Божия. И если Ипполит Римский говорит об истинной Церкви исключительно в духовном, нематериальном ее измерении («общность живущих по истине»), то для Оригена, равно как и для Лактанция, существует понятие «церковное здание». В любом случае речь идет о процессе переноса обозначений, предназначенных для Церкви как единства верующих, на церковь как «место собраний» (такоко значение и слова «синагога», и его греческого эквивалента «экклесия»). В этом процессе переноса имени заключена «основная мысль» всякой церковно-архитектурной символики: «материальная церковь есть отображение Церкви другого – духовного – измерения»[118]. «Духовная церковь» выступает в качестве понятия, постоянно открытого для символизации и наделяемого «новосозданными атрибутами».
Эти атрибуты, добавим мы, представляют собой собственно архитектуру, так сказать, материальную оболочку, доступную для внешнего взора плоть, предназначенную для внутренней, духовной структуры, открываемой внутреннему созерцанию. Тем не менее по закону метонимии эти два аспекта значения по ходу символического толкования уравниваются и становятся эквивалентными.
Но существует и более сложный символический ряд, связанный с новозаветным образом экклесии как Тела Христова. Будучи подробно развит в учении апостола Павла, подобный образ имеет два фундаментальных аспекта: «действительное, материальное Тело Спасителя» в его отношении ко Второму Храму, и «мистическое Тело в его отношении к духовной Церкви». Эти два сравнения имеют внешними членами постсоломоновский Храм и духовную Церковь, а «внутренним фактором» – «Тело Христово в двояком понимании». Так выражается Зауэр, имея в виду литературно-риторический аспект этой символической комбинаторики. Другими словами, образ Тела Спасителя выступает «связующим звеном» между, с одной стороны, материальным – и ветхозаветным – Храмом и, с другой стороны, Церковью в мистическом – новозаветном и, в конечном счете, эсхатологическом ключе. Но при этом в раннехристианской литературе невозможно найти непосредственное отождествление церковного здания с Мистическим Телом Спасителя, что, казалось бы, сделать не так-то сложно. Везде мы встретим лишь одностороннее подчеркивание ветхозаветного прообраза церковного здания во всех его типологических аспектах (и Ноев ковчег, и ковчег Завета, и скиния, и сам Храм Соломона). Как говорит Зауэр, при описании и константиновских построек, и сооружений позднего Средневековья – везде звучат одни и те же библейские слова (прежде всего – о краеугольном камне). Фактически, это символика не столько архитектурная, сколько текстуальная, вербальная, которая, по мнению Зауэра, издревле формировала само восприятие церковного сооружения. И подобный тип восприятия возвращал всякого зрителя и толкователя в ветхозаветное прошлое «иудейского Храма».
Но этот взгляд дополнялся и обогащался принципиально иным воззрением – сугубо новозаветным и связанным уже не столько с исторической, сколько с мистической стороной дела. Речь идет, конечно же, о видении Нового Иерусалима. Соответствующее место в Откровении св. Иоанна Богослова дает образ свершившегося Царства Божия, наиболее совершенную форму Богообщения, когда Сам Господь пребывает посреди своей Церкви. И этот идеальный Храм пронизывал своим светом церковное здание, позволяя перетолковывать материальное в духовном ключе. И совершается этот процесс литургическим способом, в богослужебной форме, по ходу чина основания и освящения храма, когда эти символические отношения фиксировались и – почти что буквально – закладывались в архитектурно-сакральную символику. Тем не менее, и здесь мы пока еще не видим Евхаристической темы, то есть, если говорить конкретно, совмещения символизма Таинства и символизма пространства. Место сакральное еще не воспринимается местом сакраментальным – быть может, из-за особенностей раннехристианской архитектуры…
Наконец, еще один аспект символики – тропологический, когда храм истолковывается в моральном смысле, сравнивается с человеческой душой. Основания для такого подхода – соответствующие места из апостола Павла (1 Кор, 3, 16, 17), развитые уже Оригеном и Бл. Августином, для которого, в частности, сердце человека – алтарь храма души[119]. И ничего удивительного, что подобный этико-мистический подход очень рано совмещается с историко-типологическим, в результате чего возникает образ человека как носителя уже знакомой нам ветхозаветной типологии. И если объективизированный аллегоризм развитого Средневековья отчасти утратил этот взгляд, то позднесредневековая индивидуализированная мистика имела особый вкус к таким образам, что в последующее время только усугубилось в контексте ренессансной гуманистической религиозности с ее культом исторической и одновременно человеческой памяти[120].
Зауэр вполне резонно замечает, что раннее христианство положило практически исчерпывающее тематическое основание всей последующей символической традиции. Мы со своей стороны должны отметить, что обсуждаемые и комментируемые Зауэром темы столь же основательны и неизменны с точки зрения последующей историографической и концептуальной традиции. В связи с этим позволим себе чуть более сжатое изложение собственно Зауэра и чуть более расширенные наши комментарии, полезные для последующего изложения…
Литургические темы символического толкования: материальность, телесность, возведение
И самая продуктивная тема обнаруживается в самом начале разговора о «символике церковного здания в средневековой литературе». Ссылаясь на Дуранда, Зауэр указывает, что цель символического толкования, в конечном счете, – понимание совершающейся в храме Литургии, которая составляет «наиболее сокрытую и неповторимую жизнь Церкви». И понимание этой таинственной сердцевины церковного бытия невозможно без изъяснения того места, на котором Литургия совершается, с которым она связана, как душа с телом.
Другими словами, архитектура есть материальное, телесное условие духовных процессов. Продолжив и развив эту метафору, нетрудно получить крайне существенную и полезную идею того, что содержание архитектуры требует к себе и буквального отношения: это все то, что происходит, случается, присутствует и размещается внутри храма, внутри архитектурного пространства, все то, что ему принадлежит, что его выявляет и что, быть может, рассматривает и само пространство в качестве своей атрибутики, как одно из своих свойств.
Но и с точки зрения внешних свойств церковное здание возможно толковать и духовно, и одновременно материально и буквально. Тождественность наименований, применяемых для обозначения как собственно церковного здания, так и Церкви как «единства верующих, посредством единого служения призванного и собранного народа», – подобное общее имя («церковь», ecclesia) позволяет видеть в материальной церкви, в вещественном и телесном сооружении, в зримом Доме Божием, составленном из камней (и прочих элементов – добавим мы), «подходящий образ» христианской общины в той мере, в какой она сама составлена органическим порядком из различных и разнообразных людей, этих подлинных живых камней. Оба смысловых поля – материальный и духовный Храм – составляют «внутреннюю связь» на основании общей идеи «органического построения из отдельных элементов».
Этот фундаментальный смысл действительно лежит в основании практически любых дискурсов, и крайне существенно, что он на самом деле способен объединять телесное, зримое, осязаемое, сделанное, изготовленное, в конце концов, художественное с незримым, нематериальным, духовным, интеллегибельным, просто психологическим. Более того, материальное можно рассматривать как конкретизацию, осуществление, реализацию замысленного, задуманного, почувствованного и пережитого. Кроме того, опять же телесность – или метафорическая, или сакраментальная, или реальная – выступает связующим звеном этого символизма: можно сказать, что храмовое здание, будучи само телесным не только материально, но и иносказательно (виртуально), способно включать в себя буквально телесность молящихся, просто присутствующих в нем. Отдельный вопрос, который будет решаться нами в последующих главах, – какова степень включенности в эту храмовую телесность человеческой телесности: не только в качестве буквального контента-содержимого, но и в роли вышеуказанного содержания – активного фактора, формирующего само устройство, структуру хотя бы внутреннего пространства посредством актов восприятия, созерцания, движения и т. д.[121].
Еще один аспект единства и взаимодействия телесного и духовного возникает благодаря применению типологического метода. Универсалистское мышление, свойственное церковному сознанию, как считает Зауэр, не могло не предполагать, что устройство культовых мест в христианстве санкционировано и узаконено ветхозаветными образцами – Скинией и Иерусалимским Храмом. И в том и в другом примере сразу бросается в глаза двухчастное членение, повторенное в христианском церковном здании в делении на алтарь и неф. Первое пространство предназначено для клира, для активной части участников богослужения, а второе пространство связано с пассивным народом, который «молится и внимает». И подобное двоякое устройство есть образ также двойного способа и пути спасения – vita activa и vita contemplativa. Иначе говоря, и здесь мы видим в устроении, в структуре храмового пространства отражение, символизацию соответствующих состояний человеческой души (можно сказать, сознания), имеющих, по сути, сакраментально-экзистенциальный характер, так как участие в таинствах определяет и жизненную ситуацию, и возможности верующего.
Еще одна сугубо строительно-архитектурная тематика, извлекаемая из ветхозаветных реалий и превращаемая в христианский символизм телесного и духовного (душевного), – это три материала, использованные при строительстве Иерусалимского Храма. Этим трем материалам, веществам соответствуют три сословия внутри единого народа Божия. Если золото символизирует жизнь созерцательную, а дерево – активную, то камень – жизнь священническую, как это толкует Гуго Сен-Викторский.
Типологический символизм имеет и собственно исторический, темпоральный аспект, связанный с сопоставлением Скинии и Храма и, естественно, перенесенный на христианское храмовое сооружение. Скиния, сопровождавшая избранный народ в его непрестанном сорокалетнем странствии по пустыне, является образом сего мира, состоящего, как известно, из четырех элементов, которым соответствуют четыре цвета в убранстве Скинии. Последняя, являясь и образом человеческой души, микрокосма, в котором обретает себе жилище Всевышний, может, кроме того, служить образом и нынешнего состояния Церкви как ecclesia militans – не имеющего здесь никакого пристанища Странствующего Града Божия из Послания к Евреям св. ап. Павла. Соответственно, переход от временной и внешне скромной Скинии к основательному, полному величия Храму Соломона – это тоже образ, но уже перехода от временного существования и борьбы Церкви к Ее триумфу в состоянии будущего века. И потому Небесный Иерусалим – это нерукотворный Храм, составленный из живых камней праведников. Поэтому и двухчастное устройство Храма имеет свое соответствие в веке будущем, где, например, тоже будут как ангельские силы, так и сонм праведников[122].
Мы должны сразу отметить тот момент, что не вся церковная символика отражается в архитектурной атрибутике. Свойства церковного здания суть качества Церкви земной. И как ее состояние здесь и сейчас, в этом веке еще не завершено, точно так же и в свойствах и качествах церковного пространства мы должны находить аспект некой незавершенности, открытости всякого рода динамике, переменам, в том числе связанным и с созерцанием, которое можно сравнить с мысленным, молитвенным, быть может, «довозведением», дополнением, типологически-эсхатологическим предвосхищением того, что нельзя ни помыслить, ни увидеть, ни построить. Таким образом, мы наблюдаем здесь подлинные корни храмовой не только образности, но и семантики, подразумевающей в обязательном порядке свое экзегетическое достраивание, то есть движение, становление смысла[123].
Доказательство того, что средневековый символический дискурс не есть конечный пункт архитектурной семантики, нетрудно обнаружить при обращении к более конкретным темам, например к толкованию плана церковного здания. Таковых, как известно, может быть всего два: это или крестообразный, или центрический. Так, во всяком случае, это выглядит с точки зрения Дуранда (при том, что центрический тип им не рассматривается по причине нераспространенности такового на Западе в его время). Первый план соответствует Распятию, второй отражает тот факт, что Церковь распространяется по кругу земному. Но ни слова, ни звука, как говорит Зауэр, не найти у средневековых литургистов по поводу более конкретного облика храма той же базиликальной типологии, претерпевшей кардинальные перемены от ранних базилик к готическому собору. Все «гениальные идеи об одухотворении материи и устремленности вверх на путях преодоления тяжелых масс» – все это находки и открытия романтизма. Средневековый экзегет ни о чем таком не догадывался и незаметно для себя, без труда преодолевал конкретику архитектуры в поисках скрытого, незримого и чисто духовного смысла, который для него опять же связан был с телесными образами. Мифологема соответствия человеческого тела четырем странам света вкупе с образом Распятия и четырех оконечностей Креста – вот составляющие образа церковного здания как человеческого тела, где алтарь соответствует голове, рукава трансепта – рукам, а корабль – телу. Равным образом и внутреннее пространство буквально воплощает, то есть наделяет плотью, «всецелую <…> телесность Церкви Божией». Добавим от себя, что недаром приобщение к этой церковной всецелостности и всеобщности возможно посредством внутреннего пространства церкви: именно оно обеспечивает опыт вхождения, приобщения, причастия и причащения, когда участник богослужения ищет и находит собственной телесности аналогии, эквиваленты большего и высшего порядка…
Во всяком случае, внутреннее устройство христианского храма имеет трехчастную структуру, которая отражает три степени (или состояния) спасения (например, алтарь, самое узкое пространство, – это состояние девства). Одновременно трехчастное деление отражает три сословия общества, и все эти тройные структуры и отношения связаны с обычаем тройного обхода храма в процессе его освящения епископом. Иначе говоря, ритуал предполагает как метафорическое, образное, символическое участие человека в пространстве храма, так и буквальное, телесное, динамически-моторное переживание, окрашенное в личностно-нравственные тона. Подтверждение сказанному – идея отождествления, например, алтаря со Спасителем и одновременно с Небом[124], что позволяет связывать с этим местом и соответствующие чувства, и эмоциональные состояния (надежды, радости, умиротворенности и т. д.). Поэтому реальное присутствие в определенном месте церковного пространства делает возможным столь же реальное приобщение и к соответствующему Лицу, и к известному состоянию, и к конкретным чувствам, причем усилием не столько воображения, сколько разума, способно к интеллектуальному созерцанию. Фактически, совершается процесс взаимовлияния и, так сказать, взаимовыстраивания пространства и человека, их обоюдного формирования, складывания и уточнения.
Структуры символического толкования: предметность, ценность, масштаб
Другими словами, храмовая топология имеет сразу несколько измерений, доступных истолкованию, которое, в свою очередь, вполне четко делится на соответствующие уровни (те же топосы, но в другом смысле слова). И если само Писание – это уровень теофании, а экзегетика – богословия, то, например, тексты, подобные книге Зауэра, – это, по крайней мере, культурно-исторический уровень церковного сознания. Комментируя данный текст, достигаем ли мы некоего «четвертого измерения» интерпретации? Возможно, если допустить в качестве нашей задачи не столько ис-толкование, сколько «рас-толкование», снятие покровов аллегоризма и вербальности ради обнаружения сокрытого от непосредственного взора, по всей видимости, литургического, Евхаристического ядра всех подобных телесных векторов и духовных интенций.
И все это совершается, напомним, в пространстве храма и средствами храмовой архитектуры, и в строительно-архитектурных терминах, так что не будет чрезмерной вольностью предположить, что церковная архитектура тоже есть своего рода если не форма, то, во всяком случае, инструмент экзегетики, истолкования в камне.
Так что неудивительно, что материал, из которого изготовлено церковное здание, тоже есть предмет символического истолкования. Этот материал – камень, камни, которые легко сравнить с отдельными личностями. И подобно тому, как известь связывает один каменный блок с другим, точно так же и братская любовь связывает одного верующего с другим. Эта идея – основа основ, так сказать, материальной, вещественной символики церковного здания.
И эта символика совершенно явно опирается на впечатление от реальной постройки, от архитектуры именно как конструкции, когда тот же Дуранд вслед за Гуго Сен-Викторским говорит о каменной кладке и о «сильных»» частях здания, призванных нести «слабые» его элементы. Точно так же и Церковь есть здание, составленное из отдельных членов рукой «Высшего Архитектора». Другими словами, архитектура сама в данном случае оказывается источником метафоры, стимулирует интеллектуальное созерцание, вдохновленное способностью архитектуры являть связанную, взаимозависимую и целостную органическую структуру, где видны и части, и общее целое, а самое главное – присутствуют признаки участия того, кто создавал это сооружение. По сути дела, для средневековых литургистов архитектура выступает в качестве как раз произведения искусства, можно даже сказать, чего-то искусственного; так в поле зрения экзегетов попадает и известь, связующее вещество, основная черта которого – наличие в нем трех компонентов (известняк, вода, песок). Для того чтобы дать символическое толкование этого искусственного материала, необходимо подвергнуть его мысленному разложению, и тогда выясняется, что известняк – это образ любви, которая соединяется с попечением о земном (песок – символ земли) ради бедных и немощных. Но устойчивость и этому соединению, и возведенной с его помощью стене придает вода – символ благодати Св. Духа.
На примере подобного материально-вещественного символизма становится ясно, что существует несколько уровней смысла в пределах одной постройки. Первый уровень – это свойства природного материала самого по себе и пробуждаемые этими свойствами символические связи и ассоциации. Второй – свойства материал как уже материала постройки, те его качества, что полезны и необходимы для участия в строительстве, для включенности в целое. Третий – свойства самой материальной постройки, которые суть качества конструкции как целого, строительная, практическая семантика, дающая символику физических усилий, работы, труда вообще, а также организации, устроения порядка и т. д. Нетрудно заметить, что эти три уровня отражают своего рода динамику смысла, его восхождение и усложнение, обусловленное подключением семантики, так сказать, гетерогенной, а именно – нематериальной, душевной и духовной. Так, камень, образующий фундамент здания, – это одно, но тот же камень может быть и камнем краеугольным, и тогда он будет символом Христа, и тем самым его природные и строительные свойства как бы дематериализуются. Первым в Церкви встречается всецелый Христос, равно как и в храме мы сталкиваемся прежде всего с самим храмом. И только потом, во «вторичном модусе» рассмотрения, мы постигаем прочие уровни, добавляя, между прочим, к заложенному смыслу смысл собственных познающих усилий. Как их отделить друг от друга? Именно с помощью символически истолковательных действий. Поэтому про символическое толкование мы можем сказать, что это, наоборот, нисхождение смысла, как бы разборка здания на составные части, на первоэлементы (прежде всего конструктивные). Именно последние являются полноправными носителями значения, а не все здание целиком. Именно они независимы от человеческого усилия, а здание – как раз их плод. Этот символизм оперирует отдельными символическими «словами», а не фразами целиком.
Архитектура только выявляет такое свойство подобного типа символизма, занятого поиском и описанием отдельных образов-символов, вполне независимых и от исторического, и от эстетического, и от всякого прочего контекста, предпочитающих свое, отдельное словесное воплощение, потому что слово и язык столь же автономные величины.
Мы могли бы назвать такого рода символизм «деконструированием», но только на материальном уровне. Его самая существенная черта заключается как раз в том, что он не касается структур мышления. Они как бы преодолеваются и тем самым спасаются от разложения на материально-автономные составляющие, так как конечная цель всех подобных символических выкладок и построений имеет все-таки нравственную природу, и потому почти что сразу достигается уровень этически личностный. Это своего рода персонифицированная материальность, логоцентризм которой имеет сугубо мистическую природу (мы вынуждены будем вернуться к этой проблематике довольно скоро, когда зайдет речь о символизме литургических предметов, Евхаристическое предназначение которых фактически упраздняет всякую семантическую логику).
Другими словами, мы наблюдаем – благодаря, повторяем, как раз архитектурному примеру – замечательное свойство всей подобной экзегетики. С одной стороны, она стремится к внеисторической объективности и на этих путях готова не только вернуться в Ветхий Завет, но и добраться (упереться) в чисто природные, материальные, вещественные первоэлементы, а с другой – остается в поле зрения конечная задача: приближение ко Христу; и потому-то кроме уровней смысла, описанных нами только что, существуют и модусы истолкования, связанные как раз со степенью этого личностного приближения к Логосу. Подобная взаимозависимость нисхождения смысла и восхождения переосмысления (такова природа интерпретации) представляет собой сквозной принцип всей символической деятельности, связанной с сакральными сущностями, в чем у нас еще будет повод убедиться.
Подтверждение сказанному – символическая интерпретация отдельных составных (причем самых общих) частей постройки, сводимых в первую очередь к их физическим и внешним свойствам, которые легче всего преобразовать в символику, подвергнуть символизации. Так, касательно стен обращается внимание на их количество (в любой постройке их четыре, что отсылает, например, к четырем Евангелиям). Измерения внутреннего пространства тоже символичны: высота означает добродетели, длина – терпение, ширина – любовь; легко заметить, что здесь имеет место совпадение свойств феномена со свойствами символизируемого качества (например, объемлющее свойство пространства в ширину – и всеобъемлющее, всеохватное, всеприемлющее свойство истинной любви). То есть такой символизм связан с переживанием свойств феномена, причем направленного на душу воспринимающего, в которой, можно сказать, эти свойства отзываются, отображаются в соответствующей способности этой самой души. Иное дело – символизм, который, например, видит в совокупности стен общность верующих, а в размерности внутреннего пространства – отдельные функции и способности Церкви (ширина – распространение по земле, длина – устремленность к горнему, высота – переход к Небесной Церкви). Это уже символизм, так сказать, не буквально-психологический, а аллегорически-интеллектуальный, основа которого – переживание идеи и ее истолкование с помощью наглядных примеров, взятых из архитектурно-церковных реалий. Здесь архитектура уже не источник, а предмет, объект символизации[125].
Но возможен ли какой-то иной способ увязки символизируемого и самого символа, кроме текстуально-экзегетического, то есть интеллектуально-созерцательного? Оказывается, не только возможен, но и нужен – посредством чина освящения храма, когда с помощью конкретных действий (обход епископом храма против часовой стрелки с нанесением крестообразно на полу букв греческого и латинского алфавита) происходит визуализация и материализация всего подобного символизма, его внесение в сакральное пространство, можно даже сказать, его попутное – вместе с храмом – освящение и подтверждение. Одновременно в подобном практически-сакраментальном использовании символики заключен и момент истолкования того же храмового пространства посредством священнодействий. Почти что буквально: основание, освящение храма – это внесение в него смысла, наполнение его содержанием. Нетрудно заметить, что сам процесс возведения храма, создания храмового пространства пока еще лишен самостоятельного и самодостаточного, достойного истолкования смысла.
Тем не менее символизм конкретных частей здания – это всегда истолкование их функциональности. Это касается и крыши (перекрытий), которая чаще всего толкуется как образ проповедника (венчающая функция Церкви), и портала, входа (его нетрудно отождествить с Самим Христом, уподобившим Себя двери, через которую только и можно войти в Царство Божие) и, конечно же, окон, главная функция которых – в передаче света, в посредничестве. Отсюда – сравнения и с Писанием (текст передает Божию благодать подобно лучам солнца, проходящим сквозь стекло), и с пятью чувствами (внешнее благодаря им проникает во внутреннее души), и с отцами Церкви (их писания, подобно зеркалам, отражают свет горнего мира в мире дольнем) и т. д. Легко заметить, что толкуются на самом деле некоторые общие понятия, связанные с данным архитектурным элементом (свет и освещение, отражение и пропускание света). При том, что его собственный богатейший символизм (проем, отсутствие стены, граница внешнего и внутреннего и т. д.) остается не совсем востребованным. На примере как раз мотива окна видно, что функция – только повод для символической деятельности, это своего рода пустая схема, матрица, так сказать, смысловая ячейка, которую можно заполнить по собственному усмотрению[126].
Но пока еще перед нами только приемы восприятия храма сквозь, так сказать, символические линзы. Это всего лишь способ прочтения готового текста – в данном случае церковной постройки – непрямым способом ради обнаружения небуквального значения, неважно, что на самом деле оно привносится в готовый, но как бы пустой по смыслу «текст». Настоящая интерпретация связана с преображением смысла, с его трансформацией, и такого рода процесс средневековая символика знает на уровне тропологического, то есть нравственного, истолкования. В этом случае, фактически, строится уже новое «здание», т. н. мистический храм – система добродетелей, возведенная внутри души (так что и место здесь мыслится иное). На фундаменте веры в соединении с перекрытием-любовью, с вратами послушания и полом-смирением, а также, конечно же, со стенами-добродетелями (основных – четыре) возводится этот незримый и нематериальный храм-душа. Несомненно, перед нами не более чем идея здания, и в результате этих аллегорических усилий складывается, собирается из отдельных кусочков (сказать «строится» – слишком сильно) символизм готовой, но не изготовленной схемы, в данном случае строительной. На нее накладывается столь же элиминированный схематизм человеческой души. Но именно этот вид символизма, в отличие от символизма исторического, несвободного от стереотипов, давал примеры вполне индивидуализированного субъективизма, свободно и поэтически непредвзято толкующего в мистическом духе известные истины и реалии[127]. Так, вместе с воображением в символический дискурс проникает человеческая душа, способная творить-возводить и воздушные замки тропологической символики, и каменные соборы анагогической мистики.
Но дело не только в выстроенном здании, но и в обустроенном: наружное окружение церковного здания, внутреннее заполнение и убранство церковного пространства составляют не менее важный предмет символического истолкования, хотя Зауэр сразу оговаривается, что его работа имеет дело с «такими строительными элементами, которые находятся в сущностных отношениях с Домом Божиим»[128]. Поэтому далее Зауэр ограничивается лишь перечислением символических интерпретаций, например того же атриума, заключая замечанием, что эта практически необязательная часть сооружения способна была вмещать в себя любые, самые противоположные значения[129]. Фактически, перед нами чисто количественное развитие литургической символики – через привлечение новых элементов-объектов интерпретации. Обогащение смысла происходит за счет расширения предметного инвентаря. Так как это по большей части своего рода архитектурная атрибутика, необязательные и функционально малозначимые элементы, то экзегет достаточно свободен в наделении подобных элементов практически любым смыслом. Символика этих строительно-архитектурных маргиналий сродни глоссам текстуальной экзегетики.
Но при встрече с элементом, значимым даже с точки зрения телесной метафоричности, и уж тем более – если говорить о реальных священнодействиях, происходит качественное обогащение, расширение смысла, как это видно при обсуждении символики т.н. sacrarium’а или vestiarium’а, то есть диаконника при алтаре, где хранятся разного рода литургические принадлежности, в том числе сосуды и священные одежды. Именно с точки зрения функционального назначения этого пространства рождается его символическое значение: это не что иное, как образ Лона Пречистой Девы, от которого Христос принял «святое одеяние своей Плоти». И как священник, согласно Дуранду, вначале Литургии показывается из диаконника, так и Христос рождается в этот мир, как священник прячет священные сосуды в диаконник по окончании Литургии, так и Христос возносится от земли на Небо… Мы еще раз убеждаемся, что первичной оказывается пространственно-телесная символика Литургии, наделяющая смыслом окружающие реалии.
Но первенство остается, по-видимому, за пространственными свойствами, телесность следует за местом, топосом, что видно на примере символической трактовки такого, казалось бы, принципиального элемента, как колонна. Ее символизм не имеет только что нами наблюдаемого актуально-обрядового характера. Мы вновь сталкиваемся со стандартными типологически-ветхозаветными аллюзиями, отягощенными всякого рода церковно-институциональными аллегориями (колонна – образ епископа и т. д.), на что специально указывает и Зауэр[130].
Еще один вариант символизма связан с тем, что конечный объект символизации своей смысловой насыщенностью вытесняет непосредственный предмет толкования. Мы имеем в виду символизм купели, которая, естественно, тоже есть часть убранства храма. Водная стихия сама по себе есть самостоятельный символ и, можно сказать, символическая сила, только обретающая дополнительную энергию, будучи включенной в контекст Св. Писания и в Таинство Крещения со всеми его ветхозаветными прообразами.
На самом деле воспроизведенное здесь с комментариями краткое содержание главы об убранстве церковного здания не показывает всю детализированность и обширность этой главы, которая, как нам кажется, лучше всего отражает пафос подобной методологии. Она построена на максимально точном, верном и адекватном описании той самой символической образности, что оказывается предметом исследования. И исследования именно предметного, так как все образы берутся как отдельные предметы, изолированно, как элементы списка, единицы инвентаря. Можно было бы сказать – словаря, но в том-то и дело, что, как мы старались показать, слова здесь – лишь посредники между предметами разной сложности, разного происхождения и разной даже степени реальности. Анализируемые в книге литургически-экзегетические тексты могут, в свою очередь, иметь в качестве своего символа все тот же известковый раствор: ведь их функция – именно увязывать в связное целое элементы подобного списка.
Случай Зауэра осложнен тем, что эта образность – словесно-литературная и символически трансформированная, хотя и прилагается к вещам невербальным, то есть к архитектуре. Но можно ли посредством «описи обстановки» (в данном случае – церковного здания) реконструировать «обстановку» иного пространства – пространства души тех, кто создавал всю подобную символико-аллегорическую «декорацию» и тех, кто ее воспринимал? Мы не говорим о строителях церковного здания и его посетителях. Они остаются совершенно вне поля зрения подобного типа символизма[131].
Тем не менее один элемент церковной архитектуры прямо обращен благодаря своему символическому значению во внешний мир, более того – к слушателям и зрителям. Это колокольня – со всеми ее атрибутами и с основным символическим значением проповеди. Характерная, но, казалось бы, малозаметная деталь – изображение петуха на прямой штанге в качестве венчающего украшения колокольни (он возвышается и над обычным крестом) – имеет, согласно, например, Гуго Сен-Викторскому, весьма глубокий символический смысл. Это образ прямой, неискаженной речи проповедника, идущей не от человеческого разума, а от Духа Божия[132]. Но исток всякой проповеди и всего Писания и одновременно их завершение – это Крест и произнесенные с него Спасителем «слова расставания»[133]. По сути дела, в этом элементе сошлись самые фундаментальные темы: это и Слово Божие, и Плоть, и Писание, и история. Архитектура, ставшая предметом медитативного усилия, способна актуализировать практически одновременно и практически все смысловые поля и слои. Единственное условие – живость того самого «символического духа», который, по мнению Зауэра, порождает символику, способную быть действенной и после того, как «символический дух» вынужден будет уступить рационализму и позитивизму. Почти что иконологическая мысль, обязанная своим существованием, тем не менее, Гегелю. И последний штрих, характеризующий «соединенную» символику, казалось бы, несоединимых вещей (ведь очевидно, что сам петух – галльского и языческого происхождения), – это ассоциативная связь мотива петуха и темы времени и, соответственно, часов. Немалый уже чисто поэтический потенциал этих образных конструкций проявляется в том обстоятельстве, что часы присутствуют даже в убранстве Храма св. Грааля, как его описывает таинственный автор «Младшего Титуреля».
Но самое главное, что убедительную и потому неразрывную связь всем этим образам обеспечивает архитектура, являющая, в свою очередь, образ органичного и уместного единства частей и элементов, объединенных общностью замысла и конструктивной логики, а также образ действия, совокупность последовательных актов, как ментальных, так и вполне телесных, которые создают благоприятную среду для всех иных человеческих интенций.
Совершенно показательно в этой связи, что и личное участие толкователя-символиста в обсуждаемом предмете имеет немаловажное значение, так как обеспечивает более углубленное и тонкое восприятие темы. Поэтому именно в главе о колоколах Зауэр, всю жизнь занимавшийся возрождением колокольного звона и сохранением старинных колоколен в родном Бадене[134], позволяет себе некоторые субъективные отступления одновременно и общетеоретического, и индивидуально-поэтического порядка. И их мы как раз и коснемся с максимальной, впрочем, сдержанностью – за неимением места.
Во-первых, замечательно наблюдение: чем, так сказать, мельче подвергаемые символизации элементы, тем глубже и свободнее может быть символика, хотя, порой и неожиданнее, особенно когда сопоставляются вещи одушевленные и неодушевленные, конкретные предметы и отвлеченные понятия. Чего стоит, например, традиция толкования движения колокола вверх и вниз как двух направлений в духовной жизни священника-проповедника (вниз – повседневная активная жизнь, вверх – созерцательное восхождение при чтении Писания, вниз – буквальное понимание Писания, вверх – духовное толкование и т. д.). Понятно, почему «самая незаметная малость» обретает «особо примечательную символику»[135]. Это возможно потому, что подобная мелочь почти что лишена собственного значения.
Во-вторых, не менее замечательно такое наблюдение: само время обретает звучание благодаря традиции обозначать каждый момент суток особым порядком колокольного звона. И в соответствии с отмечаемыми событиями и моментами богослужения или календаря меняется сам характер звучания. И поэтому время не только звучит, но и наполняется тем или иным настроением – или печальным, или радостным, напоминая и об изгнаннической доле человека в этом временном мире, и о радости Небес, и об ужасе преисподней…
Третье крайне важное наблюдение: свобода истолкования мелкого предмета (того же, например, деревянного била, заменяющего в некоторых случаях колокол) предполагает независимость отдельных толкователей и одновременно возможность их объединения под эгидой этого незначительного предмета, у которого почти что нет собственного, так сказать, семантического сопротивления. Он выступает в роли своего рода смыслового сверхпроводника, так что, несмотря на незначительность, казалось бы, предмета, мы можем говорить о «богословии колокола»[136].
Четвертый момент, весьма примечательный, заключен в том, что аллегорически-тропологическое описание колокола предполагает отрешение от его непосредственного – музыкально-эмоционального воздействия, заключенного в его звучании. Эстетика замолкает, когда приходит время этики и дидактики, что и происходит, например, в Страстную Седмицу, ведь в это время предписывается и молчание колокольного звона. Впрочем, сам Зауэр не без сожаления предполагает просто недостаток эмоциональной чувствительности у литургистов, чьи «чувства остаются незаполненными». У них как бы отсутствует орган для воспроизведения своего непосредственного чувственного опыта. Присущее средневековому человеку «инстинктивное чувство прекрасного», о котором говорили романтики, на самом деле просто миф[137].
И последнее наблюдение, присутствующее в этом действительно «поучительном разделе» о колоколах. Зауэр задается вопросом: а почему именно такой, казалось бы, незначительный элемент, как колокол, вдруг стал предметом таких интенсивных символических усилий, в то время как куда более замечательные части церковного здания просто игнорировались истолкователями? Объяснение – единственно возможное – заключается в том, что благодаря бенедиктинской богослужебной традиции колокол оказался непосредственно связан с Литургией. Кроме того, именно колокольный звон – самое прямое и действенное вмешательство богослужения в социальную жизнь, причем на самом ее народном, первичном уровне. Это еще одно доказательство того, что исток символической образности – священнодействие, вообще всякое действие, как спонтанное и непосредственное, так и опосредованное правилами и канонами. Такое действие оказывает влияние на окружающее пространство и на тех, кто в нем пребывает. А через усилия литургистов-символистов в нем оказываемся и мы.
Итак, предмет, вещь, архитектурный элемент, функционально определенный и внешне конкретный, его образ (в восприятии и использовании), его символическое истолкование и повторное усвоение уже окрашены в аллегорические и символические тона. Фактически, предмет, ставший символом, обретает дополнительную силу воздействия, но теперь, как точно замечает Зауэр, не на чувство, а на разум.
Евхаристический буквализм алтарного пространства: пелена, реликвия и свет
Но остается сила воображения, питающая и чувства, и разум. Замечателен тот факт, что существует в пространстве церковного здания такое место, где остается ненужным воображение как таковое и где происходящее следует воспринимать и принимать буквально, реально и напрямую, вовсе при этом не рассчитывая на понимание, уразумение, ибо в этом месте действует тайна, и имя этому месту – алтарь.
Скажем сразу, что буквализм здесь неизбежен по той причине, что символизируется Евхаристия, и ничто не может сравниться с нею, ничто не может заменить ее, и никаким именованием нельзя ее переименовать, хотя это название, это понятие – «алтарь» – столь же многозначно, как и слово «церковь». Поэтому-то так рано была осознана потребность классифицировать значения этого имени, восходящего к Ветхому Завету. Одновременно стало понятным, что одно общее имя, приложенное к не совсем родственным понятиям и явлениям, позволяет гетерогенным явлениям вступать в контакт с себе подобными. Так возникает у Дуранда известная четырехчастная семантика: altare superius, inferius, interius, exterius.
Поэтому, приближаясь вслед за средневековыми литургистами к Святая Святых буквально – к алтарю и его устройству и убранству – мы понимаем, что здесь на самом деле в какой-то момент перестает действовать всякая изобразительность, то есть опосредование одной реальности другой с помощью образов. Евхаристия требует непосредственного восприятия, и не средствами органов чувств, и потому символические усилия смещаются с одной реальности на другую. Более того, претерпевая качественные перемены: фактически, меняется сама функция образов. Как мы убедимся, образы не обязательно должны служить делу изображения, более древняя и давняя, исконная и искомая функция образов – функция во-ображения, вхождения в образ. И таким всеобъемлющим и всеобщим образом является, несомненно, сама Евхаристия, способная вместить в себя невместимое. Но для нас важнее то, что Евхаристия, как всякое Таинство вообще, и как Таинство «транссубстанциации», способна ставить под сомнение эстетические, вообще визуальные возможности человека, и поэтому практически все убранство алтаря, места совершения Евхаристии – это те или иные формы покрова, завесы, типологически происходящей от завесы Иерусалимского Храма и призванной скрывать прежде всего тайну, являя ее недоступность неподготовленному взору. Тот же смысл сохраняется и в христианском контексте, когда, например, вспоминаются слова апостола Павла о пелене на сердцах иудеев, не позволяющей им видеть до поры Христа. Неготовность и неспособность видеть, созерцать незримое телесными очами и несовершенство духовного взора – вот что заставляет так обильно покрывать изображениями все покровы христианского алтаря, дабы «тайну пресуществления сделать внешне опознаваемой»[138].
Таким образом, мы обнаруживаем исходное и исконное назначение изображения внутри церковного здания: оно призвано заменять, замещать ту самую реальность священного, которая является внутри церковного здания, но не открывается, требуя от человека тоже незримых, нематериальных, нечувственных усилий.