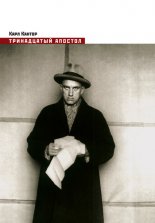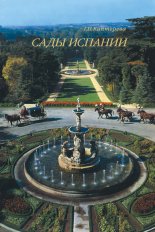Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии Ванеян С.
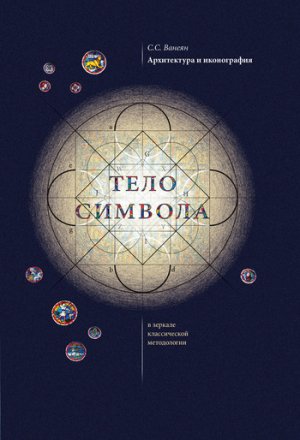
Предисловие
В далеком 1968 году появилась книга Н.-Л. Прака «Язык архитектуры. Вклад в теорию архитектуры» (Prak, Niels Luning. Te Language of Architecture: A Contribution to Architectural Teory. Te Hague-Paris), которая не утратила при всей своей, казалось бы, незамысловатости ни капли актуальности и спустя 40 лет. Причина тому – в особой теоретической модальности, предполагающей уважение ко всему предыдущему научному опыту и, как следствие, тщательный учет и усердное применение всех современных на ту пору и животрепещущих теоретических парадигм.
Мы найдем в этой книге, например, вскользь брошенную формулировку о витрувианской триаде как не просто трех измерениях архитектуры, а трех мирах, трех царствах, с которыми имеет дело архитектор… Читатель, ознакомившись с «Аналитической частью» книги, будет знать и об эвристической природе символизма, и об истории культуры как истории коллективного сна, истории человеческих грез, о творчестве архитектора как поиске сказочной страны… Разговор о закономерностях человеческого восприятия не обойдется без подробного обсуждения основных гештальт-принципов, о паттернах перцепции, конструирующих реальность… Святая святых архитектурной теории – пространство – описывается во всей своей сложнейшей, причудливой и одновременно предельно реалистической типологии, знающей кроме физического пространства и пространства концептуальные, и поведенческие, и перцептуальные, и экзистенциальные… Проблемы интерпретации архитектурного символизма подразумевают обсуждение различий и пересечений денотата и коннотата, особенностей взаимодействия символа и «доминантного контекста»… Касаясь собственно художественных образов, автор не скрывает своей осведомленности в их эвокативных функциях, отмыкающих и стимулирующих эмоциональные реакции… Говоря о природе архитектуры, Прак со всей конкретностью, как о чем-то непреложном и обязательном, говорит о «месте» как экзистенциально-сакральном первоэлементе архитектурного целого, обретающего форму пространства благодаря взаимодействию феноменальных и физических структур, которые, дабы стать предметом понимания, прелагаются в структуры символические, стимулирующие прежде всего оценку, и уже потом знание… Кроме того, к архитектуре можно применять категорию «честности» и недвусмысленно от нее эту честность и требовать.
А мы позволили себе описать теоретический аппарат этой весьма показательной книги исключительно потому, что честность и прозрачность как критерии оценки в еще большей степени приложимы и к архитектуроведению, и критики в ее актуальном состоянии истории, и в ее «мнезическом» состоянии. Дабы приступать к произведению и посягать на его смысл, необходимо владеть всем концептуальным, методологическим и идейным инструментарием, всей парадигматикой, обретающей синтагаматическое измерение в текстуальной или дискурсивной активности тех, кого именуют искусство– или архитектуроведами.
Собственно в этом заключен и пафос, и замысел предлагаемого сочинения: составить своего рода тематический и критический компендиум некоторых способов обращения с архитектурой, взятой в ее наиболее, если так можно выразиться, предельном изводе – в виде архитектуры сакральной.
Во Введении подробно говорится, почему сакральная архитектура может символизироваться честертоновским образом Шара и Креста и почему – не без натяжек – можно говорить о классических методах, группируя их вокруг того, что условно именуется «иконография». Здесь скажем в свое оправдание лишь одно: мы смогли затронуть на самом деле малую часть тех подходов, которые ведут к пониманию архитектуры. Эти маршруты могут пролагаться и через антропологию, и через богословие, психологию, филологию, иконологию, герменевтику, социологию, через интертекстуальность и через дискурсивность, через феноменологию и экзистенциализм, через лингвистику и постструктурализм, через прочее и тому подобное (или неподобное). Дело не в названии дисциплины, выступающей в роли, так сказать, концептуального спонсора, а в ощущении и в переживании безмерности и, наверное, бессмертности смысла, являемого теофанически, символически и отчасти архитектонически.
Стоит обратить внимание, во-первых, на весьма подробную рубрикацию глав книги, что исполняет роль некоторого тематического и предметного указателя, а во-вторых, – на крайне обширные приложения и дополнения к основной части, которые призваны несколько нарушить иллюзорную линейность текста, явив разнонаправленные выходы за его пределы. Среди этих выходов обратим внимание уважаемого читателя на вынужденно фрагментарный обзор отечественного иконографически-архитектуроведческого опыта и на столь же краткий экскурс в крайне, на наш взгляд, плодотворный и неподражаемо фундаментальный опыт архитектурной антропологии отдельно взятого немецкого историка искусства (Генриха Лютцелера). Наконец, некий намек на рамочную конструкцию дают два текста – ранний и поздний – своего рода саморазоблачение автора, его признание в собственной ограниченности.
Если говорить о нерешенных проблемах – в пределах заявленных аспектов, то, как нам кажется, достоен отдельного осмысления или хотя бы акцентировки вопрос об исторической применимости тех или иных подходов, которые, как обычно принято считать, все равны пред лицом требований историзма. Что, однако, не совсем очевидно. Этот принцип категорически отвергает всякого рода «модернизацию», под которой подразумевают, как правило, применение современных, новых, экспериментальных методов и концепций. Эти методы и концепции могут безболезненно допускаться к современному материалу, который вполне жив и обладает, как всякий нормально функционирующий огранизм, средствами саморегуляции и неким подобием иммунитета по отношению ко всякого рода внешним и необязательным проникновениям, концептуальным инфекциям и методологическим инфильтрациям. Иначе обстоит дело с историческим материалом, с «памятниками искусства», которые надо беречь, спасать и защищать от беспощадного воздействия не только (и не столько!) исторического времени, сколько времени настоящего, времени современного. Проблемы историзма сложны, запутаны и порой обманчивы. Наша тайная мысль заключалась в том, чтобы показать сугубую сомнительность историзма по отношению к материалу художественному, феноменология которого предполагает непрестанную и неустанную актуализацию в опыте непосредственного контакта, диалога, где инстанция пользователя – это позиция вовлеченного, увлеченного, если не разоблаченного соучастника. А тем более, если речь идет о сакральном искусстве, об опыте Священного! Как поучительна здесь судьба, например, отечественной византинистики, когда-то позволившей себе отождествить объективное с обмирщенным, а теперь с трудом выбирающейся из зарослей позитивизма и эстетизма при помощи разнообразных перформативных у-топий…
Другая заветная и немного запредельная (выходящая за пределы книги) мысль – это идея общей (то есть предназначенной для всех) «графичности», двухмерности, линейности, проективности и «экранности» всех описываемых именно здесь подходов. Они все являются «-графиями» и чуть-чуть не дотягивают до «-логий», ибо предполагают незаполненные участки неиспользованного материала, незанятой поверхности, чистого фона между следами своих аналитических «прикосновений». Это все методы, стремящиеся к смысловым диаграммам (или даже каллиграммам), к схемам и темам, к канонам и эйконам. Это все еще письмо, это пока еще не стереометрия визуальной образности и вовсе не смысловая топология архитектурной телесности. Сквозь полупрозрачную диафанию и многослойную транспарентность подобных прописей-описей зияет и сияет нечто такое, что требует к себе иного отношения – не просто более адекватного, но более честного, если возвращаться к началу этого Предисловия. А также и более чистого и смиренного перед лицом всего того, что уже было и помыслено и записано, и почувствовано, и сказано, и доказано и, главное, показано.
И еще несколько заключительных слов. Книга писалась на редкость долго, начиная с 2005 года, и потому при внимательном чтении в ней без труда можно найти некоторую подвижность, изменчивость, неровность и даже противоречивость мнений и мыслей. Самая ранняя часть (если не считать Приложений) – это комментарии к Краутхаймеру, самый свежий текст – обзор отечественной архитектуроведческой традиции. А все вместе – это сильно расширенный вариант докторской диссертации, защищенной в 2007 году. Ей предшествовала куда более скромная монография «Симвология, археология, иконография архитектуры», выпущенная Издательством МГУ в 2006. Многое связывает эту книгу с работой о Хансе Зедльмайре («Пустующий трон», 2004), особенно того, что касается его «Возникновения собора» – этого достойного образца сакраментальной феноменологии храмовой архитектуры.
Автору книги видятся довольно заманчивые перспективы подробного разговора хотя бы о семиотике архитектуры (Дж. К. Кениг, Ч. Джэнкс, М. Л. Скальвини, Х. П. Бонта, Д. Прециози, У. Эко), не говоря уж об иконологии сакрального зодчества (жду т своего часа и Г. Бандманн, и Э. Панофский, и Р. Виттковер, и О. фон Симсон, и Г. Эверс, и Э. Болдуин Смит, и А. Штанге, и М. Варнке), или о феноменологии сакральной (Божественной!) среды (А. Шмарзов, Д. Фрай, Х. Янтцен, Х. Зедльмайр, Хр. Норберг-Шульц, П. Портогези), или о богословско-литургической герменевтике церковного здания (вся богатейшая литература последних лет вкупе с возобновленной и реактуализированной традицией христианской археологии – см. соответствующие разделы в Библиографии или хотя бы немецкие тексты А. Штока, французские – И. Конгара, английские – Л. Джонса). Ведь поименовав нечто классическим, уже нельзя уклониться и от неклассического, и от антиклассического, и тем более – от неоклассического.
Но главное другое. Все упомянутые тексты – и диссертация, и ранняя монография, и предлагаемая книга – существованием своим обязаны двум личностям, о которых, с превеликим сожалением, приходится говорить в прошедшем времени, специально предназначенном для высказываний об утратах и уходах. Но у благодарности, как и у любви, прошлого нет, хотя есть память. И если эти чувства настоящие, то это и чувства настоящего, вечно длящегося состояния верности, доверия и веры. В.Н. Гращенкову автор обязан своим расположением к архитектуре, а В.П. Головину – собственно решимостью написать и, главное, – закончить книгу.
И ныне здравствующим – слава Богу! – я конечно же очень и очень признателен… В.А. Дажина, О.Б. Дубова, М.А. Шестакова, Л.А. Беляев и А.Л. Баталов взяли на себя труд снисходительного прочтения и сдержанного обсуждения рукописи. Собственной долготерпеливой супруге автор обязан редактурой и прочей вычиткой, равно как и М.Ю. Торопыгиной и М. Ивашиной. А.Б. Орешина с присущей ей виртуозностью и вкусом придала тексту художественный вид, которого он, быть может, и не достоин. С прот. Николаем Озолиным автор имел возможность обсудить целый ряд проблем, так или иначе присутствующих в книге. Немаловажный повод для благодарности – участливое терпение и сочувствие коллег по Отделению истории и теории искусства исторического факультета МГУ, среди которых – И.И. Тучков, В.С. Турчин, Э.С. Смирнова, О.С. Попова, Н.М. Никулина, А.Л. Расторгуев, В.Е. Ефремова, а также Факультета церковных художеств ПСТГУ во главе с прот. Александром Салтыковым и не без участия А.А. Вороновой, В.Е. Сусленкова и Н.Е. Секачевой. Наконец, автор не знает, что бы он делал без своих студентов и аспирантов, всячески вдохновлявших его вниманием и доверием, пытливостью и великодушием.
В оформлении книги фигурируют следующие памятники: c. 2 – Роза собора в Лозанне (ок. 1230 г.); с. 12 – Фонарь купола Санта Мария дель Фьоре (Филиппо Брунеллески, 1436 г.); с. 50–51 – Центральный неф собора во Фрайбурге (1230–1330 гг.); с. 160–161 – Роза южного трансепта собора в Леоне (XIII–XV вв.) и Витраж санктуария собора монастыря Санта Мария де Педраблес (XIV в.); с. 224–225 – Сан Стефано Ротондо (Рим. 468–483 гг.) и Лекционарий Генриха II, fol. 116 verso. Жены-мироносицы (Райхенау. 1007–1012 гг.); с. 284–285 – Cан Аполлинаре ин Классе (532–549 гг.) и Мозаики Сан Витале (Равенна. 546–548 гг.); с. 356–357 – Мавзолей Марка Клодия Гермия и Воскресение Лазаря (катакомбы на Виа Латина, IV в.); с. 448–449 – Тициан. Ассунта (Алтарный образ церкви Санта Мария Глориоза деи Фрари. 1516–1518 гг.); с. 450 – Тициан. Мадонна Пезаро (1519–1526 гг.); с. 572 – Св. София в Константинополе (532–537 гг.); с. 594–595 – Московский Кремль (Вид с Большого Устьинского моста); с. 660–661 – Стоунхендж (IV–III тыс. до н. э.)
ВВЕДЕНИЕ:
теория,
архитектура,
методология
Мир наук несравненно туманней и неуловимей, чем мир поэзии.
Гилберт К.Честертон
Все предметы науки об искусстве суть частные случаи «смысла по преимуществу».
Пауль Франкль
Шар и Крест, или Архитектура и смысл
Не станет особым откровением, если сказать, что история искусствознания в XX веке – это история не совсем удачной попытки рождения новой научной дисциплины. Ни рецепция смежных методологий, ни опыт усвоения максимального числа концептуальных контекстов – ничто не позволило искусствознанию стать отдельной и самостоятельной «наукой об искусстве». Причина тому не только в специфике гуманитарного знания вообще, не предполагающего чрезмерной специализации отдельных наук внутри себя, так как предмет интереса един и неделим – сам человек. Дело и не в соответствующей философской метатеории науки, склонной в XX веке рассматривать проблемы любой науки исключительно как проблему языка, проблему описания и классификации посредством имен и высказываний, что автоматически делало любое невербальное, тем более визуальное, иконическое высказывание, чем-то вторичным и производным.
Самое важное другое: в целях независимого и самостоятельного развития на фоне остальных наук не совсем удачно выбран был объект интереса. По всей видимости, само искусство, художественное творчество – творцы и их творения – по природе своей не есть что-то самостоятельное и независимое, как хотелось думать эстетизму XIX столетия. Присущий художественной деятельности символизм заставляет рассматривать продукт этой деятельности, то есть произведение искусства, при самом деликатном подходе как «систему отсылок», как риторически-репрезентирующий дискурс, изобразительность которого выходит далеко за пределы визуального ряда[1].
Единственное методологическое спасение в этой ситуации – сознательное самоограничение в трех направлениях: дескрипция, формализм и историзм. Понятно, что за этими тремя «направлениями» стоит одна тенденция и один соблазн – позитивизм, который остается и в XX веке для многих синонимом объективизма и научности. Понятно, что такая наука может существовать в неизменяемом состоянии достаточно долго, так как ее задача – архивация знания, фиксация и хранение т. н. фактов, а не их уразумение. Но стоит поставить вопрос о «значении», как неотразимая убедительность и, главное, эвристичность подобной антикварной науки становятся весьма сомнительными. Приглядевшись, можно обнаружить, что сдержанный объективизм отчасти сродни равнодушному вещизму.
Что же делать, если синтаксис не удовлетворяет? Если семантика, прагматика, не говоря уже об экзегетике и прочей герменевтике, суть непосредственные объекты интереса и знания? Или хотя бы его стимулы?
Замечательно и утешительно то что хотя бы одна область художественного творчества не дает уклоняться от этих, казалось бы, сомнительных вопросов. Речь идет, конечно же, об архитектуре, которая реальна, буквальна и конкретна, являя собой результат человеческих усилий, порожденных столь же конкретными намерениями, желаниями и поддержанных определенными (или неопределенными) целями. В такой ситуации невозможно отмахнуться от смысла: он взывает к исследователю и заманивает его в незнакомые области человеческого и не совсем человеческого бытия. Поэтому не случайно все самое радикально новое и продуктивное в истории науки об искусстве свершалось в XX веке в архитектурной области – архитектурной, между прочим, и теории, и практики. Притом, что не совсем ясно, за какой сферой право первородства. Во всяком случае, очевидно, что теория архитектуры демонстрирует свою силу, влияя не только на строительную практику, но и на практику изысканий в области истории зодчества.
Непростые и загадочные отношения между архитектурой и смыслом неплохо переданы, как нам представляется, в довольно незамысловатом мотиве, пронизывающем один из известных романов Честертона. Этот мотив вынесен в название романа – «Шар и Крест» – и отсылает в своем буквальном значении к собору Св. Павла в Лондоне. С него-то и начинается действие романа-притчи: в крайне причудливом летательном аппарате в глухой ночи совершают полет некий английский профессор Л. и некий болгарский (или греческий) монах-отшельник, о. Михаил[2]. Каким-то чудом или благодаря бдительности монаха они не сталкиваются в тумане с верхушкой упомянутого собора, завершающегося именно шаром, на который водружен Крест.
Вскоре выясняется, что профессору весьма приятен шар («как он совершен, как довлеет себе!»), и при этом уродливым и ненужным кажется Крест («нелеп и произволен… противоречив по своей форме»). Монах напоминает, что Крест подобен человеку, который «тем и выше своих собратьев… что способен к падению». Форма Креста «произвольна и нелепа, как человеческое тело». Профессору хотелось бы поменять их местами, но о. Михаил справедливо указывает, что в таком случае «все рухнет»…[3]
Крест представляется, несомненно, символом смысла, сама архитектура – это, видимо, шар, и, по словам одного выдающегося немецкого историка искусства, она выступает всего лишь «носителем» этого смысла, точнее говоря, значения[4]. Иногда для облегчения проблемы взаимодействия архитектуры и смысла кажется возможным поменять местами смысл и архитектуру, воздать архитектуре полагающуюся ей честь, подчеркнуть величие или автономность творчества и художества. А можно просто уклониться от проблемы, заменив ее самостоятельными разговорами: отдельно – о Кресте, отдельно – о шаре.
Но, как вскоре выясняется, очень нелегко избавиться от смысла – этого подлинного креста всякой человеческой деятельности, в том числе и строительной. Не лучше и не легче ли попытаться хотя бы чуть приблизиться к этому странному и нераздельному сочетанию архитектуры и смысла, взяв себе за труд погрузиться в наиболее показательные опыты совмещения архитектуры и смысла, предпринятые в трудах тех же историков искусства?[5]
Проблема архитектурного смысла – проблема архитектуры
Но в чем же состоит все-таки странность и сложность проблемы архитектурной семантики, вобравшей в себя и специфику самой архитектуры, и особенности истории искусства или искусствознания?
Существенные особенности архитектуры состоят в том, что данный вид искусства лишен прямой изобразительности и потому не обладает привычным «предметным», то есть буквальным, прямым «подражательным» смыслом. Архитектура лишена миметического значения, она ничего не воспроизводит, кроме себя самой, и потому любой смысл, который можно «прочитать» в архитектурном памятнике, будет казаться смыслом косвенным, привнесенным в архитектуру. И весь вопрос состоит в том, чтобы выяснить происхождение этого смысла, а также его строение, что подразумевает постижение и общего, полного состава архитектурного целого. Последнее существенно по той причине, что, как выясняется, многосоставность семантики отражает и многообразие источников значения того или иного сооружения.
Значение способно привходить в архитектурный памятник многими путями. Это и собственно замысел произведения, его назначение, его функция, то есть те мотивы, цели, которые предваряют создание произведения и составляют содержание его проекта, без которого, естественно, никакое сооружение не может быть воздвигнуто. Но и сам замысел представляет собой, так сказать, вторичный источник, так как его собственное происхождение – это сознание авторов проекта, заказчиков, отчасти самих строителей, которые первоначально имеют, так сказать, ментальный образ будущего сооружения. Следует уточнить, что из всех соображений касательно будущего сооружения, самое существенное, наиболее смыслоопределяющее – это именно назначение, за которым, собственно, и стоит будущее значение архитектурного произведения. Но опять же невозможно представить себе чистое сознание проектировщика, изолированное от внешних смыслообразующих факторов, среди которых выделяются и традиция, и конкретные актуальные обстоятельства, породившие саму потребность в данном сооружении. Эти факторы могут быть и социального, и религиозного, и политического, и просто психологического свойства.
И это лишь один источник смысла, который, повторяем, только предваряет сооружение. Другой источник – назначение, функция, которые предполагают и семантику-прагматику, происходящую уже из ситуации пользования готовым произведением. Рецепция со стороны пользователей подразумевает привнесение дополнительного значения в произведение, обретающего новые смысловые измерения, то есть, фактически, подвергающегося интерпретации. Такого рода последующее осмысление (и переосмысление) памятника может быть и достаточно окказиональным, и вполне систематическим, отражая точку зрения всего круга заинтересованных инстанций, начиная с заказчиков, принимающих (или не принимающих) готовое произведение, и заканчивая теми, кто целенаправленно занимается истолкованием памятников. Таковыми могут быть и поэты, и философы, и критики, и сами художники.
История архитектуры, собственно говоря, дает многочисленные примеры теоретической рефлексии по поводу строительного искусства. Многочисленные тексты, начиная с Витрувия и заканчивая современными теоретическими опытами на тему архитектуры, свидетельствуют только об одном: семантическая жизнь архитектурного произведения не заканчивается моментом его возведения. Всякое сооружение открыто последующему привнесению в него не просто дополнительного, но, быть может, самого прямого значения, так как остается столь же открытым вопрос: а какой смысл можно считать в архитектуре ее собственным – тот ли, что в нее вкладывается, или тот, что из нее извлекается? А главное – кем и когда?
Но можно задаться и радикально иным по направленности вопросом: а так ли уж зависима архитектура от «человеческого фактора», человеку ли она обязана и своим существованием, и своим, соответственно, смыслом? Не состоит ли архитектура из тех же элементов, что и окружающий человека мир? Не является ли она частью внешней среды, того мира, который преднаходит человек в своем существовании? Пространство, пластические массы, поверхности, основания, динамические отношения – весь этот архитектонический язык существует и до момента возведения всякой постройки. Это язык природы, космоса-мироздания и тех сил, что за ними стоят. И любое сооружение – это только повторение подобных отношений, выражение и наглядная фиксация того, что и так существует[6]. Недаром и сама архитектура так устойчива в своих элементах и в своих правилах.
Так что можно сказать, что строительное искусство обладает собственным языком выражения, со своим «словарем», состоящим из отдельных «слов» – архитектурных форм, подчиняющихся собственной «грамматике» – конструкционным правилам и, самое главное, предполагающим вполне независимую от конкретного пользователя «прагматику» своего функционирования, скорее включающую в себя зрителя-посетителя, чем предлагающую ему свои «услуги».
А ведь этим зрителем-пользователем может быть и ученый-историк, которому приходится уяснять для себя, будет ли он со стороны наблюдать за памятником, или сделает его частью своего внутреннего опыта – не только эстетического, но, быть может, и этического, во всяком случае, непременно экзистенциального.
Проблема архитектурного смысла – проблема истории искусства
Так мы приходим к кругу проблем, связанных уже не столько с самим строительным искусством, сколько с наукой, которая призвана анализировать и как раз интерпретировать, в том числе, и архитектурные памятники всеми возможными и доступными средствами. Это вопрос подходов, то есть методов, которые призваны именно найти пути приближения к памятнику и способы извлечения из него смысла. Хотя сама постановка проблемы как задачи извлечения заложенного смысла – это уже один из подходов наряду со многими иными.
На самом деле существует два способа уразумения любого явления, приближения к нему, две формы обращения с ним. Это или внешнее созерцание, то есть буквально теория, рассматривание, предполагающее, между прочим, покой, неподвижность, отстраненность и отделенность от объекта. Или движение навстречу объекту, стремление к нему, приближение или даже слияние, что предполагает и соответствующий путь (буквально – методологию). В случае с архитектурой такого рода когнитивные парадигмы приобретают дополнительную степень буквальности, так как в архитектурное сооружение на самом деле можно войти. И, собственно говоря, мера приближения, вхождения – и выхода (что не менее важно!) – вот вся проблематика архитектурного смысла.
А ведь можно представить себе архитектуру и как внутренний объект, как содержание внутреннего опыта субъекта, как нечто, что он принял в себя, допустил, впустил, сделал частью своего внутреннего пространства. Все сказанное выше вовсе не противоречит такому повороту «методологических событий». И мерой, гранью, собственно, термином и порогом подобных запутанных на первый взгляд отношений будет, вероятно, человеческое тело…
Как совместить теорию и методологию? Как согласовать и синхронизировать теорию архитектуры и теорию архитектуроведения? Или следует предположить, что теория предшествует, предваряет и предвосхищает методологию? И так ли уж они взаимосвязаны? Быть может, они приложимы к разным сферам? Не стоит ли, наоборот, развести теорию и методологию, отведя первой область собственно строительства, а методологии – область последующего комментирования? Или теория сродни критике и относится к современным явлениям в области архитектуры, а методологию стоит отнести в область истории? Обзор возможных ответов – одна из задач предлагаемого текста, хотя уже сейчас понятно почти что непреодолимое несовпадение между тем, что пишут об архитектуре философы, богословы, социологи, психологи, сами архитекторы, с одной стороны, и историки искусства – с другой.
Иными словами, насколько многообразны истоки и источники смысла в архитектуре, настолько же многочисленны и пути его последующего усвоения. Разобраться в иерархии и системе методов истории искусства, сфокусированной на проблематике в данном случае архитектуры, означает понять и весь диапазон архитектурной семантики, обогащение, расширение, видоизменение и даже трансформация которой, как выясняется, дело не только теории архитектуры, не только самих архитекторов, их заказчиков и покровителей и пользователей, но и искусствознания как такового, ученых историков и методологов. Поэтому, в принципе, методология способна обогащать и теорию.
Причем весьма важно, что как архитектура обладает своей типологией, так и история искусства располагает типологическим набором методов, подходов, функционирующих по большей части иерархически, сменяя, заменяя, но и включая, подразумевая и дополняя друг друга.
Здесь стоит специально подчеркнуть особый статус архитектуры в системе видов изобразительного искусства. Можно сказать, что ее место скорее над системой, и потому понимание того, что происходит с архитектурой, дает возможность прояснить процессы, происходящие в иных областях изобразительности.
Именно поэтому принципиально важно иметь достаточно определенную теорию архитектуры, которая позволяла бы выстраивать и соответствующие – столь же определенные – подходы. Утвердить подобную связку – или несколько связок – наиболее привлекательная и полезная задача всякого рода исследований в сфере методологии.
Показательно и замечательно при этом, что само рождение истории искусства как самостоятельной дисциплины сопровождалось интенсивными «работами» по возведению здания именно архитектурной теории, которая, впрочем, и до начала XX века насчитывала не одно и даже не десять столетий своего развития[7], начиная с того же Витрувия, в знаменитой триаде которого можно при желании обнаружить все основные направления современной науки об искусстве, в том числе и ее семантические составляющие[8].
Тем не менее именно благодаря усилиям Генриха Вельфлина[9], Августа Шмарзова[10], Пауля Франкля[11] понимание архитектурной формы (прежде всего!) достигает того концептуального уровня, который остается непреодоленным и современной теорией архитектуры, предпочитающей заново открывать то, что было известно уже на заре науки об искусстве[12]. Но существенно другое: указанные концептуальные построения принадлежат именно историкам искусства и, значит, способны питать и методологию науки об искусстве.
Именно у этих авторов мы обнаруживаем, в том числе, и попытку осмысления парадокса архитектурного значения, которое существует как дополнение к архитектурному телу, оживляя его, одушевляя его, наполняя его и окружая собственно «всей человеческой жизнью», как прямо выражается Пауль Франкль. Без этой «витализации» архитектурное сооружение превращается всего лишь в «археологическую реликвию», неживой набор фактов и свойств[13].
Другими словами, переход от архитектуры к значению фактически означает переход от архитектуры к тому, что ее и окружает, и наполняет, то есть к среде. Получается, что, представляясь чем-то значимым, осмысленным, архитектура жертвует своей предметностью, но за счет этого она становится чем-то живым, приобщая себя и нас не просто к своему функционированию, но и к тем, кто пользуется, кто принимает ее функции, отвечающие соответствующим душевным интенциям.
Но и художник тоже жертвует собой, чтобы стать своим творением, переходит в предмет, чтобы наделить его жизнью.
И не совершает ли историк искусства неизбежно обратный путь? Не изымает ли он живую жертву человечности и интенциональности из памятника, превращая его обратно в предмет, опустошая его, дабы наполнить собой? Именно в этом состоит основание и механизм формального анализа, хотя стоит учитывать, что и сама архитектура, несомненно, искушает исследователя своей осязаемо-очевидной предметностью, которой она, к счастью, не исчерпывается.
Ханс Янтцен, коллега Гуссерля и Хайдеггера по Фрайбургу, рекомендованный туда самим Ясперсом[14], первым вносит в искусствоведческий дискурс элемент феноменологической редукции, направленной против того несколько прямолинейного «вчувствующего» реализма, что характерен был для формально-стилистического взгляда на вещи, в том числе и построенные[15]. Архитектура задуманная и возведенная становится другой по ходу своего восприятия. Помысленная постройка – новая постройка, мыслить – не просто достраивать, но и отчасти перестраивать, хотя процесс истолкования способен протекать и в обратном направлении: дополнительные элементы «декора» и даже целые «этажи» по ходу восприятия и усвоения художественного творения могут выстраиваться и в голове интерпретатора, если он к тому готов (а он обязан быть готов). В целом мы анализируем целую череду феноменов: смысл историко-художественной интерпретации – в выяснении смысла художественной интерпретации, в строгом различении предмета изображения и изображенного предмета. Это достигается через учет визуального опыта, сугубо оптических эффектов, возникающих по ходу восприятия архитектуры, понятой как активная, воздействующая на зрителя экспрессивная среда. Так, идея диафании, то есть прозрачности, стены, осознанной как «оптическое основание» – или окрашенное, или затемненное, – превращается из способа структурного описания архитектуры (готической стены) в принцип толкования как такового. Янтцен не скрывает своих феноменологических пристрастий, указывая, что готическое пространство – это «символическая форма», созидаемая ради «культового события». Но диафания – это и ядро самого культового акта, потому-то само «пространство – это символ того, что от пространства свободно»[16].
Ханс Зедльмайр первым если не заметил, то, во всяком случае, отчетливо описал тот факт, что именно архитектура и ни что иное способна изображать нечто, превышающее ее, стоящее за ней и выше нее, причем изображать предметно, выступать в качестве образа, отсылающего к некой реальности большей и иной размерности[17]. Архитектуру и все, что с ней связано и повязано, следует воспринимать как всего лишь элемент целостности другого, следующего уровня, как всего лишь ступень в иерархии символов, отсылающих к «иным мирам». Иным и по отношению к творчеству художников и их истолкователей, по отношению к самому человеческому бытию, по отношению даже к внечеловеческим смыслам и мирам. Чтобы понять смысл архитектуры, нужно взглянуть не просто со стороны, а именно сквозь, глубже и выше: истолкование следует понимать как способ выхода за пределы эмпирической данности, переход границ феномена и просто его преодоление. Мир, зримый с точки зрения своего смысла, – мир прозрачный (Зедльмайр, между прочим, всячески подчеркивает свою зависимость от Янтцена). Не только готический собор[18], но и сам мир есть «диафанический» экран, не столько закрывающий, сколько прикрывающий иную реальность, отгораживающий ее от нас и, быть может, оберегающий нас от нее.
Поздний Зедльмайр (для нашей темы интересна книга о Фишере фон Эрлахе)[19] – это пусть и спиритуализированный, но все-таки только вариант того метода, который с легкой руки Панофского получил именование иконологии, представляя собой неокантианскую рационализацию «магического символизма» Аби Варбурга[20]. Рудольф Виттковер первый находит приложение постулатам Панофского в области архитектуры, обращая внимание, что в самой теории архитектуры можно обнаруживать «символические ценности», то есть отношение сознания к тем или иным фактам культуры, например к архитектуре[21]. Наконец, и сам Панофский крайне демонстративно прилагает иконологию к архитектуре – ко все той же многострадальной готике[22]. И даже саму знаменитую витрувианскую триаду можно совместить с триадой Панофского (доиконографический, иконографический, иконологический уровни) и улавливать в подобную концептуальную сеть практически любой архитектурный смысл[23].
Гюнтер Бандманн вносит крайне важное уточнение, преодолевающее несколько чрезмерный «платонизм» иконологической герменевтики[24]. Границы проходят не «снаружи», а внутри человека. Смысл в архитектуре – свидетельство активности сознания, точнее говоря – определенного типа сознания. Этих типов, по крайней мере, четыре: символический (архаический), аллегорический (античность и отчасти Средневековье), эстетический (Новое время), исторический (характерен для всех эпох, кроме, как легко догадаться, доисторических явлений). Сначала выстраивается личность, внутри нее складывается, созидается смысл, после чего строится сооружение, предназначенное для самообнаружения сознания за собственными пределами, но в пределах архитектуры, ее морфологии («формальные последствия» того или иного смысла). Внутренняя «планировка» сознания, его «выгородки» (структуры), так сказать, выносятся вовне, в том числе и в целях их преодоления (или защиты от них). Так создается мир внешний, который рискует превратиться в мир искусственный, в «мир искусства» – мир эстетизированный и, как правило, обмирщенный.
Но возможно редуцировать этот неподлинный мир, свести его к основополагающим уровням, структурам, «сферам» бытия, например к экзистенциальным переживаниям силы (власти) и конечности (смерти). Эти состояния, во-первых, символизированы ритуалами и культурной традицией, а во-вторых, что самое существенное, имеют событийную структуру и потому нуждаются в месте, которое подразумевает пространство. Первым обратил подобную экзистенциальную онтологию на архитектуру Ханс-Георг Эверс в тексте с программным названием «Смерть, власть и пространство как сферы архитектуры» (1938)[25]. Несмотря на очевидную зависимость от прежней культурно-исторической традиции, Эверс смог убедительно наполнить соответствующими темами (буквально – тематизировать) «символические формы» архитектуры, совместив их, что очень существенно, с архитектурной типологией. Тем не менее видно невооруженным взглядом, что архитектура – только повод для обсуждения и воспроизведения определенного набора историософских постулатов. На самом деле это только тематика, прилагаемая к архитектуре, а не семантика, из нее извлекаемая. Но весь подобный подход, имея изначально совсем иные теоретические корни, на удивление легко совмещается со все той же иконологической программой как реализация последней цели интерпретации: достижения уровня «сущностного смысла», понятого как «невольное и неосознанное самообнаружение базисных связей с миром»[26], что выражается, например, в таких онтологических парадигмах, как «дух, характер, происхождение, окружение и жизненная судьба»[27].
И это только начало весьма продуктивной феноменологической линии в архитектурной теории, продолжение которой – концепция «экзистенциального пространства» Христиана Норберг-Шульца[28] или герменевтика сакральной архитектуры Линдсея Джонса[29].
Нетрудно заметить, что вышеперечисленные теоретические перспективы питаются очень определенным представлением о смысле как некоторой реальности, которую можно обнаружить в известной телесной, материальной манифестации символической природы, предполагающей, по словам Панофского, именно самообнаружение иных реальностей (сакральной, мифологической, исторической, психологической, экзистенциальной и т.д.), по собственной инициативе открывающих себя человеку и миру. Каждый эйдос сам находит свой тюпос…
Или смысл возникает, порождается, а не просто манифестируется? И, быть может, не в недрах вещей или сознания, а на их стыке? Или смысл лишь передается, и анализировать стоит только процессы коммуникации? Крайне существенная сторона дела, выходящая, к сожалению, далеко за пределы наших задач, – это ответ семиотики на подобные вопросы[30].
Иными словами, феноменологизация, иконологизация, онтологизация, семиологизация и проч. – все это отдельные концептуальные стратегии, по которым может двигаться исследовательская мысль, обретая на этом пути если не истину, то правду, если не искусство, то его понимание.
Но для искусствознания как науки крайне важно иметь в виду и то, что некоторые методы, которыми она пользуется по праву и практически по умолчанию, возникли еще до того момента, когда история искусства обрела статус самостоятельной науки. Это и не формализм, и не иконология, не структурализм, а методы, используемые наукой об искусстве, так сказать, бессознательно по той причине, что они составляют фундамент исторического познания искусства, во-первых, и не претендуют, как может показаться, на что-то большее, чем сбор прямых и простых фактов.
Эти методы сложились по большей части в такой дисциплине, ставшей вполне почтенной в XIX веке, как собственно история, для которой искусство служило всего лишь одним из источников исторического знания.
Действительно, изображения – вполне полезный и доступный ресурс; в них, например, могут воспроизводиться какие-либо исторические реалии (от предметов до событий), иллюстрироваться какие-либо идеи или даже тексты. С последними, то есть с письменными, источниками, искусство не могло тягаться никак, но играть свою важную, хотя и вспомогательную роль, ему было вполне по силам. Подобный источниковедческий подход к изобразительному искусству был и остается типичным для историзма как метода и мировоззрения, находя себе выражение и в такой, в том числе, дисциплине, как иконография, которая стала самостоятельной только вместе с самим искусствознанием и обрела дополнительное измерение и, так сказать, второе дыхание, будучи поставлена все тем же Панофским в иерархическую связь с другими методами (формальным и иконологическим).
Иногда кажется, что иконографию можно даже отождествить с иконологией (позиция позднего Панофского и его верного ученика Яна Бялостоцкого[31]), но неизбывный источниковедческий пафос иконографии всегда отделяет ее от любой герменевтики, оставаясь не просто полезной и удобной установкой, но и неизбежным инструментом накопления материала для всех последующих построений в области истории искусства.
От этого «позитивного» фундамента невозможно просто так избавиться, и потому, быть может, его стоит обследовать чуть подробнее, дабы знать, на чем приходится возводить основное здание (или несколько зданий). Но напомним, что речь идет о не совсем простом варианте источниковедческого объективизма – об иконографии, которая все-таки включилась в свое время (не без опоздания) в процесс «эмансипации» науки об искусстве, не забывая о своем позитивистском прошлом[32].
Иконография как классический метод
У иконографии есть целый набор характерных признаков, которые стоит воспроизвести[33]. Этот метод ориентирован на выяснение и усвоение прямого, предметного значения, когда возможно ответить на вопрос, что именно изображено. Этот метод имеет все тот же сугубо источниковедческий характер и отличается преимущественной описательностью, предполагающей на логическом уровне операции классификации и типологизации, что прямо отражает, между прочим, специфику архитектурного языка, построенного на обращении с устойчивыми типами.
Соответственно, опыт сопряжения его со строительным искусством представляется довольно и интересным, и просто обязательным в контексте выяснения общей и единой семантической методологии, которую только предстоит выработать, выяснив заодно ее необходимость и просто возможность. Этот метод можно назвать классическим, так как он и предваряет прочие подходы, и служит им отчасти образцом. И как всякая классика, иконографический метод является источником и подражания, и отторжения, то есть всех трансформационных процессов, происходящих и в науке об искусстве, начиная с самого момента ее зарождения, а именно с конца XIX века[34].
Особый статус иконографии задается не только ее традиционностью, проверенностью и общей позитивностью, то есть верифицируемостью. Дело также состоит в том, что иконография складывается как метод пред лицом задачи понимания материала сакрального искусства, где именно смысловые и, более того, символические стороны изобразительности, как известно, играют доминирующую роль.
С другой стороны, сакральная, то есть культовая, архитектура, особенно в контексте христианской сакральной традиции, обладает целым рядом особенностей, главная из которых носит все тот же источниковедческий характер. Дело в том, что исток смысла для сакрального искусства вообще и зодчества в частности мыслится принципиально за пределами этого самого искусства, которое получает его извне, например из Св. Писания, из богословской, экзегетической традиции. Но главное, что и эти источники тоже мыслятся производными от основного, которым является собственно теофания, Божественное Откровение, понимаемое как самораскрытие некоторого трансцендентного, то есть принципиально сверхсущего, Начала.
Поэтому и искусство призвано содержать в себе нечто от него отличимое и независимое, сверх-художественное и потому не замкнутое на сугубо художественных, быть может, даже и изобразительных проблемах. Это сверхначало, присутствующее в изображении и изобразительной деятельности, но им не присущее, именуется, как известно, каноном, отражая постоянство, устойчивость, сверхиндивидуальность и сверхрациональность некоторых основополагающих составляющих художественного процесса. То есть каноничность отражает и обеспечивает сверхразмерность памятника изобразительного искусства, его соотнесенность с тем, чем он (памятник) не является, но с чем он связан. Сакральная каноничность, таким образом, соотносит памятник с иными уровнями и типами смысла.
Кроме того, каноничность как систематичность свойств и их повторяемость отражает общую ритуальность художественной и прочей мистериальной деятельности в контексте сакрального бытия как такового.
И потому все сказанное налагает соответствующие требования и на способы анализа такого рода материала, который лишь отчасти представляет собой материал художественный, исток и источник которого запределен по определению, отчего остается открытым и вопрос его анализа, во всяком случае, он предполагает кооперацию искусствознания с прочими науками. Притом, что научный статус некоторых из них (того же богословия) требует дополнительного уточнения.
Поэтому иконография как метод – это еще и систематичность, фактически, типологичность и взгляда на материал, и способа, порядка его описания. И, как нетрудно догадаться, совершенно аналогичными свойствами обладает и сама архитектура, строительная деятельность, где правила и порядок – условия существования архитектурного явления. Можно предположить, что иконографичность особым образом присуща самой природе архитектуры, хотя вновь и вновь возникают сомнения в связи с принципиальной а-иконичностью архитектурного образа.
Хотя при желании можно и должно понимать архитектурный образ именно феноменологически изобразительным, во всяком случае иконным, что предполагает, да не покажется это, быть может, непривычным и неприемлемым, обнаружение в присущей архитектуре стереометрии той определенной доли двухмерности, которая и связывает архитектурный образ со всякими иными визуальными образами.
Строго говоря, архитектурная двухмерность имеет двоякий корень. С одной стороны, архитектура начинается с проекта, с эскиза, вообще, с замысла, фиксируемого графическими средствами. Постройка – это наделение пространством того, что прежде было плоскостью, которая, между прочим, продолжает присутствовать в разнообразных проявлениях и в готовом сооружении, начиная, конечно же, с основания, с горизонтали земли. Сюда же добавляются и стены, и отчасти перекрытия. Все вместе делает архитектуру системой плоскостей, взаимодействие которых только и рождает пространство. Стереометрия обязана своим существованием планиметрии, которая никуда, повторяем, не девается из готового сооружения.
С другой стороны, существует и принципиально иной, более глубинный и более связанный с анализом архитектуры вид планиметрии. Это принципиальная плоскостность визуально-зрительных феноменов, оптических образов, получаемых, в том числе, и при созерцании, рассматривании архитектурных явлений, которые обретают пространственный статус лишь как осознаваемые образы, прошедшие путь когнитивного и упорядочивания, и, соответственно, уразумения. Паттерны восприятия – строительный материал сознания, инструмент же стереопсиса – сенсомоторика, обращение к телесному опыту, опыту поверхности, включающему в себя и тактильные, и динамические переживания. Причем последние – это все то же осязание, но, так сказать, отложенное и реализуемое через усилие и выбор. Смена двухмерных паттернов и обработка их паттернами когнитивными – все это только и создает образ архитектуры в сознании зрителя, без которого, как известно, архитектура останется не более чем физическим объектом. А где образы когнитивные, там и образы памяти, всякого рода мнезические образования, включенные в архитектурный смысл на равных правах со всеми прочими разновидностями символизма[35]. И соответственно, где память, там и воспоминание, воспроизведение, напоминание и репродукция того, чего нет под рукой, но есть под слоем иным образов. Другими словами, архитектура может быть символической и знаковой, а потому – по-своему изобразительной, воспроизводя и нечто такое, что не может быть по природе передано напрямую, путем воспроизведения внешнего облика и сходства. Особенно, если речь идет о сакральной архитектуре: в ней свой символизм[36] и свой сакраментализм[37].
Так что архитектура – это плоть образов, их прибежище и бытие, и всякое сооружение, если воспользоваться выражением Ч. Пирса, – это, фактически, «тело символа»[38].
Впрочем, зритель – это только одно из амплуа пользователя, способного не только рассматривать архитектуру, но и молиться в ней, обитать, скрываться в ней и покидать ее, совершая всевозможные ритуалы, в том числе и повседневного существования, иначе говоря, осуществлять свою поведенческую активность, имея в виду и экзистенциальную ее подоплеку, которая обнаруживает себя в среде существования человека, в ее ограниченности, пограничности и предельности.
Но в том-то и заключен неподражаемый парадокс архитектуры, что именно она-то и формирует, «уплотняет», то есть буквально воплощает (но иногда и уплощает!) и конкретизирует, средовой символизм человеческой экзистенции и ее сверхбытийственные корни. Именно архитектура определяет свой образ и восприятия, и пользования, будучи, так сказать, набором перцептивно-поведенческих правил, одновременно и иконографией, и топографией человеческого бытия и его смысла…
Архитектура изображаемая и архитектура изображающая
Именно здесь необходимо воздать должное тому исследователю, кто впервые определил круг иконографических проблем архитектуры, обосновав саму возможность рассмотрения «архитектуры как предмета иконографии». Так и называется статья Густава Андре 1939 года, опубликованная в юбилейном сборнике в честь Рихарда Хаманна[39].
Со ссылкой на чествуемого учителя Андре прямо указывает на опасности, связанные с «замыканием на чисто формальных ценностях»[40], постулируя «поворот к содержанию», который возможен в рамках иконографии. Другое дело – каков предмет иконографии и что она сама собой представляет. Традиционно принято считать, что иконография – это «ответвление науки об искусстве, имеющее дело с содержанием и значением художественного изображения в противоположность рассмотрению его формальной и историко-стилистической стороны, что есть задача истории искусства»[41]. На первый взгляд архитектура (равно как и декоративно-прикладное искусство) под это определение не подходит, хотя в компетенцию той же живописи входит вполне, ведь существуют многочисленные изображения архитектуры, которые внутри живописного произведения обладают смыслом, вполне что-то воспроизводят и потому находятся в ведении иконографии. В некоторых случаях архитектура оказывается не просто атрибутом, фоном живописного изображения, а его прямым и даже единственным содержанием (случаи с ведутами или пейзажами с руинами). Такая «иконография архитектуры» замечательно исполняет традиционную функцию иконографии как вспомогательной, источниковедческой дисциплины[42].
Но это все изображения архитектуры, не сама архитектура. Как же быть с иконографией архитектуры как таковой, с постройками, а не с картинами? В архитектуре присутствует прямая, предметная изобразительность, но не всего сооружения, а отдельных частей (те же кариатиды, атланты, фигурные капители, египетские колонны), которые тем самым, как очень тонко замечает Андре, предстают как произведения пластики, а не зодчества.
Но архитектура способна – уже целиком – передавать и символический смысл, представлять «абстрактные знаки», будучи тем самым воспроизведением, а значит, предметом иконографии (пример – египетский храм как образ мироздания).
Помимо этого, как замечает наш автор, ссылаясь на Зауэра, самим «формам освященной постройки придается священный смысл»[43]. Такой смысл нередко можно «вычитать непосредственно». Но получается это не без помощи все той же пластики, выступающей в данном случае как средство комментирования архитектуры (например, девы разумные и юродивые свидетельствуют, что портал означает врата Царства Божия). Замечательный пример такого типа архитектурной изобразительности – архитектонический памятник, те же триумфальные колонны и арки, а также, например, немецкая «Валгалла», которая, впрочем, воспроизводит уже не сакральный смысл, а скорее «поэтическую идею»[44].
И наконец, самый замечательный случай – «архитектоническое воспроизведение архитектуры», то есть представление какой-либо постройки средствами постройки другой, основное назначение которой – быть или прямой копией, или свободным напоминанием. Тут возможны варианты: данная постройка может быть просто образцом-экземпляром (шведский крестьянский дом на выставке в Париже), иллюстрацией (копии африканских построек в вольерах животных в зоопарке) или служить целям демонстрации (все деревянные модели будущих построек или Ворота Иштар в Берлинском музее)[45].
Но еще интереснее – «формирование среды средствами изображающей архитектуры»[46], наилучший пример чему – всякого рода кулисы и декорации, в первую очередь театральные. Причем существенно то, что определяющим является именно средовой принцип, когда от места зависит смысл сооружения: греческий храм, сооруженный на театральной сцене, будет всего лишь «архитектурным изображением» храма, а не самим храмом, потому что, добавляет Андре, «у него нет никакой иной цели» (кроме как изображать храм). Существеннейший момент: изобразительная функция преобладает над всеми прочими. Можно сказать, что это самая сильная модальность архитектуры, причем полученная ею извне и лишающая ее собственного, можно даже сказать, онтологического статуса. Архитектура как имаго, симулякр, эйдолон, имитация, репродукция, двойник, внешне неотличимый от подлинника. Единственный критерий распознавания – «место действия», которым могут быть не только театральные подмостки, но и, например, парковые пространства со своими руинами, китайскими деревнями и т.п., где только знание, зачем все это строилось, позволяет понять, что это такое[47].
Здесь возникает желание спросить: а не является ли проблема цели тоже иконографической? Вопрос цели – вопрос направленности, буквально нацеленности, прежде всего, содержания постройки, построения, акта возведения здания, порождения некоторого предмета, находящегося в соответствующей среде, которая может быть, в том числе, и социальной. Только в этом смысле правомерен вопрос, задаваемый обычно изображению, а не зданию: что это такое? Цель и содержание, понятые как значимый состав сооружения, во взаимодействии друг с другом и составляют единый предмет иконографического изыскания[48].
И все-таки для Андре иконография – это именно изобразительное содержание; ведь мы различаем два вопроса: что данный предмет представляет и что данный предмет представляет собой? Некий предмет может представлять, репрезентировать другие предметы, быть их образом. Представлять собой, то есть с помощью себя, – значит быть условием проявления, существования чего-либо, что без этой вот конкретной предметности лишено наличного бытия. Как правило, таковыми сущностями являются сущности идеального, нематериального плана, в том числе и ментального: замысел, потребности, желания – все то, что определяется целеполаганием. Не позволяя себе подобные теоретические выкладки (они принадлежат нам), Андре, тем не менее, предлагает четко различать два плана содержания, в том числе и в архитектурном произведении: собственно изобразительно-иллюстративную часть и план функционально-средовой. Только в первом случае можно говорить об иконографии, второй случай – в ведении того, что по-немецки именуется Sachkunde, то есть знание самого предмета, способность разбираться в предмете, компетентность. Не случайно Андре анализирует архитектуру вкупе с декоративно-прикладным искусством: в этом смысле архитектура тоже прикладывается к определенной задаче, роли внутри столь же определенного контекста. Знание этого контекста еще не есть иконография, так как она имеет дело с изобразительным, скажем шире, художественным материалом. Вновь и вновь звучит мысль, что предмет может быть носителем изображения, сам таковым не являясь (резная кафедра что-то значит как предмет церковной мебели, но на ней могут быть помещены сцены Страстей, которые только и являются предметом иконографических штудий, но вовсе не сама кафедра)[49].
Форма не может не участвовать в содержании. Любая художественная форма – «выражение и значение», форма всегда что-то значит, в том числе и некую репрезентацию, изображение. И только последнее – область иконографии, которая вслед за «целевым значением» оставляет за пределами своей компетенции и «формальное значение»[50]. Иначе говоря, существуют три, по крайней мере, типа значения, согласно которым тот же Берлинский музей Шинкеля будет значить и «музейное здание» (цель, функциональное значение), и «античный храм» (изобразительное содержание, репрезентирующая символика), и «стремление к возвышающему образцу» (формальная выразительность). И все равно это будет только часть общего содержания данного здания, ведь необходимо учитывать и материальную культуру, и биографический материал[51].
Необычайно лаконичная и крайне содержательная заметка Андре достойна самого пристального внимания. В ней присутствуют практически все аспекты интересующей нас темы и практически все имена. И главнейшая заслуга Андре заключается в выяснении фактически единственного прямого предмета иконографии. Таковым в любом случае может быть только изображение.
Второй существенный момент – различение архитектуры изображаемой (более легкий вариант для исследования) и архитектуры изображающей (источник основных проблем). Задача и границы иконографии архитектуры – описание механизмов изобразительности, но никак не содержания подобных изображений, что есть цель Sachkunde, то есть соответствующей дисциплины, специализирующейся на данном конкретном предмете и предполагающей компетентность в соответствующей области, знание самого предмета. Иначе говоря, смысл следует искать не в изображаемом предмете, а в изображении предмета. Другими словами, архитектура как изобразительное средство освобождается от бремени «смыслоношения».
Такой подход имеет и методологический аспект, и сугубо эстетический, теоретический. В первом случае мы должны решить для себя: можем ли мы уклоняться от анализа смысла, если он не содержится непосредственно в предмете анализа? Хотя что значит «непосредственно»? Достаточно ли просто перенести добытое понимание самого предмета на его изображение? Каков тогда смысл самого акта изображения? Только ли замена отсутствующего объекта?
Но предмет просто существующий и предмет репрезентируемый являются разными феноменами. Точнее говоря, только в последнем случае он и будет феноменом и, значит, источником смысла. И если изображающая архитектура представляет некоторый предмет, то она наделяется не только его смыслом, но и просто существованием, обеспечивая среду проявления, являясь средством, способом его (предмета) бытия как предмета интенционального.
Образ представления (само изображение) превращается и в образ существования (существительное оказывается наречием). Способ репрезентации, таким образом, описывает, репрезентирует и того, кто стоит за этой репрезентацией и за этим предметом. Заслуга Густава Андре, на наш взгляд, состоит в том, что он накануне восхождения иконологического солнца (статья написана в 1938 году) в общем виде обозначил пределы иконографического подхода. Как выяснилось, эти пределы имеют архитектурные и одновременно феноменологические очертания. Кроме того, стали возможными преемственность и переход от иконографии к иконологии (переходность заключена в самом предмете исследования: важно выяснить направление и цель перехода, и его механизм).
Наконец, наблюдения немецкого ученого ценны и в том смысле, что позволяют говорить не столько о закате иконографического метода, сколько об «иконографических сумерках», так как остаются такие области историко-художественного знания, где предметная компетентность, несомненно, превышает возможности сугубо изобразительной выразительности. То, о чем сообщает сам предмет – порой независимо от своего изображения, – выходит далеко за пределы собственно искусства. И вероятно, именно архитектура может быть санкцией на подобное преодоление, превышение изобразительности.
Мы так основательно остановились на заметке Густава Андре только по той простой причине, что сама традиция рефлексии на тему иконографии архитектуры почти полностью отсутствует. Если не считать довольно беглого экскурса Бандманна в его знаменитой книге, остро полемической историографии Зедльмайра в его «Возникновении собора», идеологически небезупречного эссе современного исследователя Пауля Кроссли о Панофском, Бандманне и Зедльмайре, то не остается ни одного мало-мальски значимого изыскания на тему иконографии и архитектуры. Единственное исключение – компендиум Генриха Лютцелера «Восприятие искусства и наука об искусстве» (1975), во втором томе которого, в части, посвященной анализу изобразительного мотива, присутствует довольно обширная глава, посвященная смысловому анализу архитектуры (см. Перспективу II).
Именно Лютцелеру мы обязаны уяснением того момента, что семантика касается не только изобразительного мотива, но и не изобразительного – орнаментального, беспредметного и – самое главное – архитектурного, где именно геометрические схемы-паттерны отвечают за семантику. Для Лютцелера подобная внепредметная образность по силам лишь иконологии, так что для этого автора просто не может быть иконографии архитектуры (лишь иконология – это «разомкнутые уста архитектуры»[52]). Мысль, впервые сформулированная Бандманном. Нам предстоит опровергнуть или уточнить данное мнение, весьма распространенное.
Так и складывается общая проблематика нашего исследования, призванного прежде всего дать детализированный обзор всех тех подходов, которые можно объединить под общей рубрикой «иконография», имея в виду уже вышеобозначенные признаки этого метода: 1) допущение объектного, то есть внешнего, подхода к памятнику; 2) предположение, что памятник сам в себе содержит смысл, пусть и привнесенный в него, но им, памятником, репрезентируемый; 3) раскрытие этого смысла означает его дешифровку, связанную с поиском источников.
Кроме того, иконография обладает еще одним аспектом своей первичности по отношению к иным методам. Предметный смысл памятника связан с узнаванием самого предмета, его идентификацией, с чего, собственно говоря, начинается всякое знакомство с предметом. Поэтому иконография – это археология искусства, но на семантическом уровне, археология не форм, не облика, а содержания и смысла. Можно сказать, что иконография – это то же знаточество, предполагающее, однако, знание самой жизни, а не художественного предмета. Это знаточество на стороне не художника, а заказчика, а потому – и на стороне зрителя-пользователя.
В связи с чем для нас, в свою очередь, источниками будут соответствующие тексты историков искусства, которых мы будем отделять от теоретиков архитектуры, ставя перед собой задачу опять-таки описать и прокомментировать основные работы, выяснив их и теоретическую подоплеку, и соответствие внутренней логике научного повествования. Так что можно сказать, что наше исследование тоже имеет отчасти иконографический характер, только образами у нас будут не образы идей и смысла, а образы действий, совершаемых над памятником…
Архитектура и иконография: аспекты взаимодействия
Итак, важны следующие оговорки. В первую очередь, важно выделять то, что можно назвать архитектурной иконографией. Это иконографические построения средствами самой архитектуры. Архитектурная иконография предполагает смысловой анализ архитектурного образа: что значат, какой смысл имеют те или иные архитектурные формы, какой смысл им приписывается и какими средствами.
Другой исток именно архитектурной иконографии – это назначение архитектуры как постройки. Поэтому допустимо говорить о собственно архитектурной иконографии (архитектура как эстетически-художественный феномен) и о строительной иконографии (сюда можно добавить и смысл конструкционный). Хотя такого рода различения могут вызвать и возражения, они не бесспорны и основаны на возможности отделять форму от ее назначения. Подобную операцию можно допустить только аналитически.
Но в любом случае можно и нужно различать значение и назначение, причем значение не обязательно вытекает из назначения, так как существует и значение архитектурных форм с точки зрения того, что и как они обозначают. И значимость архитектурных форм связана, в том числе, с возможностью их изобразительности, архитектурного образа как отображения и даже изображения, почти что мимесиса. Мы уже говорили, насколько проблематична эта тема, но она есть, и, быть может, существует и сама изобразительность.
Но не меньшие, если не большие, проблемы задает назначение, так как оно предполагает обращение к тому, что (и кто) окружает архитектуру, иначе говоря – выход за пределы собственно архитектуры. Или подобная функция и есть специфика архитектуры, заставляющая ее фактически отрицать себя на смысловом уровне?
Но существует такой аспект, угол зрения, способ рассмотрения и просто предмет анализа, как иконография архитектуры, когда архитектура оказывается темой, предметом изображения. Хотя это и не есть иконография средствами архитектуры, но такого рода ситуация проясняет смысл изобразительного мотива, в данном случае архитектуры. Это проблема репродукционности, воспроизводимости архитектуры, где смысл предстоит в двояком роде: смысл самого акта воспроизведения и смысл полученного «дубликата». Понятно, что техника воспроизведения может быть любой: и двухмерной, и трехмерной. Даже сама архитектура способна воспроизводить себя в виде всякого рода копий, реплик и т. д.
И наконец, архитектура и иконография как наиболее общий и универсальный случай взаимодействия архитектуры – и регулярной и регулируемой, систематической и канонической изобразительности. Это проблема не только перехода от стереометрии к планиметрии, но и архитектуры как среды, как контекста, как фона, как пространственного фактора и архитектонического условия функционирования двухмерного (например, живописного) изображения. А также это и проблема вообще взаимодействия разных видов изобразительности и правил их именно построения. Можно предположить, что это проблема архитектурных структур и типов и их присутствия в иных видах изображения. Можно сказать и иначе: существуют определенные измерения архитектурного образа и их приложение, применение в других видах образности и изобразительности.
И уже совсем концептуальным фоном стоит проблема иконичности, иконографичности и, фактически, изографичности самой науки об искусстве применительно к архитектуре, то есть ее (науки) способности воспроизводить, репродуцировать значение, делая подобное еще и типологически.
Ведь типология, а значит, и иконография определяют и методы истории искусства. Поэтому разобраться, какой метод и когда применяется тем или иным историком искусства, узнать и опознать его – вот задача подлинной описательности, истинного историко-художественного дискурса. Самое принципиальное, на наш взгляд, – убедиться, что всякая подлинная методология – это репродукция соответствующей теории, когда собственно искусство оказывается или материалом, или, в лучшем случае, инструментом воспроизведения.
Кроме того, и внутри себя эти методы могут выстраивать подобия иконографических отношений. Один метод можно назвать прообразом всех прочих. Иногда кажется, что это археология, особенно в ее экклезиологически ориентированных вариантах. Но это может быть и богословская симвология или какая-нибудь социо-Литургика, если возможно такое предположить.
В любом случае существуют и методы-изводы. Быть может, сама иконография как метод – это производное от вышеназванных методов. Допустимо предположить, что переход от собственно архитектуры к ее изображению как раз и составляет чисто иконографические отношения и между материалом, и между соответствующими подходами.
Или «протографами» всякой методологии следует признать нечто качественно иное, например теоретическую концепцию, порождающую методы, подобно тому, как Нерукотворный Образ делает легитимными иконные образы? Хотя иконичность на уровне уже иконографического дискурса – это совсем отдельная проблема.
Поэтому мы выбрали в качестве предмета нашего методологически иконографического изыскания всего лишь одну тему – именно иконографический метод, попытавшись рассмотреть его при этом с достаточной степенью детализации, помня, что любое описание предполагает предварительное прочтение. Что мы и делаем, начиная с наиболее емкого, но и наиболее отдаленного и отстраненного взгляда на сакральную архитектуру (симвология) и заканчивая максимальным приближением и просто вхождением и почти что растворением в ней (социально-семиологическая, литургически-ритуальная иконография-топология). Между этими пределами, собственно, и располагаются иконография архитектуры, а также ее лингвистические изводы, и даже христианская археология, утратившая, как может показаться, свои первенствующие позиции, во всяком случае, не способная обозначить свою специфику перед лицом архитектурной семантики, лишенной на первый взгляд предметно-вещественных параметров.
Поэтому кажется неизбежным, что общая структура предлагаемого изыскания может напомнить и нечто скорее концентрическое, чем линейное. Сердцевиной будет в этом случае собственно иконография архитектуры, а обрамлением, внешними пределами ее будут служить две тенденции – симвология и археология. Их можно сравнить с корнями и кроной некоего растения, именуемого классической традицией смыслового анализа архитектуры, и тогда иконография будет располагаться в промежутке между ними, представляя собой род ствола, у которого могут быть и всяческие ответвления. Несомненно одно: это, так сказать, естественное состояние метода, его свободное развитие из той почвы, что именуется собственно архитектурной историей, теорией и практикой. Между Небом (симвология) и Землей (археология) и располагается сама иконография, обеспечивая и опосредуя соединение, казалось бы, несоединимого.
Но это не значит, что само древо, его ствол и ветви не могут быть материалом для возведения уже специальных и искусственных «сооружений», именуемых иконологией, феноменологией и проч. Всякое древо способно останавливаться в своем росте. В какой-то момент это происходит и с классической методологией, и тогда-то она становится материалом для последующих методов. Где замедляется рост, что тормозит движение, где исчерпываются возможности описания и возникает потребность в объяснении, толковании и перетолковании, то есть в пересмотре и переосмыслении? Приходящие на смену подходы не вытесняют «иконографию архитектуры», не упраздняют ее, а пользуются ею, причем не без права и, хочется надеяться, не без благодарности, хотя бы потому, что именно классические подходы обеспечили первоначальное накопление содержательного материала – как аллегорически-богословского (симвология), так и фактологически-исторического (археология). Достаточно подробное воспроизведение всего накопленного, а заодно и помещенного в архитектуру смысла – отдельная задача нашего изыскания.
Но одновременно мы вынуждены учитывать и эмпирическое положение дел, когда простое хронологическое появление тех или иных текстов, принадлежащих разным подходам, задает порядок нашего изложения.
Еще одно измерение нашего повествования – уже не историческое, а персональное, так как за каждым текстом и каждым подходом есть и его автор, и его сторонник. Взаимоотношение идеи и ее носителя может быть прекрасно и описано, и проиллюстрировано внимательным анализом того, как идеей пользуются и какими руководствуются при этом мотивациями. А ведь идеи не только принимают, но и отвергают, и за каждой принятой концепцией стоят концепции отвергнутые, которые, тем не менее, быть может, все-таки остаются в тени здания теории как нечто просто пока еще не понятое или не востребованное. Ведь архитектура – достаточное емкое явление и способное найти в себе место и для чего-то, что не устроило науку об искусстве…
Для полной наглядности нашего повествования его структуру можно представить и с помощью сугубо архитектурных аналогий. Вообразим себе арочную конструкцию: это классическая смысловая методология в целом. Ее опорами-колоннами будут, соответственно, семиология Йозефа Зауэра и археология Фридриха-Вильгельма Дайхманна. Полукружия самой арки будут формироваться благодаря усилиям, так сказать, поэтико-иероглифической иконографии Эмиля Маля и лингвистической иконографии Андре Грабара. А замковый камень утвердится тогда посредством текстов Рихарда Краутхаймера, в известной степени исчерпавшего иконографическую методологию применительно к архитектуре. А что же тогда Синдинг-Ларсен? Он будет помещен в сам арочный проем, демонстрируя возможные выходы всей этой методологической конструкции за собственные пределы. Но – это следует подчеркнуть особо – даже обозначая своим местоположением саму суть иконографического метода, его незавершенность и открытость в сторону архитектурного пространства, социально-идеологическая и литургически-ритуальная иконография норвежского историка искусства остается под сводами иконографической арки, осененная все тем же неизменным субъектно-объектным подходом, который мы, не без условности, назвали классическим, подразумевая тот неоспоримый факт, что своим существованием он обязан методологическим обычаям еще позапрошлого (XIX) века.
Почему он жив до сих пор и почему даже в начале XXI века некоторым он кажется чересчур специфическим и требующим своего обоснования, почему история искусства даже поныне готова удовлетворяться даже не арочной, а стоечно-балочной конструкцией, где опоры – факты, а балки – их переложение в терминах истории стилей, – вот что будет самым скрытым и потому самым заманчивым вопросом нашего исследования. Ответы – если они есть – ждут нас в конце, который, впрочем, должен в результате выглядеть как скорее порог, проем, за которым расположено нечто иное и не менее будоражащее.
Так что можно продолжить строительные метафоры, сказав, что мы не намерены пока убирать и леса с нашей планируемой постройки после ее завершения, так как крайне существенно хотя бы упомянуть всякого рода примыкающие тенденции, имена, альтернативы. Последним хорошо было бы выделить отдельное место, так как это альтернативы самой иконографии как таковой. Другими словами, возможно представить себе контуры более обширного проекта, где упомянутая иконография – лишь основание сооружения, включающего такие «этажи», как иконология и герменевтика все той же архитектуры.
Отдельная оговорка – выбор материала исследования. Этим материалом будут тексты классиков классической методологии, наиболее показательно явленной в зарубежной науке об искусстве. Вклад в интересующую нас тему отечественных церковных археологов[53] – Покровского, Голубцова, а также современных отечественных историков искусства[54] – трудно переоценить, но, к сожалению, мы вынуждены ограничиваться, так сказать, одной стороной общего дела, не забывая ни на минуту несомненную неполноту общего впечатления, которая только отчасти может быть восполнена одним из Приложений, где мы постарались, так сказать, вдогонку нанести легкий контур отечественного вклада в интересующую нас проблему…
СИМВОЛИКА ДОМА БОЖИЯ
и
АРХИТЕКТУРА ЦЕРКОВНОГО ЗДАНИЯ
Потому-то иконографическое исследование видит в трудах великих богословов уже не прямой источник художественных представлений, но одну лишь концентрацию того идейного мира, который только посредством проповеди и Литургии, легенд, гимнов и театра становился частью повседневной жизни духа.
Ханс Титце
Архитектурный символизм: истина из вторых рук
…Итак, мы допускаем, что архитектура в лице архитектурной постройки способна соотноситься с некоторым набором истин, вызывать в сознании те или иные смысловые ассоциации или просто стимулировать мыслительные процессы. Эти реакции и процессы способны обретать устойчивость и становиться традицией.
То есть, с одной стороны, мы имеем готовое здание, являющееся объектом, предметом рассматривания и рассмотрения, а с другой – столь же законченные смысловые структуры. То и другое можно связать воедино, и архитектура станет осмысленной, обретет смысл. Она будет, фактически, наделена им. Это довольно простой метод, но не совсем просты условия его реализации.
Вся проблема состоит в том, каков источник смысла, истин, каково содержание мыслей, пробужденных архитектурой. Самая простая ситуация – когда известен этот источник, он сам по себе устойчив, постоянен и, по возможности, максимально неисчерпаем. Таковым требованиям отвечает один лишь источник смысла – Откровение, теофания, которую можно, при известных обстоятельствах, зафиксировать. И это будет уже Писание, предназначенное для прочтения, для извлечения заложенного, точнее говоря, вложенного в него смысла, чье богатство и неисчерпаемость предполагают поэтому не просто чтение-ознакомление, а постижение-истолкование. В результате его могут появляться некоторые смысловые константы, обретающие статус образцов именно уразумения священного смысла. И не только понимания, и не только самого Писания, но и переноса и на смежные области знания. Писание становится образцом не просто уяснения самого себя, но и знания как такового, универсального и неисчерпаемого, и при этом – не буквального, а требующего усилий и постепенности по ходу своего выстраивания.
Мы напоминаем об этих известных религиоведческих истинах[55] с целью подчеркнуть тот момент, что архитектура получает, обретает смысл, так сказать, не из первых рук. Прежде нее истину усваивают прямые читатели Писания, богословы и вообще те, кто готов совершить именно герменевтическое усилие. Архитектура не сразу, не первой и не напрямую обретает доступ к уже извлеченному и уже обработанному священному смыслу. Но есть способ преодоления косвенности этого пути познания и в то же время косности инструмента этого познания, то есть человеческого разума. Этот способ – выстроить идеальную, во всяком случае, устойчивую модель сакрального архитектурного сооружения и иметь дело только с этой моделью[56].
Тем более что практически всякая письменная теофаническая традиция знает образы идеальной архитектуры. Равным образом, как и всякая религия, более или менее развитая. Ее развитость состоит в наличии культа, устойчивых форм богопочитания, а идеальность архитектуры заключается, соответственно, в ее приспособленности к культу, в ее ритуально-инструментальных характеристиках и прямой и обязательной связи с соответствующими местами Писания, в котором, как правило, заключены и образы этой идеальной, то есть храмовой, архитектуры, и условия ее сакральной легитимности.
Именно эти образы, образцы, узаконивающие модели, нас и интересуют в данный момент, потому что мы попытаемся в этой главе описать первичный, то есть наиболее универсальный, пример обращения с архитектурным содержанием. Этот подход именуется символогическим и предполагает, как мы только что показали, прямую зависимость от священного текста и прямой путь соотнесения, точнее говоря, наделения смыслом конкретной архитектуры, которая теряет свою конкретность и становится образцом, вариантом, экземпляром идеального храмового сооружения, так сказать, вторичного, наглядного и более доступного, по сравнению с самим Писанием, вместилища смысла. Эта доступность, между прочим, подразумевает не только законность, но и законченность, то есть опять же устойчивость и образцов смысла, и образцов его толкования. Другими словами, архитектура не только связывается со структурами смысла и со структурами экзегезы, но и воплощает, конкретизирует, экземплифицирует, тематизирует, а лучше всего сказать, символизирует именно результаты герменевтических усилий, закрепленных, в свою очередь, в письменных текстах.
Поэтому первичный способ уразумения архитектурного смысла будет и самым фундаментальным, так как именно на этом основании всеобщих сакральных истин выстраивается и буквально, и переносно, все здание архитектурной семантики. Мы должны разобраться, как же возможно анализировать этот первичный символизм, а для этого необходимо знать, где его искать и в каких формах он присутствует в архитектурной теории – о практике, как следует из сказанного, речи пока идти не может[57]. Причем, говоря о первичном символизме, мы имеем в виду его первичность и в смысле элементарности. Это, как мы покажем, именно самый простой символизм, и его простота связана с его независимостью от человеческого сознания, которое получает его в качестве данности. Это антропологически автономный символизм, и этим он отличается от символизма, скажем, эпистемологического, о котором необходимо говорить в связи с иконологическими подходами к архитектуре.
Символизм и церковное здание
Но первичность, элементарность не означает примитивности. Простота здесь – искомая величина, в чем мы – не без труда – попробуем убедиться на примере известнейшего и авторитетнейшего до сих пор текста, задуманного и написанного, однако, еще в начале прошедшего столетия. Без преувеличения можно сказать, что как «Основные понятия…» Генриха Вельфлина (1915) остаются до сих пор, в известной степени, основой формально-стилистического анализа, точно так же и книга Йозефа Зауэра «Символика церковного здания в восприятии Средних веков на примере Гонория Отенского, Сикарда и Дуранда» (1902)[58] остается до настоящего времени набором самых актуальных парадигм архитектурно-религиозной семантики[59].
Другое дело, повторяем, что символизм в любых своих проявлениях призван служить основой и предварительным условием всех прочих семантических построений. В этом смысле сакрально окрашенный символ в пределах семантических измерений художественного произведения представляет собой несомненный эквивалент стилистически окрашенной формы внутри экспрессивно-художественных параметров того же произведения. Эта самая эквивалентность усиливается, между прочим, и схожей степенью неопределенности, многозначности как понятия символа, так и понятия формы. Добавим, что речь идет всего лишь об измерениях единого произведения, структурная целостность которого предполагает и сквозной, так сказать, изоморфизм его размерности.
Тем не менее что же нам предлагает Йозеф Зауэр, этот на самом деле выдающийся представитель немецкой церковной археологии?[60]
Начнем с краткой биографии нашего ученого. Родился он в 1872 году в Унцхурсте (Баден). Изучал богословие и философию, а также классическую филологию в университете Фрайбурга. Учителем его был знаменитый церковный историк и археолог Франц Ксавьер Краус, с которым Зауэра в дальнейшем связывала тесная дружба[61]. В 1898 году принял священнический сан и некоторое время служил викарием в Засбахе, после чего около двух лет изучал археологию в Риме и защитил докторскую диссертацию в 1900 году по символике средневекового церковного зодчества. Совершил научные поездки по Франции, Италии, некоторое время жил в Риме. Академическая карьера началась в 1902 году с должности приват-доцента университета Фрайбурга. В 1905 году он уже экстраординарный профессор церковной истории, но в 1911 году переходит на кафедру церковной археологии, основанную Краусом, где и становится его преемником в должности ординариуса в 1916 году, оставаясь на ней вплоть до ухода на пенсию в 1940 году (лекции же продолжал читать до самой смерти). Два раза избирался на должность декана богословского факультета и столько же раз был и ректором Фрайбургского университета[62]. Одновременно с 1909 года занимает должность хранителя церковных памятников земли Баден с титулом папского придворного прелата. Член многочисленных краеведческих объединений и комиссий по охране памятников. Помимо известнейшего тома «Символика церковного здания…» (1902, второе расширенное издание, 1924) Зауэр прославился завершающим томом (1908) задуманной Краусом «Истории христианского искусства» (очерки об искусстве Ренессанса). Известна книга Зауэра о военных потерях в области искусства в Первую мировую войну[63]. Общее число публикаций Зауэра превышает 1000 наименований, среди которых огромное количество рецензий, заметок, иконографических очерков, а также статей (более 300) в различных католических энциклопедиях и справочниках[64]. В том числе, цикл очерков о раннехристианском[65], романском зодчестве[66], о церковной архитектуре XIX века[67].
Первоначальные занятия средневековым искусством Верхнего Рейна[68] сменяются в конце 20-х годов, после поездки по Ближнему Востоку, устойчивым интересом к восточно-христианскому искусству[69]. Зауэр известен был своими либеральными взглядами и поддержкой (в многочисленных газетных и журнальных публикациях, по большей части анонимных) т.н. «модернистского движения» внутри Католической церкви[70]. Умер Зауэр в 1947 году во Фрайбурге[71].
Сразу заметим, что интересующая нас книга являет собой крайне характерный и, вероятно, итоговый пример той самой традиции церковной символогии, которая была и оставалась практически непрерывной и неизменной вплоть до написания книги самим Зауэром. Имена тех средневековых схоластов (о них – чуть позднее), которых упоминает на страницах своей книги Зауэр, вполне можно дополнить его собственным именем. Можно сказать, что в этом и состоит специфика как раз церковной археологии как части церковной истории – в отсутствии пауз и лакун как когнитивного, так и концептуального порядка. Но тем не менее, именно его книга – завершение подобной традиции в одном очень важном аспекте, и выяснение причин этого как раз и будет одной из целей нашего анализа.
Но сначала – о структуре книги и об общих свойствах данного текста. В Предисловии автор обозначает свое намерение как «желание предложить всеобъемлющее и систематическое изложение духовного взгляда на церковное здание и его убранство». Зауэр видит в этом «более глубоком восприятии и изъяснении» плод «аллегорической экзегезы» отцов Древней Церкви, перенесенной на почву англогерманской культуры Бедой и каролингскими богословами, освобожденной от задач прямого изложения текста Писания и превращенной в составную часть литургической литературы и в качестве таковой достигшей своего совершенства у писателей XII-XIII веков. Именно в это время само церковное здание превратилось в «ясное и отчетливое зеркало, отражающее величественное и всеохватное мировое Царство Церкви»[72].
Для Зауэра крайне принципиально то, что вся эта символическая и, казалась бы, архитектурно-строительная традиция на самом деле имеет чисто литературное происхождение и только приспособлена к созерцанию церковного здания. Поэтому предмет изыскания Зауэра – «литературная церковная символика» и ее взаимоотношения с искусством. Отдельное понятие или идея подобной церковной символики представляет собой «воистину всеобщее достояние» средневекового человечества, «лучше сказать, средневековой литературы», и задача книги – показать, как подобная символика репрезентирует основные идеи этой системы представлений. Отдельный «символический мотив» мог вдохновлять отдельного автора, но в большинстве случаев «мы приблизимся к истине», если допустим, что и художники творили, отталкиваясь от того же самого представления, что выражал в своих текстах тот или иной автор[73].
Итак, сразу делаем важные наблюдения: для Зауэра есть «мир представлений», выражающий себя в виде идей и понятий, находящих свое выражение в текстах в форме «символических мотивов» и стимулирующих и вдохновение, и воображение, и мышление тех, кто создает новые произведения. Это одинаково справедливо как для литератора-богослова, так и для художника-архитектора. Вот уже одна причина, зачем необходимо изучать именно символические тексты: это ключ к пониманию художественной деятельности во всех ее формах.
Но у средневековой архитектурной символики есть еще одно свойство, достойное ученого внимания. «Символические понятия» приведены в систему и соединены в величественный организм, которым, говорит Зауэр, мы можем только восхищаться, настолько он приспособлен к тому, чтобы расти и развиваться в разных направлениях, так, чтобы в результате служить уже совсем иным целям, притом что подобные понятия были предметом изысканий уже отцов Древней Церкви. То есть эти символогические трансформации имеют и историческое, временне протяжение. Символы обладают своей «генеалогией», по выражению Зауэра.
Сразу заметим, что речь идет именно о «символогических понятиях», о результатах усилий ученых-символистов, то есть это не просто вербальные или визуальные символы как таковые, а их рационально-текстуальные производные, которые фактически обладают собственной историей – с момента зарождения до полного и исчерпывающего развертывания в каком-либо позднем тексте[74]. Тем более интересна конечная задача, которую ставит Зауэр в своей книге: это как раз демонстрация того несомненного для него факта, что «концентрация и практическое применение церковной символики» – это «образное убранство» Дома Божия. Причем интересно, что для Зауэра местом подобной «концентрации» является портал готического собора. Именно здесь можно найти «квинтэссенцию того, что все здание и целиком, и каждой из своих деталей могло сообщить средневековому человеку». Причем речь идет вовсе не о том, чтобы искать «теологического инспиратора» (богослова – автора программы) и рассматривать образы как иллюстрации соответствующих богословских или литургических истин. Поэтому Зауэр подчеркивает, вполне логично, что для его книги не нужно обилие иллюстраций, так как он отнюдь не преследует цель «рабского перевода символических понятий в художественные типы»[75]. Сразу вспоминается, что первое (да и второе![76]) издание «Иконологии» Чезаре Рипы тоже обходилось без иллюстраций[77]. Но симвология – это не иконология даже в барочном смысле этого слова, не говоря уже о смысле варбурговском или кассиреровском. Зауэр вслед за всеми своими предшественниками выстраивает совсем иное смысловое и концептуальное здание. Попробуем в него заглянуть, тоже осмотрев его прежде снаружи, с точки зрения его содержания-оглавления, которое, впрочем, отражает и план книги. В этом-то, между прочим, заключается разница между текстуальным и архитектурным сооружением: у последнего план скрыт как раз за внешним обликом. Если не брать Введения (хотя оно, как мы убедимся, крайне содержательно), то план книги – это две части: первая – собственно «Символика церковного здания и его убранства, согласно средневековой литературе» (название, почти дословно повторяющее, между прочим, название книги целиком), вторая – «Взаимоотношение церковной символики и изобразительного искусства».
План-содержание, как видим, довольно прост, но в этой простоте – все та же смысловая «концентрация»: выстроенное литературное и символическое здание соотносится со зданием материальным, причем в его одном-единственном – визуально-изобразительном – аспекте[78]. Фактически, мы имеем весьма специфическую и парадоксальную ситуацию: архитектура оказывается декорацией символических построений, которые вполне могут обойтись без нее, как книга ученого археолога-богослова – без иллюстраций…
Но не будем торопиться с итоговыми наблюдениями и начнем с Введения, без которого обойтись невозможно, ибо это – если не отдельное концептуальное сооружение, не особая методологическая пристройка к основному зданию, то, во всяком случае, настоящий теоретический «портал», действительно вводящий нас с достаточной торжественностью внутрь всей проблематики.
Символический типологизм, или Средневековье внутри нас
На самом деле замысел книги совсем не прост, что видно с первых строк Введения, напоминающих о том, что углубление в Средневековье означает столкновение с чем-то совершенно иным, непостижимым. Мы утратили способность думать и чувствовать по-средневековому, и достижения Средних веков – неразрешимые и чуждые загадки. Единственный выход – обнаружение тех «конститутивных элементов» уже нашей культуры, принадлежащей Новому времени, которые мы наследуем как раз от этого далекого времени. И выясняется, что только в одном оно оказывается совершенно не чуждым нам. Это широкое использование символики не только в религиозной, но и в общественной сфере. Оценивая так или иначе Средние века, мы исключаем из оценки как раз область символов, ибо они фактически вне времени и указывают на нечто такое, что равным образом принадлежит всякому историческому периоду, хотя лучше сказать, что всякий период и вся история целиком принадлежат этой сфере вечного. Более того, на символике особым образом выстраивается именно христианство, и в первую очередь – Литургия…
Но как определяется у Зауэра символ? Это есть «не что иное, как образ, предназначенный для воспроизведения мысли или факта, которые не следуют непосредственно из понятия этого образа»[79]. Если, говорит Зауэр, содержание религии принадлежит сверхприродному мироустройству, и если человеку не дано самостоятельно, одними своими силами проникнуть в ту самую сферу, то ее тайны приближаются к нему лишь в естественно воспринимаемых обличьях. Видимые вещи становятся образами и сравнениями вещей невидимых. То, что предстоит нашему взору, призвано напоминать нам о таком, что не принадлежит настоящему и чего нет в наличии. Именно христианство с невиданной до сей поры определенностью переносит все цели человека по ту сторону гроба,в область вечности, утверждая все его дела и достижения лишь как подготовку для жизни в мире, не доступном чувственному взору и в равной степени свободном от времени и пространства. Фактически само христианство предстает своего рода «апробацией» всей подобной, так сказать, трансцендирующей символики: если мир иной приближается к нам благодаря подобным «внешним знакам внутреннего сверхъестественного действия», то, значит, символ исполняет свою роль. Другими словами, такого рода символика не есть чисто литературный и чисто концептуальный род деятельности, это прежде всего средство воспоминания, но в той мере, насколько сам Христос есть путь к будущей жизни, настолько эти «знаки воспоминания» усваивают и характер знаков-образцов, и санкция на их употребление выписывается церковным учением и церковной практикой.
Так что у символики есть более глубокое основание, чем символизм литературный и тем более изобразительный. Момент воспоминания отсылает нас к Литургии – «главной и самой прочной ветви символической деятельности и символического учения». Если изобразительный символизм с точки зрения, например, раннего христианства есть не что иное, как средство сокрытия тайны от непосвященных[80], то есть своего рода «фигура умолчания», то символизм литургический оказывается не просто более емким, но рассчитанным «на все времена». На этом величественном языке, озвученном, как выражается Зауэр, Самим Основателем христианства, передается само христианское учение, весь круг мыслей, идей и представлений о наиболее фундаментальных, универсальных и вневременных вещах. Это и собственно евангельское событие, связанное с Искупительной Жертвой (благодаря литургическому символизму мы можем переживать эту «кровавую драму» во всех деталях). Это и символизм собственно Голгофы – «важнейшей вехи в духовно-сверхприродной жизни человечества», связанной с «падением и воздвижением отдельной души в ее борьбе за собственное обожение». То есть мы имеем в Литургии, по выражению Зауэра, «трехчастный символизм»: это и Сам Христос, «срединная точка и цель всех времен», и Царство Божие на Земле, и задачи отдельной личности в пределах этого Царства[81].
Иначе говоря, обозначенная в начале книги проблема непознаваемости ушедшей исторической эпохи разрешается именно средствами сакрального и, подчеркиваем, обрядового символизма, который оказывается основанием всех прочих разновидностей символической деятельности. Фактически, символизм – это не только богослужебный способ распространения церковного учения, но и средство, инструмент хранения, передачи и воспроизведения в акте понимания того или иного содержания. И потому это не только догматически-богословская и ветхо– и новозаветная тематика, но и содержание мыслей, чувств и переживаний всех пользователей этого символизма независимо от исторического времени.
Но самое замечательное, что за этим стоит вполне определенное отношение к архитектуре, точнее говоря, этим подразумевается очень определенная и неустранимая функция архитектуры, ибо Литургия совершается в определенном месте, и сакральные места, подобно сакральному времени, пронизаны, пропитаны, как говорит Зауэр, символическими идеями, ведь они сами обозначают участие в Таинстве и, значит, приобщение к его символизму.
При этом следует помнить, что это не есть символизм самой постройки, обозначающей Дом Божий. Доказательство тому – раннехристианская практика использования частных или светских пространств для совершения Евхаристии, которая только и наделяет данное место и сакральностью вообще, и сакральным символизмом в частности. Другое дело, что существуют вполне определенные требования к пространству со стороны самого богослужения. И удовлетворение этих требований происходило через поиск отношений и «таинственных связующих нитей» между целями Дома Божия и его устройством и убранством. Только когда эти связи установлены (Geltung), можно говорить о влиянии на облик сооружения (Gestaltung), на устроение (Einrichtung) и украшение Дома Божия. То есть приспособление к потребностям предполагает прояснение и возвышение посредством символического толкования[82].
И с этим процессом мы сталкиваемся уже в самых ранних памятниках христианской словесности, например в т.н. «Завещании… Иисуса Христа» (II век), где говорится, в частности, что церковь должна быть снабжена тремя входами по образу Св. Троицы. Александрийская школа экзегетики в лице Климента и Оригена обеспечила символическим материалом всю последующую традицию толкования вплоть до зрелого Средневековья[83]. Церковное здание, согласно этой явно неоплатонической традиции, есть образ и образец того здания, что созиждется Самим Христом на твердом основании, на камне веры и т. д. Любая церковь есть поэтому и образ Небесного Иерусалима.
Принципиальный момент этой «археологической экзегетики», как выражается Зауэр, – потребность осмысления и истолкования и ветхозаветного, то есть типологического, прообразовательного материала в виде всевозможных упоминаний разнообразных «культовых мест». Смысл подобного углубления в Ветхий Завет очевиден уже у Беды: это желание найти историческую и первичную, то есть именно Божественную, санкцию церковного здания, что «гарантирует глубинное его понимание». И хотя в этих ранних текстах отсутствует «планомерная символизация» церковного здания, тем не менее в них присутствует в полном объеме вся символическая типология, позволяющая рассматривать христианское церковное здание как реализацию, осуществление ветхозаветных типов, которые суть, соответственно, Райский сад, Ноев ковчег, Скиния Завета, Храм Соломона. Одновременно церковное здание – предвосхищение Civitas sancta, Небесного Града, который созерцал Иоанн Богослов в своем Откровении. Церковное здание – это образ «духовной церкви», того незримого ковчега, на котором «по волнам временной жизни сонм верующих, искупленных крестным древом Спасителя, устремлен к тому духовному Храму, что составлен из камней живых…»[84].
Еще одна принципиальная черта этой экзегетики – смешение «материального и духовного», то есть совмещение, казалось бы, несовместимых вещей, чье единство, тем не менее, обеспечивает усилия знаменитого «четырехчастного толкования», восходящего к еще дохристианским временам. Но только в IX веке усилиями Рабана Мавра эта традиция переживает свой расцвет, причем именно в литургических текстах. Именно этот ранний представитель схоластики впервые в экзегезе начинает учитывать непосредственно особенности тех вещей, которые подвергаются символизации, создавая практически законченный репертуар аллегорически-типологических толкований, в котором отсутствует только одно – толкование конкретных литургических предметов. Этим занято уже последующее поколение литургистов в лице Амалария из Метца и Валафрида Страбона, чья деятельность непосредственно связана, по мнению Зауэра[85], с потребностями проповеди Евангелия у северных народов, нуждавшихся в осмыслении уже сложившейся к тому времени христианской богослужебной практики. Зауэр особенно выделяет из многочисленного сонма писателей X-XI веков именно Амалария, подчеркивая его влияние на литературу даже позднего Средневековья, благодаря, в первую очередь, его энциклопедизму, выразившемуся, в том числе, и в использовании тогдашней «естественнонаучной» литературы в лице символических бестиариев, лапидариев и гербариев.
Но с XII века начинается принципиально новый период в истории экзегетики, «расцвет искусства толкования», связанный со стремлением к систематическому изложению материала, с желанием учитывать мельчайшие нюансы как предметного, так и смыслового порядка и, конечно же, с отказом от исключительно типологического, ретроспективного подхода. Теперь предметом созерцания и истолкования становятся назначение и свойства самих вещей в их соотнесении с «идейно-литургическим содержанием», что выразилось в складывании символики, «уже не так тесно связанной с аллегорической экзегезой»[86]. Цель прежней экзегезы – средствами «мистически-тропологической интерпретации» создать внутри храма, понятого как Дом Божий, «образ освященного бытия», предназначенного для отдельного человека. С XII века к этому «символическому проекту» добавляется желание не только описывать и воссоздавать круг символических идей, но и находить новое, истолковывая заново храм как целое, руководствуясь некой ведущей идеей. И поэтому образ Церкви, имеющей свое начало в Раю, а завершение – в вечности, оказывается отныне необходимым обрамлением для всевозможных связей, часто глубокомысленных и удивительных, нередко наивных и произвольных, для которых «места культа» – это воплощение подобной «всеобщей композиции христианства»[87]. Святая Месса и годовые евангельские чтения – это всегда один и тот же образ одних и тех же идей, но рассмотренных с разных сторон[88]. И такого рода рассмотрение осуществляет один единый «систематизирующий дух Высокого Средневековья, универсальное мышление которого несравнимо ни с каким иным временем человеческой истории». И этот же самый дух воздвиг подобное умное здание из краеугольных камней прошлых эпох, обогащающих духовные масштабы отдельного индивидуума»[89]. Это здание церковного знания и веры сооружается и в светской, и в богословской литературе, в литургических текстах, комментирующих Мессу, а также в проповедях и богослужебных гимнах. И все это для того, чтобы, явив Дом Божий в камне и красках, сделать его доступным взору верующего христианина. При этом «от индивидуального дарования тех или иных авторов зависит, предложат ли они этот образ окрашенным в мистические цвета, присущие действию всецелого домостроительства спасения, или дадут его в более или менее аллегорически-символическом ключе». Это и есть два основных потока средневековой символики, причем мистика более свойственна ее поздней фазе. Но среди великих представителей этой литургически-символической экзегезы[90] Зауэр выделяет троих – Гонория Отенского, Сикарда и Дуранда, на текстах которых он и намерен строить здание собственного сочинения[91].
В связи с этим следующая – самая обширная – глава Введения посвящена историко-филологической характеристике (а заодно и биографиям) названных богословов и их текстов, что еще раз подчеркивает специфически текстологический пафос труда нашего ученого иезуита. Будучи всего лишь историками искусства, выделим из этой главы только те моменты, что касаются концептуально-методологических вещей[92].
Символическая текстология в лицах
Первым в эту ряду стоит уже упоминавшийся Гонорий, годы жизни и трудов которого Зауэр относит к первой половине XII века, называя его «истинным сыном своего времени, компилятором наипервейшего ранга», помещая его рядом с чуть более поздним Винсентом из Бовэ и замечая, что не найдется области знания, которую бы он, по его собственным словам, «не осветил ради собратьев своих, от нужды книжной страждущих»[93]. Из литургически-гомилетических сочинений Гонория выделяются крайне популярная «Gemma animae», ее сокращенная версия «Sacramentarium» и, конечно же, знаменитое «Speculum ecclesiae», «Зерцало церковное», ставшее, между прочим, одним из источников вдохновения, как мы постараемся показать, и для текстов Эмиля Маля[94].
«Зерцало» представляет собой не что иное, как сборник воскресных и праздничных проповедей, предназначенных для некнижных и просто малоспособных клириков, вынужденных, тем не менее, проповедовать. Причем подаются проповеди в сопровождении всевозможных дополнительных и полезных для слушателей сведений на самые животрепещущие темы (что делать, например, с нежданными гостями или яростно рыдающим ребенком). И все это облечено в жанр рифмованной прозы для лучшего запоминания…
Проблема Гонория заключается в несоответствии явной вторичности и компилятивности его трудов – крайней степени их популярности и влиятельности. Причем самое существенное, что это влияние сказывается, в том числе, и в области изобразительного искусства, на что первым указал еще Антон Шпрингер[95], несколько переоценив значение Гонория для распознавания смысла средневековых «загадок в камне и красках». Тот же Маль, по мнению Зауэра, пошел еще дальше, представив тексты Гонория как ключ, отмыкающий смысл большинства средневековых (готических) сооружений. Но тот же Шпрингер инстинктивно поставил труды Гонория на подобающее им место, заметив, что они отражают уровень среднеобразованных читателей и почитателей Гонория, а соответственно, и их «круг представлений», будораживших, в свою очередь, тогдашнее «народное чувство» и воплощавшихся в художественных образах того времени.
Для Зауэра же важен сам факт влияния Гонория на символику церковного здания. Это свидетельствует, по мнению Зауэра, о том, что перед нами не гений-одиночка, утративший связь с духом времени, и не знакомый с той атмосферой, в которой только и могли существовать всеобщие символы литературы и искусства, а человек, сохранивший под ногами почву своей эпохи и своего народа и со всем возможным «монашеским тщанием» создавший именно популярный, общедоступный труд. Хотя главные его достоинства заключены в другом: Гонорий расширил пространство типологической аллегории, но не в сторону, например, противопоставления ветхо– и новозаветной истории; он рассмотрел Священную историю целиком, и в непрерывном развитии Церкви Христовой, самый истинный образ, подлинное и жизненное содержание которой – Божия Матерь (мысль, знакомая еще раннехристианской гимнографии и вскоре ставшая общепринятой, но впервые столь четко сформулированная именно Гонорием).
И наконец, самое существенное, что тексты Гонория были предназначены для практического употребления, что означает возможное влияние их и на практику строительную[96].
Сикард, епископ Кремоны, известный церковный и политический деятель (умер в 1215 г.) – следующий важнейший источник храмовой символики. Его жизнь весьма богата событиями: в частности, он совершил несколько поездок на Восток (был в Сирии, Киликийской Армении, может быть, в Палестине и, конечно же, в Константинополе, только что занятом крестоносцами; здесь Сикард налаживал совместное литургическое общение и даже служил в Св. Софии, участвуя в рукоположении священников). Зауэр характеризует его как «мужа, одаренного широким кругозором». Ему принадлежит авторство «Mitrale seu de ofcies ecclesiastices summa» – своеобразного литургического руководства для духовных лиц, с акцентом не на изложении церковных обычаев, а на углубленной интерпретации их духовного содержания. То же самое мы можем сказать, между прочим, и о самом Зауэре, но с одним уточнением: его интересует интерпретация не самой богослужебной, а именно экзегетической практики, не Литургии, но Литургики.
Именно Сикард впервые вводит ставшее вскоре привычным подразделение литургического материала на четыре темы: 1) священные места; 2) священные лица; 3) священные вещи (res sacrae); 4) священные времена (в двух аспектах: канонические молитвенные чтения часов и церковный календарь с соответствующими праздниками)[97]. Другими словами, перед нами совершенно точная смысловая структура храма как такового, где священное пространство соединяется со священным временем посредством богослужебных актов. В сравнении с Гонорием у Сикарда куда больше всякого рода этимологических и исторических экскурсов, есть отсылки к практике восточного христианства, но нет вовсе какого-либо упоминания роли образа и темы Богоматери в экклезиологической символике. Наконец, самая характерная черта – сильнейшие моралистические интонации не столько литургиста, сколько проповедника.
Но величайший из литургистов, оцененный, правда, именно в таком качестве посмертно (при жизни он славился как канонист), – это, несомненно, Дуранд, чей «Rationale…» представляет собой «самый законченный синтез всего того, что Средние века о Литургии знали и чувствовали»[98]. Его богатая на события жизнь была наполнена и напряженным литературным творчеством, главный плод которого – авторитетное до начала XX века «Speculum iudiciale», которому Дуранд обязан титулом Speculator’а. Могила Дуранда (ум. 1296), между прочим, находится в римской церкви Санта Мария сопра Минерва[99].
Главный же литургический текст Дуранда – это «Rationale seu euchiridion divinorum ofciorum», законченный в 1286 году. О популярности «Рационала» говорит тот факт, что это первая после Псалтири книга, напечатанная Гутенбергом после изобретения книгопечатания (всего она выдержала более 60 изданий вплоть до XVIII века). Если говорить о главной цели труда Дуранда, то следует, в первую очередь, иметь в виду желание приблизиться в своих аллегорически-символических комментариях Литургии к той самой Церкви, которая и есть Царство Божие на земле, Мистическое Тело, образованное отдельными верующими. Ни один предмет не должен быть забыт, каждый должен быть поставлен в связь со Христом, Главой Церкви, чье материальное воплощение – церковное здание, Дом Божий. Если тема труда Сикарда – Церковь и Христос, то про Дуранда можно сказать, что это Церковь как Тело Христово. Это сердцевина и мыслей автора «Рационала», и всей тогдашней символики, и всего средневекового мировоззрения, замечает Зауэр. Христос открывается только в единстве с Церковью как продолжении и осуществлении Его спасительных трудов.
И если мы усматриваем в труде Дуранда «всецелый мир средневековой культуры», то естественно, что этот труд не мог быть результатом его индивидуального усилия. Дуранд сам себя сравнивает с пчелой, собиравшей мед как с многочисленных трудов иных авторов, так и с того, что милость Божия явила именно ему. Следует обратить внимание, что за подобным «творческим методом» скрывается не только определенный менталитет (Зауэр в другой связи называет его «литературным коммунизмом»), но и универсальный принцип канонического мышления, связанного отношениями образца и подражания. На том же самом принципе построена и вся средневековая изобразительная иконография, концептуально-литературный эквивалент которой – тексты, подобные «Рационалу», где действуют не только символичность, но и своеобразная иконографичность, более того – иконичность, но на несколько ином – высшем уровне, где все имеет характер сакральной и мистической реальности, требующей своего рационально-символического усвоения посредством создания своеобразной вербально-текстуальной ткани, сплетенной как из нитей непосредственного литургического опыта, так и из опыта знакомства с текстами иных личностей.
То же самое мы наблюдаем и в случае самого Зауэра: не случайно после тщательного изложения жизни и творчества авторов, представляющих, так сказать, первоисточники, следует не менее подробная историография: это уже, так сказать, извод исходных иконографических символических схем и, фактически, уровень научной иконографичности. А символика научных текстов – это уже, вероятно, наша забота.
Но в любом случае остается не совсем ясна судьба собственно архитектуры, ради которой все и затевалось…
Тем не менее на непродолжительное время остановимся на историографической части, ведь именно в ней, как и полагается, Зауэр со всей определенностью формулирует свои собственные цели и задачи, которые, как мы убедимся, и спустя сто лет не кажутся слишком устаревшими.
Фактически, «литература о средневековой символике церковного здания» начинается с того момента, как заканчивается сама традиция этой самой символики, то есть с XIV века, когда приходит конец средневековому символическому мышлению. Зауэр прямо подчеркивает, что условие существования символики – «конвенциональное мышление», основанное на традиции. Стремление к самостоятельному мышлению и чувствованию приводит к тому, что «скоро старые конвенциональные формы перестали замечать и понимать»[100]. И если XV-XVI века – время символического бесплодия, то XVII-XVIII века – время холодного равнодушия и непонимания[101]. Лишь XIX век обнаруживает интерес к средневековому мышлению, и возникают первые опыты описания, систематизации и осмысления символической традиции[102].
С Эмиля Маля начинается новая страница в историографической традиции: он впервые попытался расширить и развить теорию Виолле-ле-Дюка о «мирском искусстве» Средних веков, соединив ее с тогдашним литургическим богословием[103]. В Германии научно-систематизирующая традиция церковной археологии достигает своего апогея в трудах Фердинанда Пипера с его «Введением в монументальное богословие» (1867). После этого, по мнению Зауэра, наступает время Антона Шпрингера, обозначившего новое направление исследований.
Интересно проследить, как Зауэр описывает эти перемены. Прежде довольствовались просто поиском комментариев в вещах литературных на вещи изобразительные. Кайе ввел практику сбора всех возможных (и невозможных) литературных и культурных свидетельств на данное произведение безотносительно ко времени, стадии развития и происхождению этих литературных, мифологических и прочих источников. Именно подобное желание перелопачивать «всю северную мифологию ради романских гротесков» вызвало негативную реакцию Шпрингера, в своих известных «Иконографических исследованиях» (1860) обратившего внимание на то обстоятельство, что существует «живая взаимосвязь между искусством и культурными воззрениями того или иного времени». Шпрингер предложил самым непосредственным образом отделять то, что в произведении искусства прошлого принадлежит более раннему времени и служит в данный момент чисто декоративным целям, от того, что непосредственно репрезентирует конкретное представление. То, чего не было в сознании народа, не могло быть и в искусстве. Развитие тех или иных представлений имеет следствием перемены в художественных типах. Подобные явные гегельянские положения шпрингеровской теории нашли себе практическое воплощение, по мысли Зауэра, во всех последующих иконографических исследованиях (и прежде всего – добавим от себя – в книге самого Зауэра). И та же Литургия в сознании народа присутствует не в виде ученой схоластической символики, а в форме проповедей и гимнов. Эта замечательная идея о том, что строительное искусство Средних веков, тот же феномен собора, требует иных комментирующих источников, более ориентированных на простое и непосредственное восприятие, более учитывающих особенности народного или, лучше сказать, низового сознания, – этой мысли суждено было большое научное будущее, начало которому положил тот же Эмиль Маль.
Тем не менее этим не отрицается важность и литургически-экзегетической традиции, которая, фактически, превращается не в буквальный смысл той или иной постройки, как это казалось прежде, а в смысл дополнительный, переносный и буквально аллегорический. Литургия же как обряд, молитва и гимнография, соборное пространство как место прежде всего проповеди – подобные уровни значения оказываются непосредственными и, что важно для архитектуры, функционально значимыми, то есть заложенными в постройку при ее возведении. Именно эти смысловые слои являются, так сказать, «интендированными», являясь прямым значением сооружения – значением как назначением. И вся эта будущая концептуальная проблематика, как выясняется, присутствует в скрытом, свернутом виде у Шпрингера, а значит, и у его последователя – Йозефа Зауэра. Хотя последний называет и других продолжателей дела Шпрингера. В их числе, например, П. Вебер, в своей работе «Духовный театр и церковное искусство в их взаимоотношении…» (1894) еще до Маля указавший на роль «духовной драматургии» в процессе складывания скульптурного убранства готических порталов. Но особое место Зауэр отводит своему учителю – Ф. Кс. Краусу, обратившему внимание на возможность сведения всей разветвленнейшей средневековой символики к простейшим первичным и базовым формулам. Это прямой путь, прямо ведущий к иконографии архитектуры, понятой как семантика архитектурной типологии (см. об этом ниже). Но главное достижение Крауса состоит в том, что он в качестве всеобъемлющего источника смысла не только средневековой архитектурной, но и вообще образно-символической – как вербальной, так и визуальной – традиции предложил рассматривать именно Литургию, вообще богослужение, имеющее не только пространственно-храмовое, но и историко-временне измерение, в частности, в форме годового богослужебного круга, последовательность событий которого как раз и вдохновляла ученых литургистов и экзегетов-символистов в своих комментариях углублять ее смысл. И церковное здание – это «действенное выражение» подобного глубинного литургического смысла.
И из всего сказанного вытекает собственная задача Зауэра: «исчерпывающее и систематическое исследование символических элементов Дома Божия в их происхождении, последовательном развитии, в их применении в искусстве и в их соотношении со средневековой культурой в целом»[104].
Эта задача требует выполнения ряда существенных пунктов, то есть известной исследовательской программы, которой мы вкратце коснемся, ибо это есть и методологическая программа, причем довольно универсального применения. Первый пункт этой программы гласит, что в текстах тех или иных ученых литургистов слышится глас «духа времени», в них фиксируется сумма идей, отсылающих к тому или иному столетию. Другими словами, исторический взгляд на рассматриваемые вещи необходим в такого рода исследованиях символики, имеющей как внеисторческие, так и сугубо исторические измерения. Второй момент касается того, что было бы заблуждением воображать, будто Дуранд и иже с ним писали свои тексты в качестве справочника для художников. Это вовсе не есть, так сказать, «символико-тектонические» подлинники, подобные подлинникам иконописным. Эти тексты подобны произведениям искусства в том смысле, что те и другие в равной степени суть «эхо представлений своего времени». Более того: можно даже допустить, что сами литургисты были под впечатлением от художественных произведений, хотя и последние несут в себе «следы влияния символических интерпретаций», как выражается Зауэр. Осторожность его достойна уважения и подражания, ибо он решительно оставляет без ответа «принципиальный вопрос об отношении символического искусства к символическим идеям (то ли символическое мышление решало и определяло процесс создания художественного образа, или творение художника само стимулировало проявление неосознанных идей [unbeabsichtige Gedanke])»[105].
Тем не менее остается несомненным следующее положение: церковное здание представляет собой «место действия мистических литургических процессов, наполненных идеями и символами, и тем самым оно само оказывается носителем еще более высоких идей, связанных с этими процессами»[106]. Принимая это положение, мы обнаружим и в более раннее время «множество, закрепленных за церковным зданием символических представлений, чьи законы учитывались при возведении новой постройки»[107]. А с другой стороны, нетрудно встретить такие толкования, которые возникали по следам уже готового здания, приписывались ему, так сказать, по факту и лишь, например, в позднее Средневековье закреплялись за церковной постройкой в качестве ее значения. Другими словами, сами по себе следы той или иной экзегезы ничего не говорят, важно выяснить их статус и происхождение.
Наконец, последний пункт программы касается того, что сама по себе экзегеза, символическая интерпретация – это проявление того или иного «состояния культуры». Это довольно тонкий момент, если понимать и принимать его непосредственно: именно процессы истолкования, способы обращения со значением выявляют процессы и состояния культуры, а не собственно памятники, которые сами по себе молчаливы и потому лишены смысла. Только экзегет-комментатор – неважно, литургист или историк искусства, – только он заставляет памятник говорить – напоминать о себе и о том или ином смысле.
Экзегетическая типология и символическое описание
И вот после всех подобных уточнений только и начинается изложение собственно архитектурной символики, как она представлена в текстах заявленных авторов. И снова, прежде чем перейти к самой символике, по мнению Зауэра, следует «обсудить целый ряд общих позиций», которые суть в известном смысле слова те самые принципы, на которых «покоится все здание духовного созерцания церкви»[108]. Эта фраза представляет собой саму суть того метода, который, скажем сразу, весьма достойно представляет Зауэр. Речь действительно идет о созерцании, о медитативном опыте, построенном на внимательном, вдумчивом, углубленном и творчески-продуктивном переживании некоторых вещей, наполненных смыслом и значением. И не просто наполненных, но и переполненных, изливающих его вовне. Собственно говоря, речь идет о прочтении некоторого текста, об усвоении некоторой текстуальности, некоторого дискурса, значимость которого сродни значимости самой жизненной ситуации, в которой пребывает читатель-«перечитыватель». Это чисто герменевтическая ситуация, заставляющая Зауэра предварять собственно символику достаточно детализированным разговором о Св. Писании и его истолковании, ведь «начатки символики заложены в текстах Ветхого и Нового Заветов»[109].
Апостол Павел первым подал пример типологического и аллегорического использования Писания. Церковь и хранила, и развивала этот подход, и использование Литургией соответствующих библейских мест происходит «не в буквальном, историческом, но в переносном смысле». Сакральный топос налагается на риторический (проповеднический!) троп – так можно описать в кратком виде всю ситуацию средневекового символизма. Чуть развивая этот момент, можно сказать, что смысл Писания буквально переносится, накладывается на смысл Литургии, и вслед за этим подобный метафорический импульс передается и пространству церковного здания, собора, понятого как сумма священных мест, обращенных в сторону верующего – внимающего и воспринимающего посетителя храма.
Переносный смысл в данном случае означает противоположность прямому, который для Писания есть смысл исторический, предполагающий тот порядок событий, порядок повествования, череду частей («мест»), которые имеются в самом Писании, в его первоначальном составе и контексте. Но само ли Писание является первичным источником для всевозможных символических, художественных и литературных мотивов? Или есть что-то иное, например традиция, выраженная в Литургии? О первичном значении Писания можно говорить до тех пор, пока богослужебное чтение Писания оставалось столь же прямым и последовательным. Но когда возникает практика выборочных и перегруппированных чтений (например воскресных), то тогда мы безоговорочно должны признавать в качестве источника именно эту литургическую традицию. Только «литургическое использование» Писания объясняет склонность группировать, соотносить священные события и факты, далеко отстоящие друг от друга, и, наоборот, разделять и противопоставлять родственное и близкое. Таково происхождение символическо-ассоциативного метода, который не может быть иным, ибо таково свойство источника: он сам символичен и иносказателен. Комментарий Литургии не может не быть метафорическим.
В целом же Зауэр подобное литургическое обращение с Писанием называет методом преобразования внутреннего содержания текста. Происхождение подобного метода ведет далеко в античность, но тем не менее, христианство знает несколько, как оворит Зауэр, «главных разновидностей понимания и передачи смысла Св. Писания». Этих разновидностей традиционно насчитывается четыре – исторический, аллегорический, тропологический и анагогический смыслы[110]. Интересно, как Зауэр – в данном случае вслед за Дурандом – характеризует эти, в общем-то, известные способы толкования. Исторический смысл предполагает понимание вещей и событий согласно буквальному значению сообщения. Аллегория добавляет к речи иной смысл, отличный от «обычного, естественного значения слова». Тропология обозначает морализирующий способ говорения, истолкование с точки зрения морали тех самых слов, которые в естественном смысле означают нечто иное. Близкий к аллегории анагогический смысл предполагает поиск в тексте метафизических отношений или к сверхземному, или к Церкви. Примечательно, что Сикард видит как раз в аллегории способ выявления «тайн Церкви», а анагогический путь ведет исключительно к потусторонним вещам. Но в целом эти четыре способа толкования – общее достояние средневековой экзегезы, берущей свое начало в недрах эллинистической науки и продолженной и Оригеном, и Иеронимом, и Бл. Августином, а в поэтической форме зафиксированной Данте. Но уже Августин, а затем и Фома с Бонавентурой указывали на тот момент, что одно лишь буквальное значение имеет доказательную силу, с него следует начинать процесс понимания и лишь оно одно – обязательно. Не все тексты с необходимостью «четырехзначны» и потому не все следует толковать по всем четырем направлениям.
Главное же следствие или, лучше сказать, практическое применение подобной экзегетической схемы – это типологический взгляд на отношение между Ветхим (образом) и Новым Заветом (реальностью). Это тот самый параллелизм, который нередко приводил к утрате уникальности именно евангельского провозвестия. Фактически, перед нами способ распределения всего текстового материала Писания по определенным категориям, отражающим, между прочим, те или иные представления об истории и при этом не учитывающим «первоначальный контекст и смысл» используемых мест, образов и мотивов.
Говоря же об общих законах, управляющих подобным подходом к Писанию, следует выделить принцип использования предельно внешних отношений и подобий ради установления внутренних, духовных и органических связей. Даже наблюдения над отдельными словами, взятыми из разного контекста, могут способствовать установлению подобных «отношений обмена» между отдельными содержаниями. И действительно, экзегеза зачастую представляет собой именно обмен смыслом через смену точек зрения: под разным углом проступает тот или иной слой значения, каждый из которых как бы полупрозрачен.
Но можно посмотреть шире и увидеть в этих методах определенные экзегетические стратегии и даже соотнести их с тем или иным временем (от раннего христианства и до XIII века – символическое направление, которое отчасти перекрывается типологическим, с XV века – его сменяющее историческое). Нечто подобное, но с иной теоретической подоплекой мы найдем у Гюнтера Бандманна, но уже Зауэр подвергает эту схему критике с точки зрения социального назначения той или иной формы экзегезы. Он обращает внимание на довольно механический и зачастую внешний характер той же типологической практики толкования, предназначенной для «доступного поучения, адресованного малообразованному человеку»[111]. Самое наглядное выражение этой тенденции – т. н. «народные книги» позднего Средневековья, полные самых неожиданных и чисто внешних аллегорий и параллелей. Это все та же проповедь, предполагающая не столько толкование, сколько адаптацию смысла, сознательно отделенного и «отдаленного» от первоисточника. Но совершенно особая тема – толкование Писания в контексте мистического опыта, где многое зависит от «душевного настроя» автора.
Итак, что же такое эта четырехчастная схема: структура самого текста или механизм толкования, понятого как способ преобразования смысла? Ответ на подобный вопрос предполагает допущение взаимовлияния текста и его читателя. И слои смысла стимулирует выбор одного из методов, и примененный метод, в свою очередь, тоже способен выявить доселе скрытый слой. Но остается пока еще без ответа вопрос, а не может ли метод и создавать уровень смысла? Быть может, существует собственно текст на уровне буквального значения, и к нему добавляются уровни, полученные посредством его преобразования под воздействием того или иного способа рассмотрения?
Но в любом случае мы имеем дело с типами значения, подобная типология есть тоже метод – самый распространенный и популярный в Средние века и предназначенный для выстраивания системы соответствий-параллелей, прежде всего между ветхозаветным и новозаветным материалом, а также между отдельными сюжетами, предметами, персонажами, идеями и т. д. Суть типологического параллелизма заключается именно в приеме типологизации, сведения материала к набору формальных типов, из которых выстраиваются те или иные конструкции-схемы, заполняемые, в свою очередь, конкретной семантикой. Это метод комбинаторики, оперирования и манипулирования смыслом, и совершенно показательно, что его самое типичнейшее проявление – числовая символика в широком смысле слова, система чисто количественных отношений, способных подчинить «наимельчайшие частности», присущие семантике любого происхождения. «Числовое равенство было поводом сопоставлять предметы и события, по природе гетерогенные, и выстраивать внутренние отношения на основании чисто внешнего подобия»[112]. Числу можно назначить любое значение, как носитель такового оно вполне нейтрально и потому удобно. По этой причине числовые отношения сравнимы с конструкцией в архитектуре. Да и вообще семантика, превращенная в арифметику, хорошо приспособлена к архитектурной практике…
Одновременно мы должны признать, что числа обладают порядком, последовательностью, которая является аналогией, подобием конструкции, структуры, иерархии. И в данном случае этот порядок задает и отношения повествовательные, дескриптивные и дискурсивные, что прекрасно видно на примере текста того же Зауэра, который не может не изложить всю последовательность числовой символики от единицы и до сорока (естественно, с пропусками). Подобный числовой ряд, можно сказать, обладает настоящей завораживающей силой, он подчиняет и того, кто его выстраивает, и того, кто следует за этим построением (и того, кто считает, и того, кто считывает), считая, что он добровольно следует за всеми этими числовыми рядами и – что не менее существенно, – числовыми ритмами. Эта ритмика числа обладает своей особой, в том числе и дидактической, суггестией, дополняющей чисто «духовные ценности» подобного символизма и позволяющей выстраивать на числовом основании и физический, и моральный миры, делая их непосредственно доступными и для духовно не подготовленного зрителя[113]. При этом, несомненно, понимание внутреннего содержания числа доступно не всякому, оно требует подготовки, и открывается в полной мере лишь в приложении к Дому Божию, как справедливо замечает Зауэр[114].
Ведь только в структуре церковного здания вся подобная символическая типология и нумерология обнаруживает свою функциональную наполненность, определяя и конструкцию, и пропорционирование, и ритмику форм и прочее. Но главное, с точки зрения уже архитектурной иконографии, мы обнаруживаем глубокие и экзегетически, можно сказать, неизбежные соответствия между архитектурными элементами и вышеописанной типологией. Стоит заметить, что Зауэр в отличие от иных авторов (того же Грабара) не склонен обольщаться относительно природы этих типов, всегда помня о том, что они искусственного и происхождения, и предназначения. Кстати говоря, мы в данный момент вовсе не обсуждаем происхождение самой типологии как таковой: ни психологические, ни эстетические, ни логические корни подобного феномена.
Нумерология и пространство
Однако числа обладают одним очень неудобным свойством: их символическое значение и ценность имеет вполне конвенционально-религиозный характер, и, когда пропадает вера в число как элемент Божественного миропорядка, тогда остается символика несколько иной природы, символика частей света, «более прочно увязанная в духовной и чувственной жизни человечества». Эта символика соответствует природному чувству человека, хотя с небесным сводом связаны не только представления о свете, тепле и новой жизни, но и представления о «более возвышенных сущностях» и о небе как источнике блага (или его противоположности). Другими словами, задолго до христианства «естественный человек» уже знал символическое толкование частей света. И применительно к христианству речь идет не о содержании представлений о востоке, западе, севере и юге (в этом христианство не сказало ничего нового), а о «практическом применении» этих символических знаний, например, в ориентации церковного сооружения.