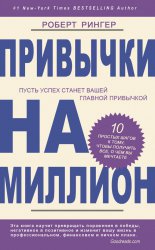Путешественник из ниоткуда Вербинина Валерия

– Осторожнее с лошадьми, любезнейший! – крикнул я кучеру, соскакивая на землю. – Так и ушибить седоков можно.
Аркадий угрюмо поглядел на меня и отвернулся. Он поудобнее перехватил вожжи, но тут дверца кареты распахнулась, и Изабель выпала наружу – я говорю, выпала, потому что ногой она задела за что-то внутри кареты и едва не полетела на землю. Я еле успел подхватить ее, и на мгновение она оказалась в моих объятиях. Кажется, мы оба смутились. Я разжал руки и отпустил ее. Аркадий, наблюдая эту сцену, только иронически хмыкнул.
– Je veux prendre un peu d’air[24], – сказала Изабель, поправляя волосы.
В сущности, я не имел права ей воспрепятствовать. Так вдвоем, бок о бок мы зашагали к церкви.
ГЛАВА IX
Я нашел отца Степана неподалеку от церкви. Внешность священника описать и легко, и сложно: обыкновенного вида человек, не высокий, но и не приземистый, не худой и, однако же, не дородный. Глаза у него серые, внимательные. Еще водится за ним привычка в задумчивости почесывать бороду, которая доходит ему почти до груди. Он как две капли воды похож на десятки других священников, которые мне встречались, и я думаю, и в самом деле мало чем от них отличается. Не мешкая, я изложил ему суть дела и спросил, видел ли он вчера Старикова.
– Да, он был вчера здесь, – подтвердил отец Степан. – И на кладбище, как он и говорил… – Священник нахмурился. – Должен вам признаться, господин Марсильяк, – после небольшой заминки продолжал он, – что обыкновенно посещения Ильи Ефимыча доставляют мало радости, потому что… ну, да вы сами все про него знаете. Но вчера он был совершенно трезв, чисто одет и… Словом, то, в чем его обвиняют, сильно меня удивляет.
– Обвиняю, собственно, не я, а Анна Львовна Веневитинова, – отозвался я. – Значит, по-вашему, он не мог убить собаку?
– Нет-нет, – поспешно ответил отец Степан. – Он был, знаете ли, в таком настроении… просветленном, что ли… много молился, плакал у могилы.
– Вы не помните, когда именно он ушел?
Отец Степан немного подумал.
– Точно не помню, но, наверное, около одиннадцати. Да, где-то так.
– Вы не видели, какой дорогой он возвращался?
– Короткой. Той, которая ведет через лес.
Пока мы беседовали, мадемуазель Плесси стояла в нескольких шагах от нас, с любопытством поглядывая на церковь, над которой кружили вороны, и на лицо отца Степана. Священник кашлянул.
– А что за особа с вами? – спросил он.
Я вкратце объяснил ему, в чем дело.
– Да, неисповедимы пути господни, – вздохнул он, узнав о неожиданно свалившемся на мадемуазель Плесси богатстве. Сам отец Степан не мог похвастаться особым достатком. – Могу ли я спросить у вас, что вы намерены предпринять теперь?
– Вы имеете в виду Старикова? Я хотел бы уговорить Веневитиновых отозвать свою жалобу. Лично мое мнение таково, что он ни в чем не виноват, но, я полагаю, убедить их будет довольно трудно.
– Что ж, бог в помощь, – отозвался священник.
Я попрощался с ним, и мы вместе с Изабель двинулись обратно к экипажу.
– Это он убить? – поинтересовалась мадемуазель Плесси.
Я едва не споткнулся на ровном месте.
– Простите?
– Вы говориль о какой-то убийство. Он?
– Что вас заставило думать, что…
– Я читаль роман, – победно объявила мадемуазель Плесси. – «Le mystre de la chambre rouge»[25]. И там преступник быль священник.
– Ах, вот вы о чем! – Я с облегчением рассмеялся. – Ну так то в романах. В жизни все гораздо прозаичнее.
– А кто есть убит? Я так и не поняль, – сказала она, робко заглядывая мне в глаза.
Я пожал плечами.
– Представьте себе, весь переполох из-за убийства собаки.
– Un chien? – поразилась мадемуазель Плесси. – Quelle horreur![26]
Я пропустил ее замечание мимо ушей.
– Мне надо встретиться еще с одним человеком. Вы подвезете меня? Если нет, я вполне могу пройтись пешком.
– О ньет, зачем же пешком? – возразила Изабель и как-то очень ловко взяла меня под руку. – Nous irons ensemble![27]
Я подумал… Нет, в тот момент я еще ничего не подумал, уверяю вас. Честно говоря, я уже порядком отвык от женского внимания, а мадемуазель Плесси была очень добра ко мне – только и всего.
Мы добрались до усадьбы, и первая, кого я встретил, была Ирина Васильевна, которая несла куда-то стопку скатертей. Я осведомился, дома ли Елена Андреевна, и добавил, что хотел бы с ней поговорить.
– Сейчас узнаю, – сказала Ирина Васильевна и удалилась.
Из дома, зевая во весь рот, вышел учитель верховой езды. Завидев меня, он приостановился, и в глазах его мелькнули веселые искорки.
– А! Господин Марсильяк! С чем сегодня к нам пожаловали? Никак отыскали очередной труп? – И он засмеялся, довольный своей шуткой.
Изабель вытаращила глаза.
– Qu’est-ce qu’il dit? C’est une plaisanterie, non?[28]
– Вовсе нет, мадемуазель, – отозвался проклятый Головинский и в красочных подробностях поведал всю эпопею об исчезнувшем трупе. Вряд ли Изабель поняла хотя бы половину, потому что она посмотрела на меня с явным сочувствием.
– Кстати, вы забыли представить меня вашей спутнице, Марсильяк, – заметил учитель. – Что, она тоже работает в полиции?
Мне захотелось его поддеть.
– Нет, – ответил я. – Мадемуазель Изабель Плесси – моя хорошая знакомая. Прежде она была гувернанткой, но сейчас оставила это занятие, потому что унаследовала от своей тетки десять тысяч франков ренты. Собственно, мадемуазель Плесси в нашем городе проездом, потому что вскоре возвращается к себе на родину.
– Однако… – пробормотал Головинский, на которого выдуманные мной десять тысяч ренты, похоже, произвели неизгладимое впечатление. – А вы хитрец, господин Марсилъяк! Никогда бы не подумал, честное слово!
Его развязность начала меня раздражать.
– Чего именно вы бы не подумали? – сердито спросил я, но тут вслед за экономкой из дома вышла Елена Веневитинова. Сегодня она была в голубом платье, и я отметил, что этот цвет ей очень к лицу.
– Что вам угодно, господин Марсильяк? – довольно холодно обронила она.
Ирина Васильевна удалилась. Головинский остался на террасе, с любопытством разглядывая мадемуазель Плесси, которая сорвала какой-то цветок и нюхала его.
Как мог, я объяснил Елене свою точку зрения, рассказал о Старикове, о том, почему убежден в его невиновности.
– Я не понимаю, какое отношение это имеет ко мне, – сказала Елена, с недоумением поводя плечом. – Чего вы, собственно, хотите от меня?
Досадуя на себя, я объяснил, что Стариков уже немолод и не выдержит судебного преследования. Тем более что обвинять его собираются вовсе не в убийстве собачонки, а в незаконном проникновении на чужую территорию. Неужели ей захочется, чтобы ее свадьба была омрачена несчастьем пожилого человека?
– Вам стоило бы поговорить по данному поводу с маменькой, – нерешительно проговорила Елена. – Боюсь, я не могу быть вам полезной. Я не слишком хорошо знаю бывшего хозяина имения, но того, что о нем слышала, вполне достаточно. Он бессердечный человек, который дурно обошелся с собственным сыном, и будет только справедливо, если он понесет заслуженное… заслуженное наказание.
Я понял, что жестоко ошибся в девушке. С какой легкостью люди вспоминают о справедливости – если во имя ее они могут не ударить пальцем о палец… Я оглянулся на мадемуазель Плесси, словно она могла мне помочь. Оказалось, что она держит в руке тот цветок, который только то нюхала, – обыкновенную ромашку, – и, говоря что-то вполголоса, обрывает его лепестки один за другим.
– Это жестоко, Елена Андреевна, – с горечью сказал я. – Очень жестоко.
Щеки девушки вспыхнули. Она вскинула голову.
– Думаю, вы не слишком-то вежливы, господин Марсильяк, – звенящим от негодования голосом проговорила она. – Прошу вас немедленно покинуть наш дом. Полагаю, вам здесь нечего больше делать. – И, холодно кивнув мне на прощание, удалилась.
Мадемуазель Плесси оборвала все лепестки ромашки, на мгновение зажмурилась и, пробормотав себе что-то под нос, коротко выдохнула. Я подошел к ней, она открыла глаза и улыбнулась мне. Учитель верховой езды с любопытством глядел на нас.
– Вы узналь то, что хотель? – деловито спросила Изабель.
– Боюсь, у меня ничего не получилось, – извиняющимся тоном промолвил я. – Совсем ничего.
– Тогда надо manger[29], – сообщила она.
– Что? – Я решил, что ослышался.
– Dejeuner[30], – пояснила она. – В пустой желудок не приходит никакой стоящий мысль.
И прежде чем я успел что-либо возразить на сие ошеломительное замечание, она подхватила меня под руку и увлекла за собой.
ГЛАВА X
Когда мы вернулись в город, мне стоило большого труда отговорить Изабель устроить кутеж в «Вене», грязноватой гостинице на главной площади, где с приезжих драли втридорога, а кормили на грош. По моей рекомендации мы отправились в «Уголок для проезжающих», который содержала вдова Шумихина и который, несмотря на свое провинциальное название, мог вполне сойти за приличное заведение. Мадемуазель Плесси посмотрела на меню, написанное по-русски, и, надув губы, передала его мне.
– Ах, я совсем не разбираться в ваш язык, – пожаловалась она. – Закажите мне сами, хорошо? И пусть Аркади тоже дадут что-нибудь.
Поскольку на обратном пути ворчливый Аркадий чуть не вывалил нас в канаву, я высказался в том духе, что ему не повредит, даже если он умрет с голоду. Ответ Изабель поразил меня.
– Может быть, – равнодушно заметила она, пожимая плечами. – Но если он умереть, кто же тогда меня возить?
Я подумал, что при всех своих причудах она довольно-таки практична, и заказал уху, икру, отбивные из телятины и кофе. Мадемуазель Плесси пожелала спаржи и устриц. Честно говоря, я слегка запнулся, переводя ее просьбу, но официант не заметил моей заминки. Спаржа нашлась еще быстрее, чем устрицы, и я понял, что до конца недели, а то и дольше, мне придется питаться одним хлебом, ведь не могло быть и речи о том, чтобы позволить моей спутнице платить за обед.
– Cet asperge ressemble а du caoutchouc, – пожаловалась она, ковыряя вилкой в тарелке. – Pourquoi les gens riches aiment le manger, je ne comprends pas[31].
Устрицы ей тоже не понравились.
– Ils ont un air malade[32], – сказала Изабель.
Я не знал, смеяться мне или сердиться на нее. Но тут принесли котлеты и уху, и мадемуазель Плесси с большим аппетитом принялась за них.
– Вы ничего не едите, – сказала она по-французски. – Почему?
Я ответил, что мне не хочется, и к тому же мне пора возвращаться на службу. Изабель округлила глаза.
– О! У вас много дел?
– По правде говоря, не слишком, – со вздохом признался я.
Мадемуазель Плесси поглядела на меня блестящим, влажным взглядом и прикончила вторую котлету.
– Вы чересчур много думать о работе, – заявила она безапелляционно. – Вам следует больше отдыхать.
– Не могу, – ответил я. – Пока я не разобрался в происходящем, покоя мне не будет.
– А! Вы имеете в виду убитую собаку?
Почему-то всем далась именно собака! Но я устал, и у меня не было даже охоты сердиться.
– Дело не в собаке, а в… в Петровском.
– В пьянице, которого вы приняли за мертвого?
– Он не был пьян, – упрямо сказал я. – Он был мертв. Я абсолютно уверен.
– Значит, он не мог никуда уйти?
– Никак не мог, – подтвердил я.
– Как интересно, – вздохнула мадемуазель Плесси. Она посмотрела на спаржу, и ее взор затуманился. – Совсем как в «Загадке каменного цветка». Там тоже человек исчезает, а потом выясняется, что во всем виноваты близнецы. И еще там главного злодея замуровывают в стену, то есть не замуровывают, конечно, а так случайно получилось…
Я сидел, слушал ее болтовню и думал… даже не знаю хорошенько, что именно. Мадемуазель Плесси увлеченно пересказывала какие-то книжки, которые я никогда не читал и никогда, наверное, не прочту, – книжки, полные мрачных подземелий, кровавых тайн и незаконнорожденных мстителей. Одним словом, несла несусветный вздор, и ничего из того, что она рассказывала, никогда не происходило в жизни, но… сам не знаю почему, я отдыхал душой, слушая ее щебет. Вот странно… Ведь мадемуазель Плесси была мне посторонним человеком, совершенно чужим, и до сегодняшнего дня я совсем не знал ее, но все же с ней было очень уютно, несмотря на ее легкомыслие и невероятные ужимки. Завтра, наверное, она уедет, вернется к себе во Францию, к столь неожиданно свалившемуся на нее богатству, и я больше ее не увижу.
– Ну вот, вы опять ничего не едите, – обиженно сказала мадемуазель Плесси.
Но я не успел ей ответить, потому что в тот момент увидел пробирающегося между столов урядника Онофриева. Его плутовская рожа расплылась в улыбке.
– Чего тебе? – неприязненно спросил я.
Он кашлянул, выразительно покосился на Изабель и доложил, отдавая честь:
– Григорий Никанорыч очень желают вас видеть. По собачьему делу-с.
– Вот оно что… Быстро же ты меня нашел, братец!
– А что тут особенного? – ухмыльнулся Онофриев, одним глазом косясь на невозмутимую француженку, которая как раз в то мгновение разделывалась с каучуковым салатом. – Вас Тришка, который пирожки продает, видел, когда вы в карете катили барыни этой. Тут ничего-с хитрого нет.
Я подозвал хозяйку, попросил принести счет и расплатился. В кошельке моем почти ничего не осталось, но я решил не обращать внимания на такие мелочи.
– Приношу свои извинения, мадемуазель, служба… Счастливо оставаться.
Она подала мне ручку, как настоящая принцесса, – узкую, гибкую, прохладную, – и я и сам не заметил, как поцеловал ее. Хозяйка Марья Петровна, глядя на нас, даже вздохнула с некоторой завистью. Или мне показалось?
– Au revoir, mademoiselle![33]
Онофриев осклабился, зачем-то отдал честь и затопал сапожищами к выходу вслед за мной.
Против ожидания, исправник принял меня довольно ласково.
– А, вот и вы, Аполлинарий Евграфович! Прошу вас, садитесь… Ну-с, что новенького слышно по нашему делу?
Я рассказал ему о беседе с отцом Степаном и повторил, что, по моему личному убеждению, Стариков не убивал собаку Веневитиновых.
– Гм, да, конечно… – промычал Ряжский. – Но ведь ваше мнение к делу не подошьешь, сами понимаете… Тем более что алиби у Старикова все-таки нет, что следует и из показаний отца Степана. – Затем исправник без перехода спросил: – Скажите, а что за певичка французская, которую с вами видели?
– Певичка? – поразился я. – Помилуйте, Григорий Никанорович… Она бывшая гувернантка. Оставила службу, потому что получила наследство.
– Большое? – прищурясь, осведомился исправник.
Я замялся.
– Порядочное, – признался я.
– Гм! – молвил Ряжский, подкрутивши ус. – А вы, значит, сударь, того, решили унаследовать ее вместе с ее наследством… Да-с! – И он рассмеялся, крайне довольный удачным каламбуром.
Я сидел в полном остолбенении. На миг у меня мелькнула даже мысль, что я, как Поприщев, ненароком сошел с ума и теперь, сам не зная того, оказался в сумасшедшем доме.
– Григорий Никанорович, о чем вы?!
– Ну, полноте, милостивый государь! Весь город видел, как вы ее обхаживали… у Шумихиной-то. Мне Онофриев уже обо всем доложил…
Я сидел раскрывши рот и, вероятно, представлял собой преглупое зрелище. Однако Григорий Никанорович все же решил сжалиться надо мной:
– Ну, полно, полно, голубчик… Вы не подумайте, что я там против или что такое. При случае познакомьте меня с мадемуазель… как ее зовут?
– Изабель Плесси, – машинально ответил я.
– Ну да, Изабель… Мадемуазель-стриказель… – Он значительно кашлянул. – А вы молодец, конечно. Нет, кроме шуток, молодец. Когда вам не мерещатся всякие непонятные покойники…
Мне мучительно захотелось провалиться сквозь землю, но, увы, в данный момент желание было совершенно неосуществимо. В дверь постучали.
– Войдите! – крикнул Ряжский.
Вошел секретарь Былинкин, молодой человек хлипкого телосложения, несколько напоминающий комарика, непонятно почему затянутого в узкий мундир. Чем занимается Былинкин в нашем управлении, не ведомо никому. Он всегда на месте, но, когда надо составить отчет или написать рапорт, почему-то непременно выясняется, что он куда-то отлучился. Некоторые девушки города N уверяют, что у Былинкина ангельский вид, и я охотно им верю. Если паче чаяния вы все же застигли его на месте и просите помочь, у Былинкина делается такое несчастное лицо, что вы сразу же начинаете жалеть о том, что посмели обременить столь хрупкое существо презренной земной работой. Глаза у Былинкина печальные, несколько навыкате, жидкие светлые волосы обильно смазаны фиксатуаром и зачесаны назад, открывая высокий лоб. С начальством он неизменно почтителен и никогда ему не перечит, за что, собственно, его и ценят. Кроме того, Былинкин обладает особым умением разговаривать с торговцами. С ними, особенно с женщинами, он ласков и предупредителен настолько, что ему всегда продают самые лучшие товары, да еще и набавляют весу сверху. Самые злобные бабы на рынке, завидев его, расплываются почему-то в улыбке и наперебой зазывают покупать у себя, хотя всем им отлично известно, что Былинкин не слишком богат, не может похвастаться чином. Даже злые цепные собаки питают к секретарю необъяснимую симпатию, позволяя безнаказанно себя гладить, тогда как любого другого за подобную вольность неминуемо разорвали бы на части. В чем тут дело – не знаю, и почему этот человек, мягкий, кроткий, услужливый и при том невероятно изворотливый, когда доходит дело до работы, так пленяет сердца, тоже не могу объяснить. Иногда у меня складывается впечатление, что он смог бы с комфортом устроиться даже в кратере огнедышащего вулкана или на острове, где принято отдавать почести всем заезжающим туда путешественникам, поедая их.
Сейчас на его челе, впрочем, витала озабоченность, и вообще он выглядел как человек, который трудится целыми днями не покладая рук.
– В чем дело, Никита Егорыч? – спросил исправник, нахмурясь.
– Телеграмма, – доложил Былинкин, волнуясь. – Из столицы. Срочно.
Ряжский взял распечатанную телеграмму, бросил на нее взгляд и как-то малость закоченел. Прочитал от начала до конца и на сей раз закоченел окончательно.
– Только что доставлена, – зачем-то добавил Былинкин, часто-часто моргая глазами.
Молчание сгустилось в комнате, молчание расползлось по углам, как вязкое невидимое облако, и задушило всех нас. Григорий Никанорович крякнул и для чего-то протер пальцами углы рта, затем еще раз перечитал телеграмму.
– Вы прочитали это, Никита Егорыч? – спросил он тяжелым, как надгробная плита, голосом.
Никита Егорыч отшатнулся, и ужас нечеловеческий изобразился на лице его.
– Я, Григорий Никанорович? Но ведь как же… я же все телеграммы… Я и понятия не имел, что она секретная, пока не увидел…
– Ну так держите язык за зубами до поры до времени! – сердито сказал исправник и обернулся ко мне: – Прочтите, Аполлинарий Евграфович. Полагаю, вас телеграмма касается непосредственно.
Все еще ничего не понимая, я взял из его рук узкий листок и прочитал:
«Исправнику Ряжскому Срочно Совершенно секретно Сведения Петровском сообщенные вами чрезвычайно важны Просьба ничего не предпринимать приезда Корф Генерал Багратионов».
ГЛАВА XI
– Хорошенькое положеньице! Вот вам и пьяница, однако…
– Господа, мы должны незамедлительно решить, что нам делать.
– Как – что делать? По-моему, в телеграмме ясно сказано: ничего не предпринимать.
– Ах, Григорий Никанорыч, вы ничего в этом не понимаете. Тут дело тонкое, милостивый государь. А мы, как нарочно, ничего не знаем!
В седьмом часу в кабинете исправника состоялся военный совет. На нем присутствовали: городской голова Венедикт Павлович Щукин, сухой остролицый господин весьма желчного вида, затем Григорий Никанорович Ряжский, утративший львиную часть своей обычной уверенности, я как лицо, нашедшее тело, секретарь Былинкин, которого просто позабыли выставить за дверь, а также неизвестно для чего приглашенный брандмейстер Антон Фаддеич Суконкин, один из ближайших друзей Щукина и большой знаток и почитатель виста.
Также Суконкин славился своим умением к месту и не к месту вставлять в речь пословицы и поговорки, которых он знал несметное множество, причем произносил он их с таким видом, будто изрекал невесть какие истины, а меж тем на свете нет ничего более избитого и банального, чем застывшие выражения, которые всегда выдают желаемое за действительное. И в самом деле, если посмотреть на нашу жизнь, все норовят разинуть рот на чужой каравай, жнут вовсе не то, что посеяли, встречают по одежке, зато провожают вовсе не по уму, а по кошельку, с охотой плюют в колодец, когда знают наверное, что он отравлен, и помнят, что друг познается вовсе не в беде (тогда он готов помочь, рассчитывая на то, что в тяжелую минуту и ты поможешь ему), а в удаче, которая способна охладить самых стойких и отдалить самых преданных. Однако, скажи я об этом брандмейстеру, он бы меня не понял, и вряд ли моя точка зрения – что любые штампы есть признак недалекого ума – встретила бы у него сочувствие.
В N Суконкин слыл, напротив, весьма ловким и расторопным малым, и, может быть, отчасти поэтому он и оказался на нашем совещании. Дело, впрочем, и впрямь выходило пожарное, ибо срочность, секретность послания и особливо генеральская подпись под ним вселяли трепет в самые закаленные чиновные сердца. Все жаждали узнать, что же именно происходит, и ни у кого не было никаких соображений по данному поводу, подкрепленных весомыми фактами. Версий же и теорий, причем самых фантастических, нашлось хоть отбавляй.
– Если генерал, то дело, несомненно, военное. А на войне как на войне!
– Полно вам, Антон Фаддеич. Генералы, знаете ли, тоже разные бывают.
– Однако же не всякие генералы имеют власть рассылать секретные телеграммы, да-с!
– Господа, а я вот о чем думаю… – встревожился Григорий Никанорович. – Не готовится ли какой войны с немцами?
Щукин брезгливо покривил рот.
– О войне с ними, милостивый государь, идут толки уже лет десять каждый божий день, так что, полагаю, волноваться не о чем. Никакой войны не будет, это все французы панику разводят.
– Господа, – вмешался Суконкин, – для нас-то какая разница, будет война или нет? Не смотри на кличку, смотри на птичку. Ведь город наш, нет слов, всем хорош, но вы и сами понимаете, что стратегического значения он не имеет.
Я ждал, что сейчас он непременно произнесет фразу: «Отсюда хоть три года скачи – ни до какого государства не доскачешь», но тут заговорил исправник:
– Будем благоразумны, господа… При чем тут наш город? Все началось с пассажира, который выпал из поезда. И в телеграмме говорится именно о нем.
– Если только это не предлог для… – хмуро начал Щукин.
– Кто такой Багратионов? – спросил брандмейстер.
– Начальник особой службы, – подал голос Былинкин.
Наверное, взрыв бомбы и то не произвел бы такого эффекта, как его слова. Присутствующие все как один побледнели лицами и даже, по-моему, несколько уменьшились в росте.
– Значит, все-таки война… – благоговейно выдохнул Григорий Никанорович.
– А, да полно, вздор! – нетерпеливо вскричал Щукин, дергая шеей, словно воротничок вдруг сделался ему нестерпимо узок. – Пропал же не взвод, не батальон, не армия, а один-единственный человек. Только – один – человек! И вся канитель началась именно из-за него? Нет, вы как хотите, но тут что-то нечисто, по-моему.
– Люди, Венедикт Палыч, тоже разные бывают, – рассудительно заметил Суконкин. – Из одной клетки, да не равны детки, вот в чем дело. Пропади вы или я, никакой генерал об том не забеспокоился бы. Значит, пропавший – важная персона.
– А что, если он их сотрудник? – внезапно спросил Григорий Никанорович.
– Сотруд… – Щукин не закончил слова, которое словно стало ему поперек горла.
– Да, сотрудник. И, может, тут замешаны высокие интересы, которых ни вы, ни я знать не можем. Он ехал в поезде, Аполлинарий Евграфыч уверяет, что его пытались убить, выбросили из вагона, а тело потом где-то спрятали… Все сходится, господа!
Я бы предпочел, чтобы обо мне не вспоминали, но после слов Ряжского все присутствующие в который раз вцепились в меня и стали требовать подробностей. Как выглядел Петровский? Походил ли он на важную персону? Не заметил ли я при нем чего-нибудь особенного? Точно ли он был мертв? Не успел ли он перед смертью сделать мне каких-либо признаний?
Нет, не успел. Нет, никакого особенного впечатления он на меня не произвел. Обыкновенный неказистый рыжеватый человечек, только и всего. И вообще, если бы мне пришлось искать шпиона, на Петровского я бы подумал на последнего, что он может им быть.
– Не имеет значения, голубчик, что вы там себе думаете, – медовым голосом ввернул Григорий Никанорович. – Ясно одно: человек он был значительный, раз его не поленились убить, а труп затем тщательно спрятать.
Я вскинул на него глаза и не преминул напомнить:
– А ведь именно вы не так давно утверждали, что он обыкновенный пьяница.
Но исправник уже не слушал меня. Он взял телеграмму и тщательно перечитал ее.
– «Ничего не предпринимать приезда Корф, – сказал он вслух. – Корф, Корф… Интересно, кто такой?
– Фамилия весьма известная, – заметил Суконкин, наливая себе стакан воды из графина. – Кто-то из Корфов даже учился вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным.
– Нас больше интересуют те Корфы, которые ближе к нам по времени, – отозвался Щукин, валясь в кресло и расстегивая мундир. Только сейчас я заметил, что городской голова был весь в поту, а его узкие губы стянулись в ниточку. – О них что-нибудь известно?
– Как же, как же, – радостно встрял Былинкин. – Генерал Михаил Петрович Корф, ныне в отставке. И его сын Александр Михайлович, флигель-адъютант его императорского величества.
Суконкин, мирно пивший воду, поперхнулся и отчаянно закашлялся. Городской голова мрачно посмотрел на секретаря.
– Я, Никита Егорыч, поражаюсь: откуда у вас такие точные сведения? И про Багратионова вам все известно, и про Корфов…
– Так ведь все от чтения-с, – застенчиво признался Былинкин. – На досуге, знаете ли, частенько «Придворный календарь» перелистываю. Люблю возвышенное чтение.
Щукин вздернул узенькие, как бы молью траченные брови и, покрутивши выразительно головой, послал красноречивый взгляд Ряжскому.
– Ну, если дело дошло до флигель-адъютанта, я пас, – заявил голова.
– Думаете, он и прибудет? – усомнился Ряжский.
– Что я думаю, что я думаю… – нараспев проговорил Щукин. – Я думаю, как бы не вышло чего-нибудь скверного. Для нас. И вообще, – неопределенно закончил он.
Григорий Никанорович нахмурился.
– Полагаете, нас можно будет в чем-то упрекнуть?
– Гм, – ответил голова и поглядел в окно.
Исправник побарабанил пальцами по столу.
– Лично я намерен оказывать этому Корфу всяческое содействие.
– А у вас и выхода другого нет, – сладко ответил Венедикт Павлович. – Только смотрите, как бы с вас не спросили из-за пропавшего тела. Если и впрямь погиб их человек, такая кутерьма может подняться…
– Я сделал все, что было в моих силах, – уже сердито сказал Ряжский.
– Я и не спорю, – кротко молвил Щукин. – Главное, чтобы господин Корф в то же самое поверил.
– Действия моего подчиненного в столь щекотливом деле, – заявил Григорий Никанорович, – были выше всяких похвал. Не говоря уже о его расторопности, ибо он очутился на месте преступления, когда тело еще не остыло.
– Вот-вот, – согласился Щукин. – Расторопность, говорите… Что ж, замечательно. Кстати, хотел вам заметить, ведь Корф явится сюда… Вы бы на всякий случай пыль стряхнули с государева портрета, а то он у вас чуть ли не в паутине.
Ряжский покосился на портрет императора и сурово кашлянул:
– Былинкин, займитесь… А вы, Аполлинарий Евграфович… Я хотел спросить, когда вы наконец подадите мне рапорт? По поводу Петровского.
– Я, Григорий Никанорович… – начал я.
– Со всеми подробностями! Чтобы завтра к утру был у меня на столе!
Щукин поднялся с места.
– Да-с, Григорий Никанорович, дорогой… Главное – порядок. Да! – Городской голова извлек из жилетного кармана часы и взглянул на них. – Эге, никак девятый час… Анна Павловна уже недоумевает, куда я мог деться. Антон Фаддеич! Вас подвезти?
– С превеликим удовольствием, – отозвался брандмейстер. – Вечернего виста, я так понимаю, больше не будет? Делу время, потехе час, так сказать… До свидания, Григорий Никанорыч.
– До свидания, Антон Фаддеич… Доброй ночи, господа.
Дверь распахнулась без стука. На пороге стоял урядник Онофриев.
– Аполлинарий Евграфович! Вас там дама спрашивает. Говорит, срочно. Впустить?
– Дама? – в некотором ошеломлении повторил Щукин.