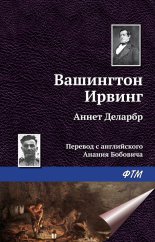Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

– Слушаю, – проговорил Зализняк не без удивления.
– Вопрос первый, товарищ старший политрук. Как развиваются наши отношения со «Свободной Францией» генерала Шарля де Голля?
– Ха-ароший вопрос, – протянул комиссар. – Ну, и отношения тоже, как говорится, хорошо развиваются. Союзнические у нас отношения с товарищем де Голлем. В общем и целом. А второй вопрос про что будет?
Честно говоря, мне уже не хотелось задавать второго вопроса, такие ответы я и сам бы давать мог пачками, но было поздно, назвался груздем, так иди до конца. Я и пошел.
– Как, по-вашему, товарищ старший политрук, следует оценивать британскую операцию при Мерс-эль-Кебире?
Тут я, похоже, переборщил, и переборщил довольно сильно.
– При Мерсель… чем? – тихо бормотнул Мухин, и все другие посмотрели на меня уважительно, в том числе военком Зализняк. Почесав пальцем переносицу, он не очень уверенно произнес:
– Ну, это дело, как говорится, давнее и, так сказать, прямо скажем, не простое. Империалистические противоречия, как говорится, то да сё. Есть что еще у вас, товарищ боец?
Я смущенно и не совсем по уставу помотал головой, но тут вмешался Шевченко.
– Какая теперь обстановка на Мальте, товарищ старший политрук?
Тот облегченно рассмеялся.
– А Мальта, товарищ Шевченко, держится, подавая пример борьбы двадцати шести объединенным нациям и лично вам с товарищами Зильбером и Костаки. Другие вопросы имеются?
Был у меня еще один вопрос, про поляков – почему их армия с генералом Андерсом до сих пор не принимает участия в боях. Но, похоже, комиссар спешил. А жалко, интересный был вопрос, у нас в Новосибирской области с позапрошлого года поляков на спецпоселении проживало великое множество. С началом войны их быстро амнистировали и стали звать в непонятную польскую армию. Только что были белые паны, а сделались братья-славяне.
– Вижу, вопросов больше нет, – удовлетворенно заключил политрук. – А значит, расходимся по работам, будет время – наведаюсь, посмотрю.
Договорив, он сразу же ушел в штабной блиндаж к капитану Бергману, заниматься хозяйственными и прочими делами. Мы же с Зильбером и Старовольским отправились во вчерашние окопы в боевое охранение.
В целом речь военкома, несмотря на обилие слов-паразитов, произвела на меня положительное впечатление. Раньше я такого не слышал – и что немцы умеют воевать, и что надо у них учиться. Все понимали, что это так, но скажи кто такое у нас в запасном – приписали бы пораженческие настроения и антисоветские разговоры. Да и на фронте, я знал, за такое не жаловали. Военком же и про Керчь сказал, и про Харьков. Пусть не всё, но сказал. Он, видимо, не очень верил, что прикончим мы немца в этом году, но главным были не сроки, главным было другое – выстоять и не сдать. И еще он говорил, похоже, то, что в самом деле думал. Совсем не так, как некоторые суровые товарищи, которых я видел раньше.
Из охранения мы вернулись через сутки. Без приключений, если не считать, что Мухина пытался подстрелить немецкий снайпер. «Хрен тебе!» – сказал со злостью Мухин и заявил Старовольскому, что тоже хочет учиться на снайпера. Старовольский ответил, что, если будет возможность, так и быть, отправит Мухина на переподготовку.
Чуть позже за Бельбеком – так называлась здешняя речушка – вышел форменный бой, со стрельбой, громким матом и криками раненых под конец. «Позицию улучшают», – пояснил старшина. Кажется, ничего улучшить не удалось, но немецкая артиллерия еще долго молотила по участку. «Хорошо, не по нас», – заметил Молдован и порадовался, что нам не пришлось улучшать свою. «Еще придется, – пообещал Шевченко, обтирая пот со лба, – боевая активность – без нее никак. Оборона не должна быть пассивной, иначе кранты, закон военного искусства». Похоже, он тоже был стратегом. Но в отличие от Рябчикова кое-что видавшим.
Во время боя он дежурил наблюдателем, следил за немцами, чтобы в случае чего подать необходимый сигнал. Нам же велено было лежать и не высовываться, держать винтовки наготове. Впрочем, по очереди мы все побывали на наблюдательных постах. Шевченко, Костаки и Старовольский показывали нам изрытое воронками поле, наши передовые посты, ряды проволочных ограждений и почти неразличимые немецкие окопы в долине. Я долго вглядывался туда, стараясь угадать, где может укрыться немец, и даже представил себе, как он точно так же осматривает нашу позицию и ищет глазами меня. И хорошо, если это простой наблюдатель, а не фашистский снайпер.
Ближе к закату я уже сам был наблюдателем и, затаив дыхание, снова пялился в немецкую сторону, стараясь не отвлекаться на дальние, поросшие лесом горы, напичканные, по словам Шевченко, германскими пушками, пехотой и техникой. Раз за разом, с равными интервалами, оттуда доносился тяжелый и неприятный гул – это фашисты, как и вчера, вели методичный артиллерийский огонь по городу и причалам. Иногда мне казалось, будто я различаю движение в ближних немецких окопах. «Может быть, и шевелятся, – согласился со мною Мишка, – фриц, он не спит, тоже делом занят».
Когда возвращались обратно, угодили под минометный обстрел. Не сильный, но пришлось довольно долго отсиживаться в ходе сообщения, и оставленный для нас в землянке завтрак – два бачка овсяной каши, – несмотря на крышку, остыл. Мы съели кашу с аппетитом, закусили сухарями, запили водой. Воду Зильбер велел беречь, с водой здесь было туго. «Шут с ней, с водой, – недовольно буркнул Мухин, – овсянка и так на воде. Где мои законные сто грамм?» Однако водки не выдавали вторую неделю, ссылаясь на новый приказ наркома обороны, то есть лично товарища Сталина, и этот вопрос беспокоил Мухина гораздо больше, чем отношения объединенных наций.
Я с самого начала понял, что в армии человеку всегда хочется спать. Связано это не только со спецификой военной службы, но и со специфическим взглядом начальников на физические потребности подчиненных. В запасном у нас считали, что лишний сон красноармейцу скорее вреден, а никакого другого отдыха, кроме сна, ему и вовсе не положено (если командир говорил: «иди отдыхай» – это значило «иди спи»). И вообще, полагало начальство, личный состав необходимо приучать к лишениям и тяготам военной службы. К тому же шла война, сроки подготовки сократились, и времени ни на что не оставалось.
Однако тут, на берегу Бельбека, наш сон зависел не столько от начальников, сколько от обстановки, а обстановка была военно-полевая. Первые два дня недосып сказывался не сильно, спасали новые впечатления, но на третий и четвертый у меня уже подкашивались ноги. Днем надо было пахать (работу немец подкидывал всегда) или лежать в охранении – караулить, чтобы фашисты не полезли. Ночью через раз тоже что-нибудь да случалось – то срочная работа, то секрет, то еще какая ерунда, как правило, долгая и утомительная. Когда по ночам не дежурили и не работали, на сон оставалось часа три-четыре. Но это чисто теоретически – потому что немцы могли устроить артналет и среди ночи. Когда же мы заступали в ночную, не оставалось ничего. Я не понимал, откуда берутся силы у командиров, но видно было, что и те клюют порою носом, мечтая о том же, о чем мы все. Однажды я нечаянно вздремнул прямо в окопе, но тут же получил тычок от Левки Зильбера. Легкий, но заставивший поверить, что разряд по боксу у Льва Соломоновича действительно имеется, и именно в полутяжелом весе.
Другой напастью была жара. С каждым днем она становилась всё сильнее, и мы начинали понемногу ненавидеть и юг, и Крым, и Черное море, которого я, впрочем, до сих пор не увидел. Собственно, если бы скинуть с себя всё лишнее, вылезти под солнышко, поваляться на одеяле, оно бы было совсем не плохо, но подобные фантазии, по мнению Шевченко, являлись вредными, расслабляющими и деморализующими. Было бы лучше даже не на одеяле, все-таки шерсть кусается, а на каком-нибудь лежаке. Или прямо на песке, на пляже, чтобы море шумело под ухом. Мухин однажды полюбопытствовал, где тут находится пляж, далеко ли. Шевченко объяснил: «На левом фланге сектора. Мы на правом». Однако не думаю, что бойцы левого фланга, даже те, что стояли у самого моря, бывали на этом пляже.
Еще одной напастью были мухи. Они роились над валявшимися на ничейной мертвецами, над отхожими местами позади траншей, залетали в окопы, садились на лицо. О борьбе с ними думать не приходилось. И еще очень мало было воды, правильно предупреждал старшина. Просто потому, что много было людей, и всем нужна была вода, и не только людям, но также лошадям, машинам, пулеметам. Я просто представить себе не мог, как на такую массу народа удавалось доставлять даже то немногое, что мы тут получали. От речки, что протекала поблизости, проку не было, пить из нее, говорили, опасно – по причине всё тех же трупов. Мне однажды вспомнилось из Толстого, как русские и французы под Севастополем заключили перемирие на несколько часов, чтобы убрать мертвецов. Теперь такое и в голову не приходило. «Бескомпромиссная война антагонистических идеологий», – криво усмехнулся Старовольский, когда я осторожно поделился с ним своими соображениями. Но, думаю, в империалистическую трупы тоже не убирали, а ведь тогда идеология была у всех одна – империалистская.
А что такое трупы? Трупы – это вонь. Не знаю, сколько их там валялось и чьих было больше, советских или фашистских. Может, не так и много по сравнению с количеством живых. Тем более что серьезных боев давно не происходило, а наши и немцы по ночам старались вытащить с нейтральной полосы тела погибших накануне. Но хватало и тех немногих, которые там остались. От жары они раздувались, лопались, издавали зловоние. Густой тяжелый смрад постоянно висел над полем, и ощутим он был не только в первой, но и в последней линии траншей. И мы старались не думать, что совсем недавно это были такие же люди, как мы. И что мы сами можем оказаться такими же, как они.
Мы тоже не благоухали. Всё: гимнастерки, шаровары, обмотки, пилотки – насквозь пропиталось вонючим потом. Не говоря о портянках. До смены, а когда она будет, не знали ни Шевченко, ни Зильбер, о мытье и стирке думать не приходилось. Но к своему аромату привыкли быстро. И не только к своему, но и к аромату устроенных за окопами выгребных ям, над которыми сидели, с опаской вслушиваясь в писк пролетавших поверху пуль, и которые являлись выгребными лишь по названию, потому что выгребать из них в наших условиях не было практической возможности. К тяжелому духу от мертвых со временем принюхались тоже. И если кто из штабных, забредя к нам в окопы, старался дышать пореже и не слишком глубоко, на наше сочувствие ему рассчитывать не приходилось.
«Все это чепуха, – успокаивал нас Шевченко. – Главное, чтобы не было вшей». Вшей пока не было. Крыс, тьфу-тьфу, тоже – если и пробегали, то редко.
О водке в подобных обстоятельствах не думалось. Но это мне не думалось, а вот Мухин не унимался. У него появилась новая теория: поскольку запасы спиртного наверняка должны быть огромными, на целый оборонительный район, то значит, теперь его выпивают штабные, а главное – интенданты, на свой лад толкующие приказ наркома. Ко всему он узнал от кого-то, что будто бы в здешнем госпитале раненым дают шампанское, прямо со склада, вместо воды. Новость его ужасно взбудоражила. «Цельная натура», – заметил Старовольский.
Младший лейтенант почти постоянно был с нами. Вместе с нами спал в землянке, вместе ел, вместе пил – разумеется, воду. Когда не спал и не ел, дежурил или работал, ну и руководил, конечно. Лишь изредка отлучался к Бергману или задерживался в штабе по разным бумажным делам. Тогда командование целиком и полностью переходило к Зильберу.
Как помкомвзвода Зильбер оказался скорее сносным. Строгим, однако не злым. Возможно, в мирной обстановке он был бы вполне душевным человеком, этаким южанином в духе поэта Багрицкого и одного одесского прозаика, которого теперь… Прозаика, одним словом. Правда, красноармеец Пинский, призванный из университета, был о старшине второй статьи немного иного мнения. На то имелась причина. Дело в том, что, помимо множества прямых своих обязанностей, Зильбер добровольно возложил на себя особую миссию. Почти во всякое время он, используя удобный момент, занимался воспитанием Пинского, употребляя слова, непонятные нам, но для Пинского крайне обидные. Я хотел спросить однажды, что такое «тухес», но, честно говоря, не рискнул, уж больно зол был Пинский в ту минуту – шепотом обозвал старшину второй статьи «жидовской мордой». Мухин, помню, тогда долго бесшумно ржал, а Пинский сделался красным как рак и производил впечатление опасного для окружающих человека.
После смерти Рябчикова Мухин попритих – по первости мы все там сделались тихими. Но дня через три доброволец пришел в себя. Вновь появилась наглость в рыскающих глазенках, голос сделался совершенно другим, будто сюда он прибыл не вместе с нами, а минимум полжизни провел на передке. Возможно, он полагал, что его лагерь был чем-то вроде фронта. И что порядки здесь такие же, как там. Однажды, обнаружив, что никого рядом нет, Мухин сунул мне свою лопату.
– Потрудись-ка, молодой, за уважаемого человека.
Мы поправляли дальний окоп, в очередной раз попорченный немцами, и лопата, коль на то пошло, была у меня своя собственная. Но для Мухина имело значение, чтобы я взял его инструмент. Возникла необходимость послать его подальше. Сразу и навсегда, иначе не отвяжется. Я сказал ему:
– На хер пошел.
Похоже, мои слова прозвучали неубедительно. Может быть, голос подвел или слово оказалось не тем. Мухин, пакостно ухмыльнувшись, ухватился за мою гимнастерку.
– Ты чё тут, фраер, совсем оборзел? Ты с кем говоришь, гаденыш? Да там, где я был, такие гниды, как ты…
Еще бы немного, и я испугался. Лапы у него были цепкие, драться я толком не умел, а в кармане у него наверняка был спрятан нож. С такого психа станется, пырнет и только потом сообразит, что сделал. Расстреляют, конечно, но мне оно не поможет. Но испугаться не получилось. Едва я почувствовал на себе его руки, как почти непроизвольно взмахнул своими и резко рубанул ребрами ладоней Мухину по запястьям. Не знаю, насколько сильным вышел удар, но Мухин сразу же отскочил.
– Ты чё? Нюх потерял, салага?
– Я сказал, пошел на…
На этот раз у меня прозвучало тверже. И слово нашлось подходящее. Похоже, есть такие люди, которые реагируют не на смысл сказанного, а на привычные звуки, вроде как псы. Мухин отреагировал правильно.
– Ты чё, молодой, шуток не понимаешь?
– Не понимаю. Чувства юмора нет. С детства.
– Оно и видно, – пробурчал бытовик и принялся перекидывать землю. Меня потом еще два часа трясло от ярости, а подонку было хоть бы хны. Какая-то особая порода людей. Красноармейскую книжку мне помял, в правом нагрудном кармане, скотина.
Потом, я слышал, он цеплялся к другим ребятам. Но там или сразу ничего не выходило, или Молдован грозился набить ему морду, или вмешивались Шевченко и Ковзун. Мухин стал грустным и говорил, что скоро сделается снайпером и вновь обретет свободу. В голосе его звучала обида и мечта.
– Снайперить – это по мне. Один, как человек, без кодлы. Хресь фрицу в башку, и море душевного покоя. Я ж на воле отличный был стрелок, в тире брал призы. А тут – кирка, лопата, матросня, жиды. А душа, она ведь просит.
Мы не только рыли землю. Начальство заботилось, чтобы мы поскорее стали обстрелянными бойцами. На шестой день наш взвод получил боевое задание. Мы обрабатывали ружейно-пулеметным огнем боевые порядки противника. Он в ответ обрабатывал наши. Огонь, что с нашей стороны, что с немецкой, был не особенно интенсивным, но всё равно, когда пуля вдруг чиркала чуть не под носом, делалось неприятно. Вновь высовываться из окопа не хотелось. Но приходилось. Высунул голову – нажал – нырнул на дно. Высунул – нажал – нырнул. Много ли было проку от такого ныряния, не знаю, но патроны уходили быстро, хотя большинство бойцов как в копеечку лупило в белый свет. Будущий снайпер, между прочим, тоже.
– Это называется беспокоящий огонь, – с довольным видом выдавал он усвоенные накануне термины. – Чтоб жизня фашистам медом не казалась.
Не знаю, как немцам, но мне жизнь и так не казалась сладкой. Зильбер тоже был не в восторге от наших плясок.
– Надо срочно подтянуть боевую подготовку, – озабоченно заметил старшина, когда в окоп пробрались с проверкой старший лейтенант Сергеев и военком батареи Зализняк.
– Тут тяни не тяни, время нужно, – покачал головой военком, присаживаясь на дно рядом с Сергеевым и Старовольским. – Вот ты в запасном чем занимался? – обратился он ко мне. (Я как раз запихивал в магазин обойму, а она, видимо от близости начальства, как-то косо пошла и не запихивалась.)
– Строевая. Штыковой. Стрельбы. По-пластунски.
Старший лейтенант насмешливо хмыкнул:
– Всё как положено. И штыковой, и стрельбы. Штыковой – это с беззащитным чучелом, а стрельбы – из положения лежа по неподвижной мишени в свободное от разгрузки угля и картошки время. Месяц – и боец готов. Точно?
– Полтора, – уточнил я.
Тогда Сергеев спросил у Зильбера:
– А помнишь, какая у нас была пехотная подготовка? Шли по кукурузному полю в полный рост, как на параде.
Зильбер поморщился, видимо воспоминание было тяжелым. Мрачно процедил:
– Зато я у немца видел глаза.
– Ага, – кивнул Сергеев и добавил: – А многие так и не увидели.
Они помолчали. Старовольский извлек из кармана папиросы и предложил их оказавшимся поблизости. Кроме меня, потому что знал – я у него некурящий.
– Я ведь тебя помню, – неожиданно сказал мне старший политрук. – Умный парень. Газеты читаешь. Десять классов небось закончил?
– Да, – ответил я, еще не зная, куда он клонит. А военком повернулся к Сергееву.
– Помнишь, Бергман говорил, ему грамотный человек для бумажной работы нужен?
– Помню, – буркнул тот. – Алексей, дашь комбату человека?
Старовольский вопросительно посмотрел на меня и непонятно чему усмехнулся. Мне стало совестно, и я вопреки собственному желанию пробормотал:
– Разрешите обратиться, товарищ старший политрук? Пинский у нас так вообще студент. Из университета.
– Пинского не отдам! – решительно вмешался Зильбер. – Он мой.
– Это даже не подлежит обсуждению, уважаемый Лев Соломонович, – успокоил его Сергеев. Потом приподнялся не в полный рост и сказал Старовольскому: – Ну бывай, мы побрели обратно. Пощелкайте тут еще с полчасика, только патроны берегите.
Оба нырнули в ход сообщения, а мы занялись своим беспокоящим делом. Спустя некоторое время к нам присоединился Шевченко, выступивший на сей раз в роли пулеметчика. Трофейный «МГ» и ленты к нему он приволок вместе с Костаки, установил машину в подготовленном накануне гнезде и сразу же позвал меня к себе.
– Устраивайся поудобнее, будешь ленту держать, чтобы не перекосило. Полезное дело, осваивай. Костик понаблюдает пока.
Потом, поискав глазами, Шевченко проговорил:
– А теперь братский привет трудящимся Германии. Крестьянам, рабочим, трудовой интеллигенции.
И, прищурившись, мягко нажал на спуск. И хотя мне по-прежнему было страшно и было нужно следить за лентой, я не сразу сумел оторваться от облачка пыли, заплясавшего на той, немецкой, стороне. Я словно вживую увидел, как попадали фашисты на дно, как вжимаются они в землю – и как кто-то уже не вжимается, потому что ему всё равно, потому что он мертв и не видеть ему фатерланда. И впервые с момента высадки на Северной стороне Севастополя я почувствовал подобие радости.
Испытание совести
Курт Цольнер
Двадцатые числа мая 1942 года
Чтение полученной накануне почты мне хотелось начать с писем Клары и Гизель, однако, как примерный сын, я первым делом ознакомился с короткой запиской от матери. Из нее я узнал, что «пока писать не о чем», отец опять в отъезде, а некий Гельмут (я не сразу сообразил, что это ухажер госпожи Кройцер) куда-то исчез. Материнское послание сопровождала приписка от Юльхен, несколько более содержательная.
«Я нарочно вскрыла мамочкино письмо, – сообщала мне моя послушная родительской воле сестра. – Ты не поверишь, но с помощью твоей Клавдии (с какой стати она моя? – возмутилось мое естество) я освоила независимый аблятивный оборот. Оцени, бездельник! Caesar omni exercitu ab utramque partem munitionem disposito… Если перевести дословно и со всеми падежами, получится вот такая ерунда: «Цезарь всем войском с обеих сторон укреплений расположенным». Но если это переделать вот так: «Цезарь, когда он расположил всё войско по обеим сторонам укреплений», – всё встает на свои места. Более литературные варианты: «Когда Цезарь расположил всё войско» или «Цезарь, расположив всё войско». Блеск! Клавдия здорово умеет объяснять, даже мне понятно. И вообще, она такая умница, хоть и страшненькая, постоянно говорит о Кларе, о тебе и вздыхает. Надеюсь, ты не влюблен в эту белобрысую селедку? Я ее видела лишь однажды, но думаю, она вполне бы могла работать натурщицей Адольфа Циглера. И вообще, Гизела просто прелесть, мы всё время вместе, и я за ней присматриваю.
P.S. Я обнаружила историческую параллель между Цезарем и Манштейном. Когда русские высадились на востоке Крыма, ваша армия, осаждавшая Севастополь, сама оказалась как бы в осаде, под ударом с двух сторон. Как Цезарь под Алезией. Ведь правда? Но Гай Юлий победил всех варваров!»
Моя сестрица становилась военным историком. Дело заведомо не женское, но что поделаешь – эмансипация. Любопытно, куда этот процесс заведет историческую науку лет через пятьдесят? Хотя и так понятно – ничем хорошим он окончиться не может.
Два оставшихся письма, однако, интересовали меня больше, чем судьбы европейской историографии. Естественнее было бы начать с послания Гизель, но я заставил себя вскрыть конверт, надписанный рукою Клары. И нельзя сказать, что меня постигло разочарование – нечто подобное я как раз и ожидал увидеть.
«Мой милый и хороший Курт! – писала мне потенциальная натурщица Адольфа Циглера. – У меня всё по-прежнему. Здесь, в нашем городе, ничего не меняется, и это даже к лучшему. Я думаю только о тебе, лишь с тобой мои мысли, мои чувства, всё, что во мне есть…»
«И что же там есть? – несправедливо подумал я вместо того, чтобы восхититься Клариным умением выстраивать риторическую градацию. – И есть ли там что?» Мой рот скривила усмешка, взгляд равнодушно заскользил по бессмысленным строчкам, и мне живо представилась Клара, та самая, в расстегнутом до пояса платье, без бюстгальтера, с любопытством ожидающая, когда я наконец займусь своей ширинкой.
Где-то посередине письма характер Клариной риторики менялся. «Мой милый мальчик (это еще что за новости?), если ты меня по-настоящему любишь, я буду твоя и только твоя. Если ты думаешь обо мне, я буду думать только о тебе. Если ты не забыл наших встреч (было что забывать?), я непременно тебя дождусь и мы снова будем вместе (что бы значило это «снова»?). Родной мой, хороший, славный…»
Вот, оказывается, каким приемам учили девушек в гимназии имени Гёльдерлина. Но Юльхен тоже училась там. Или то были уже плоды академического образования? В любом случае Клара выдвигала слишком много условий, и я окончательно осознал, что мой удел не хрупкие блондинки. Убрав ее письмо в сухарную сумку (тоже ведь пища, можно сказать – духовная), я развернул домашнее сочинение страстной и крепкой брюнетки. Умеренно спортивной и с бюстом, который не нужно искать.
«Дорогой Курт, – писала она мне, – даже не знаю, с чего начать и о чем рассказывать. Не о работе же, не о доме, не о всей той ерунде, что окружает меня и не имеет к нам с тобой никакого отношения. Тут только и разговоров что о предстоящем замужестве госпожи Кройцер, которое грозит в очередной раз сорваться. Что касается наших с тобою дел, госпожа Нагель, похоже, обо всем догадалась, твоя мать смотрит на меня искоса. Не вздумай только выговаривать ей за это, она мать, ее можно понять. Я к вам не захожу, но Юльхен часто бывает у нас, веселая девочка, умненькая, хотя мне кажется, слишком интересуется мужчинами. Не мне ее упрекать. И не тебе. Не знаю почему, но к ней постоянно таскается твоя однокурсница Клавдия, учит ее латыни. Она случайно в тебя не влюблена? Ничего между вами не было? Ведь ты известный блудодей! Я шучу, не обижайся, сама такая, мы нашли друг друга. Скорее бы всё это кончилось. Я даже боюсь тебе признаться, какие мысли порой приходят мне в голову, но я так хочу, чтобы ты снова был здесь, со мной. Мы ведь будем счастливы вместе, правда? Как ты думаешь – да или нет? Проклятая война всё поставила с ног на голову. Никто ни в чем не может быть уверен. Ты сказал, что любишь меня. Я поверила. Это главное. Дальше решать тебе».
Я был растроган. Правда, как человек, стремящийся к объективности, всё же счел необходимым подумать: желай я добиться Клары, не проявил бы я тогда большей снисходительности к ее риторическим упражнениям? Ведь, домогаясь любви, мы столь часто восхищаемся в девушках тем, чего в них нет, или тем, что вовсе не достойно восхищения. Восхваляем ум, талант и еще Бог знает какие качества, вовсе не свойственные данной особе. И всё ради того, чтобы залезть не будем уточнять куда. Иными словами, следуем по стопам хитрого лиса из басен Эзопа и Лафонтена. А потом думаем, как бы исчезнуть, чтобы не повторять тех глупостей, которые бездумно произносили, устремляясь к заветной цели – мясу (согласно греку) и сыру (согласно французу) мужчин.
Накануне ожидаемого всеми штурма наша третья рота пребывала не в самом плачевном состоянии. Она была пополнена, довооружена, каждый взвод и отделение имели своих командиров. Если русские еще не трепещут, то у них замедленная реакция, говорил наш старший лейтенант Аксель Вегнер, ставший ротным после декабрьских боев и бывший на самом хорошем счету у командира батальона майора Берга. Помощник Берга, лейтенант Иоахим фон Левинский, также проявлял к нашей роте повышенную благосклонность. Мы и в самом деле неплохо тянули лямку, спокойно, уверенно, без происшествий и лишних потерь. Впрочем, всякая потеря бывает лишней, но это с нашей, солдатской точки зрения, тогда как наверху полагают иначе, подразделяя потери на допустимые, чрезмерные и какие-то еще – арифметика особого рода, разумению чувствительных натур неподвластная.
Из числа прибывшего до нашего приезда пополнения у нас во взводе оказалось шестеро. Наиболее колоритной фигурой был старший ефрейтор Йорг Главачек, уроженец Богемии и Моравии. Он успел послужить в полицейских частях протектората и высокое звание принес на фронт оттуда. Длинный, костлявый, мрачный, он от старания буквально лез из кожи. До мобилизации в вооруженные силы он побывал даже в членах партии. Во время окопного дежурства мне иногда казалось – еще немного, и Главачек выскочит на бруствер, чтобы рвануть в атаку с воплем «За родину и фюрера». Короче, был среди нас самым главным немцем. Его поставили на наше отделение, но Греф по привычке вел себя как непосредственный наш начальник, и мы почти не воспринимали Главачека в качестве командира.
Приехавшие с ним двое австрийцев, Каплинг и Штос, производили лучшее впечатление. Первый был из Мелька, второй из-под Кремса, оба деловитые, спокойные ребята, в особенности санитар Штос. Главачека они недолюбливали и с удовольствием передразнивали его чудный богемский акцент: «Нашя-а рота… да-ални-ий лэ-эс…». Шутили, что наконец-то сделались стопроцентными «имперскими немцами». Однако причина их появления была ничуть не смешной, особенно у нас в третьей роте, где процент призванных из округа заметно сократился после штурма Перекопа, когда дивизию стали спешно пополнять вне установленного окружного порядка.
Первое из благодеяний Левинского выпало на нашу долю спустя шесть дней после нашего прибытия. Мы и недели не прокоптились в окопах, как получили шикарный подарок. Не только смену, баню и новое белье, но также концерт фронтового ансамбля с участием артистов из Симферополя. Мы отправились туда командой во главе со старшим лейтенантом Вегнером и отдохнули совсем не плохо. Парни из ансамбля среди прочего выдали смешную пародию на девушек, недостаточно благонравно ожидающих своих женихов – тема для многих весьма злободневная, Главачек тот прямо позеленел – видимо, представил свою Марушку или Катержинку в объятиях удальцов вроде Дидье и прочих недавних отпускников.
Совсем неплохо смотрелись симферопольские артисты. Труппа украинского театра побаловала нас казацкими плясками, татарский и болгарский инструментальные квартеты – народной музыкой, а известный московский тенор, пострадавший от советской власти, – русскими романсами – местной разновидностью лирической песни, несколько заунывной, но отвечавшей моему настроению. Окончив пение, он на безупречном немецком заявил:
– До встречи в Севастополе, друзья!
То же самое мы услышали от артистов украинского театра, а также от татарских и болгарских музыкантов. Подобное единодушие заставило бы всякого поверить в счастье освобождаемых туземцев. Всякого, кто не был на Востоке более двух дней. Мы тут пробыли несколько дольше – и ловко находили кур в наиболее укромных местах. Как минимум.
В расположение мы возвращались в сумерках и здорово навеселе. Даже Вегнер не отказал себе в удовольствии приложиться к местному вину, заботливо нам поднесенному освобожденными татарами. Сухарные сумки ломились от купленной и добытой в деревне снеди, и когда по дороге нам встретилась группка румынских солдат, тем несложно было догадаться, что у немцев отыщется чем разжиться – при наличии на то нашей доброй воли. Доброй воли проявлено не было. Когда перед Грефом появились двое тощих румынских крестьян в напоминавших мундиры обносках и стали жестами объяснять, до чего же им хочется есть – а по их измученным голодом лицами было понятно и так, – тот свирепо на них наорал и, поведя автоматом, велел убираться прочь.
– Откуда они тут взялись? Шарятся как шакалы в чужом расположении. Куда только смотрит полевая жандармерия?
Некоторое время спустя появились трое новых румын. Подойти к нам они не рискнули. Так и стояли в стороне, жадно всматриваясь в наши сухарки, пока мы не прошествовали мимо. Мне стало неловко, и, немного отстав, я поманил союзников пальцем. Опасливо озираясь, они осторожно приблизились, один молодой, почти мальчишка, другие заметно старше меня.
– Prenez, prenez, camarades, – говорил я, передавая им буханку хлеба с кусками вяленой козлятины – и в который раз убеждаясь, что оказывать ближним помощь приятнее, чем заниматься убийством себе подобных. И пусть даже ближний не понимает твоих слов и сам говорит на непонятном наречии, он кажется тебе в такой момент чертовски симпатичным. Хотя, возможно, эти румыны, радостно кивавшие доброму немцу, и в самом деле были милыми людьми.
Интернационально-гуманистическая идиллия продолжалась совсем недолго. Из сгустившихся сумерек вынырнул толстенький человечек, на плече которого поперек погона блеснули золотом две тонкие полоски. Вежливо мне улыбнувшись, он развернулся к солдатам и неожиданно исторг из глотки вопль, выражавший крайнюю степень командирского возмущения. Солдаты в возрасте моментально вытянулись по швам, а чуть замешкавшийся паренек незамедлительно схлопотал кулаком по физиономии.
– Pardon, monsieur, – обернулся офицер ко мне и отвесил парню новую оплеуху. Сноровка его в этом деле могла бы вызвать уважение, если бы уважение вызывало само дело, возможно вполне обычное по меркам Великой Румынии. Он проорал что-то вновь, и испуганные бойцы вынули из мешка уже спрятанные мясо и хлеб. С учтивым кивком союзный лейтенант вернул мне мой скромный подарок.
– Они роняют честь румынского солдата, – объяснил он по-французски подошедшим к нам Вегнеру и другим. – Их поведение недостойно потомков древних римлян.
С презрительной гримасой офицер махнул рукой, и незадачливые его подчиненные тут же растворились во мраке. Сам он, однако, уходить не спешил. Открыв небедного вида портсигар, он стал предлагать сигареты. Мне как некурящему врать не пришлось – в отличие от Дидье и других. Отказались все, кроме Главачека, Грефа и пары новичков, еще неопытных в ротных делах. Румын умело сделал вид, что ничего не понял, и, прежде чем нас покинуть, пообещал прислать вина из бессарабского поместья, героически отбитого у большевиков в июне прошлого года.
– Римляне, – прошипел со злостью Вегнер, когда мы снова двинулись в путь.
– Вот и я говорю, нечего с ними тут связываться, – высказался Греф, дымя союзной сигаретой. – А Цольнер полез зачем-то.
Отто поделился мыслями с Дидье:
– Интересно, а у советов бьют по морде?
– Нет, – ответил тот, – к стенке запросто, по морде не положено.
Я добавил:
– Общенародное единение. Почти как у нас.
Главачек раздражал не только меня и австрийцев. Дело было не в его богемском происхождении. Просто так устроен мир – в одних сообществах от членов ожидаются такие-то качества, в других – совсем другие. Возможно, попади наш Йорг в иную роту, даже в нашем батальоне, он бы вполне пришелся ко двору, но у нас таких не любили, так уж оно сложилось. Каких «таких»? Трудно сказать, но не любили – и всё. И бедолага это чувствовал, хотя своей нелюбви к нему мы внешне никак не выказывали. Но он умудрялся нарваться сам. Однажды, слегка навеселе и вне строя, он сумел рассердить даже Вегнера. Поприветствовал того по-партийному, общеизвестным «римским» жестом.
– Вы в армии, Главачек, – сказал лейтенант недовольно.
Йорг поспешно поправился, но всё ж немного погодя спросил:
– Разрешите вопрос, господин лейтенант?
– Я вас слушаю.
– Мне говорили, это равноценно. У нас в протекторате…
Вегнер посмотрел на него как на странное и абсолютно постороннее существо, которое по сугубой случайности забрело в его роту и вообще на землю.
– Вас неверно информировали, старший ефрейтор. Армия есть армия при всякой погоде. Другие вопросы?
– Никак нет, – не на шутку расстроился Йорг.
Его успокоил Греф, с самого начала оценивший стремление Йорга нравиться начальству и его готовность при необходимости угостить своего взводного вином. «Старая военная каста, – сказал он о Вегнере, – динозавры. Но порядок есть порядок, он должен быть всегда, тут уж ничего не попишешь. Скажи-ка лучше, как ты исхитрился просочиться в партию? Я бы после службы тоже попробовал, хорошее дело, какой ни есть, а шанс».
Лучшим приятелем Главачека вскоре сделался ефрейтор Гольденцвайг, переведенный к нам за неизвестную провинность из местной комендатуры под Винницей прямо накануне моего приезда. Он был уроженцем дивизионного округа, однако, в силу таинственных обстоятельств появления его в нашем взводе, Греф относился к нему с недоверием. Тот, в свою очередь, старался недоверие рассеять и, пользуясь дружбой с Главачеком, при каждом удобном случае заводил разговоры со взводным. На следующий день после случая с румынами (наш отдых еще не кончился и время для бесед пока имелось) он, наскучив игрою в скат, поинтересовался:
– А правда, что у русских на каждом взводе по лейтенанту?
– Правда, – ответил Греф, самодовольно улыбнувшись. Ему явно не хватало подобного внимания, которое бы напомнило всем, что старший фельдфебель Греф находится на офицерской должности.
– Где же они их столько берут?
– Пекут как пирожки, – охотно объяснил ему Греф. – Несколько месяцев – и на передовую. И ладно бы брали из фронтовиков, так нет – у них в военных училищах почти сплошь вчерашние школьники.
– Что? – изобразил удивление Гольденцвайг. – И вот он, значит, приходит в окопы, ни разу не видел фронта, никогда никем не командовал, и его ставят на взвод? А во взводе старые вояки, унтерофицеры?
В этом месте мы с Дидье переглянулись и даже Главачек покачал головой, возможно завидуя умению Гольденцвайга польстить непосредственному начальнику – и при этом почти незаметно.
– Именно так, – подтвердил с достоинством Греф.
– И как же они командуют? – продолжил изумляться Гольденцвайг. – Ведь они и как солдаты ничего еще не знают. Я вот даром что ефрейтор, но раньше на передовой не бывал, так теперь всему тут заново учусь.
В этом месте он, похоже, польстил всем нам, и вновь-таки почти незаметно.
– А у них, – ответил, затягиваясь, Греф, – естественный отбор. Кто-нибудь знает из вас, сколько дней живет на фронте красный лейтенант?
– Занятный вопрос, – подал голос Главачек. – Думаю, после нашей победы статистики этим займутся.
«Больше им заняться будет нечем», – подумал, в свою очередь, я, прикидывая, чем бы после войны могли заняться великогерманские статистики.
– Теперь я понимаю, почему у них такие потери, – удовлетворенно заключил Гольденцвайг.
– Но они, подлецы, тоже учатся, – огорченно отметил Браун. – Цепью в рост на пулеметы не бегают. Раньше, помню, была благодать – устроишься поудобнее и лупишь как тараканов, комиссары только валятся. Теперь поумнели, работают мелкими группами, только и смотришь, как бы гранатой в задницу не залепили.
– Когда как, – возразил ему Греф. – Вот придет такой героический лейтенантик и погонит красножопых за милую душу.
– У нас, что ли, такого не случается? – пожал плечами Дидье.
– Так и я о том же, – не стал спорить Греф. – Если даже у нас случается, то что же тогда у них?
Присоединившийся к беседе Каплинг предпочел рассказать, как происходит у нас.
– Я в палате лежал с одним парнишкой из войск СС. Страшные вещи рассказывал. Почти все сопляки-добровольцы, сильные, конечно, высокие, красавцы нордические. Но подготовки почти никакой. В первый же день после выгрузки их полковник погнал в атаку – чуть ли не строем, покажем, говорит, армейским крысам, что такое настоящее геройство. И так целую неделю. Пока полковника не сняли к чертовой матери, а их в тыл не отвели на переобучение. Кто остался в живых, конечно.
Меня мучили сомнения и нехорошие предчувствия. Последние посещали тут многих, ждать хорошего не приходилось, и для меня они были не внове. Однако на сей раз всё было как-то по-другому, даже не знаю как. Предстоящее массовое убийство подступало ближе и ближе. Мне было суждено стать его активным участником.
Разумеется, я кое в чем участвовал и прежде, но ни разу не был, скажем, в рукопашной, только слышал – и от таких рассказов выворачивало наизнанку. Я стрелял, возможно убивал, но никогда не видел убитого именно мною, во всяком случае, не знал об этом точно и потому не смог ответить на заданный Гизель вопрос. А тут, ни с того ни с сего, вдруг появилась уверенность, что увижу – и не только мертвого, но и умирающего, живого еще, теплого, раненного моими собственными руками и глядящего мне в глаза. У меня возникло непонятное желание исповедаться. Я сказал об этом лейтенанту Вегнеру. Тот удивленно хмыкнул:
– Что с вами, Цольнер? Вы же образованный человек.
В ответ я развел руками.
Воспользовавшись телефоном в батальонном штабе, Вегнер не без труда отыскал дивизионного католического капеллана. Как и евангелический, тот был сильно загружен работой – в нашей дивизии католиков хватало, – и потому далеко не всегда находился на месте. Я отправился в путь вместе с австрийцем Штосом, который тоже рассудил, что «перед этим оно не помешает».
Старший капеллан вооруженных сил по имени отец Георг оказался высоким, плотным и улыбчивым мужчиной. На его священнический сан указывали фиолетовые лацканы висевшей в прихожей шинели и крест на фуражке – аккурат под свастикой национальной эмблемы. На боку красовался не положенный по чину пистолет.
– Я не хотел бы стать добычей партизан, – заметил он, перехватив взгляд Штоса.
Он пригласил нас в одну из комнат занимаемого им и его коллегой беленого домика, где, набросив на плечи епитрахиль, приступил к совершению таинства. Я отправился первым, поскольку Штос заявил, что еще не вполне завершил испытание совести.
– Проведи его как можно тщательнее, – напутствовал его капеллан и, заведя меня за походный алтарь, после короткого вступления спросил: – В чем ты желаешь покаяться, сын мой?
Он говорил негромко, но внушительно, порою несколько нараспев, отработанными за годы служения речевыми блоками. Мне было труднее. Едва я увидел его пистолет, мое желание высказать мучившее меня пропало. И тогда я рассказал о Гизель. В конце концов, мои отношения с ней являли собою проступок против морали, а что раскаяние еще не пришло, так ведь на фронте его и вовсе можно было не дождаться. Отец Георг проявил интерес. Отметив бесспорную греховность произошедшего, он полюбопытствовал о подробностях. Выслушав обстоятельный ответ, удовлетворенно покачал головой.
– Выходит, получилось слишком быстро? Едва познакомились? Н-да. Но ты, я полагаю, собираешься на ней жениться?
– Скорее нет.
Я поймал себя на мысли, что еще ни разу об этом не думал. Отец Георг рассудительно заметил:
– Следовательно, это не любовь? Что же тогда? Признайся – у тебя были другие девушки?
– Да, – повинился я. Склонив голову и, возможно, слегка покраснев.
– Ты уже говорил об этом на исповеди?
– Я не исповедовался четыре года, – признался я вновь.
– Скверно, но поправимо, – посетовал капеллан. – Знаешь что? Расскажи-ка мне об этих девушках и постарайся не упустить ничего существенного.
Похоже, этот поп – большой весельчак, подумал я тут. Нормальный парень, которому не хватает того же, чего не хватает сегодня большинству нормальных парней. Однако рассказал ему всё, причем главным образом о существенном. О Гизель, о Кларе и даже о прекрасной бельгийке. Имел же я право поделиться хоть с кем-то, кто не станет мне ржать в лицо. Отец Георг не ржал, напротив – дал мне отпущение, а также пару полезных советов по духовному совершенствованию в полевых условиях. В завершение подарил мне и Штосу по новому походному молитвеннику.
Теперь я был вооружен не только гранатами и винтовкой. Душа моя была чиста, как никогда. У Штоса, полагаю, тоже – и в этом заключается преимущество истинной римской веры над аугсбургским и гельветским исповеданиями, в коих погрязли Дидье, Браун, Греф и сотни иных бедолаг. Если же серьезно, мне в самом деле стало легче.
Краски русского юга. Трусики на лампе
Флавио Росси
23 мая 1942 года, суббота – 26 мая, вторник
Ночью в Феодосии я впервые за время пребывания в России не ограничился ужином. Не помню, как ее звали, вероятно, я и не спрашивал. Делая свое дело, она сдержанно, но без притворства стонала – полузакрыв глаза, закусив губу и, похоже, получая удовольствие. А потом лежала, свернувшись калачиком, напоминая маленького беззащитного зверка. Я дал ей денег и спросил:
– Тебе хватит или еще?
Она растерянно кивнула и, не дав ответа, выпорхнула в коридор, аккуратно прикрыв за собою дверь. Я подумал о Зорице и осознал, что наконец она оставила меня в покое и я волен делать, что захочу.
– У вас вид хорошо отдохнувшего человека, – приветствовал меня за завтраком Грубер.
– У вас тоже.
– И заметьте, совсем не за дорого. Думаю, нам стоит задержаться здесь на пару деньков, отдохнуть на морском берегу, подготовить материалы о героях зимнего штурма Феодосии и нынешнего Керченского сражения. Ну а потом нас ждут столица Крыма и Севастополь.
– Мы не опоздаем к штурму?
– Не шутите, Флавио. Перебросить такую массу войск… Пусть уж лучше рассосется немного. Если выедем позже, так, может, и задержек в пути не будет.
Крымская столица показалась мне невзрачной. Керчь впечатляла ослепительным видом на бухты, пролив, азиатский берег. Феодосия – генуэзскими руинами и ощущением покоя. Судак – крепостной стеной, наброшенной, как ожерелье, на голые, нависшие над морем холмы в окружении безлесных, бесплодных и фантастических гор. А Симферополь был плоским и пыльным скопищем одноэтажных и двухэтажных строений, иногда прикрытых от улиц садиками – отнюдь не самыми ухоженными по причине вызванной войной неустроенности. Картину несколько оживляли храмы ортодоксальной церкви и мусульманский минарет, но и те выглядели довольно запущенными.
Приличные дома стояли только в центре. В один из них мы отправились почти сразу по приезде, лишь самую малость пробыв в гостинице. Была суббота, и Грубер сказал, что своими киммерийскими трудами мы заслужили себе право на отдых. Он отпустил Юргена, мы привели себя в порядок и, выпив кофе в гостиничном буфете, двинулись на танцевальный вечер, устроенный заботами военных властей для немецких и союзных офицеров.
Я не пожалел о решении Грубера. Ступив в обширный зал, где нам предстояло провести несколько беззаботных и, вполне вероятно, счастливых часов, я немедленно пришел к выводу, что если измерять столичность и провинциальность количеством красивых девушек на единицу площади, то Феодосия, и тем более Керчь, и даже город на Днепре покажутся рядом с Симферополем тоскливым захолустьем. Разумеется, не все из толпившихся в зале красавиц являлись местными уроженками, но ведь тем столица и отличается от периферии, что магнитом притягивает к себе лучшее, что наличествует в стране: интеллектуальные, художественные, трудовые и прочие здоровые силы. Тем более если в столице располагается штаб-квартира отдельной армии и оккупационная администрация генерального округа – не говоря о резиденции фюрера СС и полиции Таврии и Крыма.
Я сразу же обратил на нее внимание. В простеньком сиреневом платье с белым воротничком, с темными волосами, завитыми явно не в парикмахерской, в туфельках со стертыми на четверть каблучками, она всё равно казалась милее прочих. Возможно, лишь потому, что была в моем вкусе и чем-то – не лицом, а скорей силуэтом и пластикой – напоминала мне Зорицу. Роль играло не сходство Нади с моей миланской любовью, но то, что обе относились к одному и тому же наиболее привлекательному для меня типу. Недорогое платьице прекрасно подчеркивало все необходимые выпуклости женской фигуры, с которыми у Нади, при ее всей юности и свежести, дело обстояло наилучшим образом.
Грубера она не заинтересовала. Он сразу же занялся худощавой пергидрольной блондинкой, взиравшей на мужчин подобно женщине-вамп и не оставлявшей никаких сомнений в высшей степени своей доступности. Увлекательный, но нелегкий труд соблазнителя был чужд высокоученой натуре доктора и зондерфюрера, об этом он сказал еще в городе на Днепре. «Занятия наукой не оставляют на подобное ни времени, ни сил, а снимать напряжение периодически нужно. В этом смысле я пошлейший из буржуа».
Знакомство с Надей было облегчено одним немаловажным обстоятельством. Вместе с ней и ее подругой здесь находился мой старый приятель, еще по университету, Пьетро Кавальери, тоже журналист и в последние годы военный корреспондент. Встреча была приятной, но вовсе не неожиданной. Я прибыл ему на смену.
– Ну, наконец-то! – воскликнул он, подойдя ко мне в сопровождении двух русских граций, чье присутствие заставило сладко сжаться сердце старого романтика – возможно, одного из последних на Апеннинском полуострове.
– У тебя прекрасный эскорт, – не стал я размениваться по мелочам. Звуки фокстрота и мягкое освещение зала побуждали к решительным действиям. Пьетро без колебаний пошел мне навстречу.
– Если хочешь, он будет твоим. Всё равно я завтра уезжаю.
Он давно дожидался моего приезда, чтобы покинуть Крым и отправиться на родину. Хотел ли он этого сам или то была воля комитета по делам военной прессы, мне точно известно не было, в такие вопросы я предпочитал не вникать. Тарди дал мне понять, что Пьетро и его газета не вполне справляются со своими, в принципе, несложными обязанностями по освещению военных действий на юге русского фронта, что же конкретно имеется в виду, я у Тарди не спрашивал. Но рад мне Пьетро был до чрезвычайности.
– Мужчины, вы не вежливо люди, – сказала подруга Нади на кошмарном немецком. – Про итальянцы говорить как очень вежливо, а вы – фи…
– Прошу прощения! – спохватился Пьетро, переходя на общепонятный язык объединенной Европы. – У меня есть оправдание – я встретил старого друга, которого не видел почти три года.
– Три с половиной, – заметил я. – Теперь ты наконец представишь меня своим очаровательным спутницам?
– Это даже не вопрос. Надежда Лазарева, прекраснейшая из жемчужин Симферополя и Южного берега Крыма. Валентина Орловская, другая прекраснейшая жемчужина означенного региона. Флавио Росси, золотое перо Милана, Италии и Абиссинии.
Я поклонился, адресовав обеим красавицам в меру смущенную улыбку. И добавил:
– Ты забыл про Испанию, Пьетро.
– О да! Ему рукоплескали Севилья, Бургос и Саламанка. Генерал Франко требовал ежедневного перевода его корреспонденций на испанский. Для собственного ознакомления и перепечатки в местной прессе. Долорес Ибаррури, Негрин, Кольцов, Хемингуэй и лично Илья Эренбург грозились повесить его на самом высоком мадридском столбе. Трое последних исключительно из зависти.
Надя расхохоталась, проявив достаточно ума, чтобы не поверить нелепым фантазиям Кавальери, а ее подруга обласкала меня долгим внимательным взглядом – поправив при этом белокурую прядку и нежно приоткрыв умело обрисованный ротик. И, конечно же, ничего не поняв из того, что городил тут Пьетро. Она тоже была невероятно мила, примерно той же конструкции, что и Надя, но с еще более заметной грудью, возможно и содержавшей излишек, ощутимый во время прогулок, но в известных обстоятельствах суливший мужчине радостное потрясение. Не меньшее обещали и чувственные голубые глазки искренней и опытной шалуньи.
Фокстрот окончился, заиграло танго, и Пьетро, взяв Валю за руку, решительно повел ее в круг. Я поклонился Наде и спросил, добавив в голос долю неуверенности в ее позитивном ответе:
– Вы позволите?
– Это даже не вопрос, – повторила она излюбленную фразу Пьетро Кавальери. И улыбнулась в ответ.
Аргентинский танец я любил со студенческих лет и, хотя гениальным танцором не был, в целом неплохо справлялся с его основными па. Надя, как выяснилось, тоже. Положив мне руку на плечо, чуть откинув назад головку, слегка закусив губу (и напомнив мне феодосийскую горничную), она словно вбирала в себя разливавшуюся по залу мелодию – со всеми ее рублеными и плавными частями, стремительными подъемами и мягкими спусками, скрипками, аккордеонами и ударными. Я радостно ощущал ладонью гибкую талию, упругую и податливую одновременно, и не в силах был оторваться от сияющих загадочным счастьем огромных и весьма неглупых глаз. А потом, когда музыка смолкла, не мог понять, отчего Надежда сделалась серьезной и печальной.
– Вам нехорошо? – спросил я ее, на сей раз безо всякого притворства.
– Что вы, что вы. Было так чудесно. Просто нам с Валей пора уходить.
Мы договорились о встрече на следующий день, на четыре часа пополудни.
– Так ты еще не понял, что война проиграна? – удивленно спросил меня Пьетро во втором часу ночи, когда мы, и без того выпив больше, чем планировали, по-прежнему не могли остановиться.
Моя рука с бокалом красного замерла на полпути между столом и губами.
– Кем?
– Нами, разумеется, – пожал плечами Пьетро, нимало не смущенный моей непонятливостью.