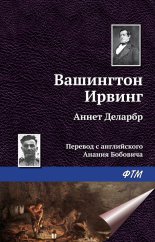Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

– Спасибо.
Вероятно по привычке, старший стрелок поднес карточку к месту, где у обычного суконного кителя находился нагрудный карман. Однако на хлопчатобумажной куртке таковые отсутствовали, и он, подумав, спрятал мои координаты в брючный. Я продолжил беседу.
– Кто вы по специальности?
– Военной? Стрелок.
– Я имею в виду университет.
– Ах, вы об этом. История искусств. Правда…
– О-о! – протянул я, действительно изумленно. Кого только не встретишь на дорогах войны… Кажется, старший стрелок был моей реакцией смущен. Чтобы его ободрить, я решил продолжить тему. – Думаю, здесь, в Крыму, вам должно быть интересно. Ведь эта земля помнит народы, куда более достойные, чем ее нынешние, точнее вчерашние, владельцы. – Незаметно для себя я перешел на язык идиотов-пропагандистов. – Греков, римлян, готов, генуэзцев…
Парень не очень уверенно покивал головой. Второкурсник, что с него взять – наверняка в свое время на уме были не готы и уж тем более не генуэзцы. Возникшую было паузу прервал стоявший рядом Шёнер, вновь продемонстрировавший риторические навыки. Не лишенным изящества жестом он указал на солдат и промолвил:
– Теперь эта земля будет помнить их.
Юрген оказался прав – бензина в лагере ему налили. Правда, выехали мы только на следующее утро – комендант и офицеры пригласили нас на ужин, отказаться от которого не было возможности, не говоря уже о том, что приходилось думать о ночлеге. «К началу операции мы опоздали безнадежно, а Керчь без нас не возьмут», – справедливо рассудил зондерфюрер.
Одиннадцатого мая мы быстро и почти без остановок катили по грунтовой дороге в сторону Керченского полуострова, обгоняя шедшие в тучах пыли колонны грузовиков. Спустя несколько часов мы добрались до места, где восьмого числа началось наступление. Всё вокруг говорило о его успешном и стремительном ходе. Вскоре мне наскучило снимать брошенное русскими военное имущество. По обеим сторонам трассы виднелись танки, автомобили, тракторы, разбитые, а то и вполне исправные пушки. Табунами бродили лошади. Здоровые спокойно щипали траву, другие же, раненные осколками и пулями, жалобно ржали, поджимали перебитые ноги или лежали на земле, в предсмертной тоске поднимая и вновь опуская головы. Несколько раз попадались группы немецких техников – они осматривали русские танки, оценивая степень их пригодности. Тут же трудились занятые буксировкой германские тягачи.
Щелкнув напоследок пару панорам с убегавшими вдаль столбами знаменитой англо-индийской телеграфной линии, связывавшей некогда Лондон и Калькутту (и служившей инструментом британского империализма, как сказал бы зондерфюрер в очередной своей лекции), я занялся просмотром записей и набросками будущих корреспонденций. В частности, обработкой вчерашних бесед с солдатами. В лагере я поговорил еще с тремя, заполучив таким образом полный социальный комплект.
«Высокий и смуглый – воздействие жаркого крымского солнца – он напоминает чем-то наших соотечественников. Твердый и решительный взгляд, волевой подбородок, четко очерченная линия рта…» Бог знает, какая там была линия, но воин-победитель должен выглядеть так. Но можно и слегка детализировать. «Однако те же самые глаза становятся вдруг мягкими и веселыми, в них светится ум и…»
Что еще может светиться в солдатских глазах? Впрочем, главное намечено, непреклонные нордические болваны давно всем приелись, немцы тоже люди, и итальянцы это знают. «Его зовут Курт Цольнер. Он с немецкого юго-запада. Это многое объясняет, возможно, подумает кто-то из наших читателей или читательниц. Но нет – Курт Цольнер такой же, как и его боевые товарищи из других немецких земель. Не в том, конечно, смысле, что все они на одно лицо или обладают одинаковыми чертами характера, являя собой то, к чему стремится нивелирующая система большевизма. Речь не об этом…»
А о чем? Кстати, два раза подряд промелькнуло местоимение «то»: «в том смысле», «являя собой то». Да еще и «об этом» в придачу. Но пока можно пропустить, в первую очередь излагается суть. «Он принадлежит к классу, который принято называть образованным. Иными словами, к интеллигенции. Как часто в последние годы это слово становилось едва ль не синонимом равнодушия к судьбам нации, отрыва от народа, непонимания…» Непонимания чего? – снова задумался я. Ну, скажем, собственной страны, хотя звучит не очень. Ладно, решим потом. «Подобно миллионам немцев, его родители сегодня трудятся во имя грядущего торжества германского народа. А сам он, подобно миллионам других, носит сегодня серый мундир и держит в руках оружие, которое следует назвать оружием победы. Оружием чести. Оружием славы. С памятного дня двадцать второго июня сорок первого года он сражается под знаменами фюрера, неся свободу порабощенным народам построенного на крови советского «союза». Слова, подумает скептик. Но за словами – великая правда».
Или лучше «правда истории»? Подумаю после. «Тот, кто видел застенки НКВД…» Я не видел застенков сталинской тайной полиции, но подробностями можно поинтересоваться у Грубера. «Кто представляет себе беспросветную мглу колхозного рабства и ужасы искусственного голода, этого изуверского орудия террора, изобретенного коммунизмом…» Хм, знакомство с Ярославом Луцаком не только обеспечило меня икрой, но и обогатило новыми образами. Не добавить ли про геноцид украинского крестьянства? Впрочем, кто знает, насколько это согласуется с генеральной линией. И вообще слишком длинно, пора заканчивать мысль и возвращаться к Курту Цольнеру. «Тот не станет задавать ненужных вопросов». Есть!
«Он отвечает точно и по существу. Чувствуется привитая армией привычка к немногословности. Воевал, был ранен, побывал на родине, счастлив видеть земляков верящими в торжество национального социализма и Великой Германии. И всемерно способствующими грядущему триумфу. Ведь это так важно – не ощущать себя одиноким, особенно когда ты на фронте. И он не одинок. В городе, небольшом университетском городе в южногерманских горах его дожидается девушка. Энхен, Лизхен, Гретхен? Он не называет ее по имени, а я его не спрашиваю. Ведь это совсем не важно. Я вижу по лицу – их чувство глубоко и взаимно».
Как у меня с Зорицей или как у Тарди с Еленой? Не надо, однако, быть пошляком и равнять всех с собой, этот парень младше меня в два раза. «Она его ждет, а что в наши дни важнее? Что позволяет солдату существовать вопреки всему и преодолевать самоё смерть? И возможно, благодаря этой девушке даже здесь, в глубине России, он не забывает о будущей мирной жизни. Жизни, в которой будут семья и дети. А также университет, книги, возможно – ученая карьера. История искусств, которой он решил себя посвятить, никогда не утратит прелести и…» Напишем пока: «актуальности». «Даже здесь, на древней крымской земле, он находит применение своим недюжинным познаниям. Мы говорим с ним о греках и готах, о Византии и генуэзцах, он рассказывает, что мечтает побывать в Пантикапее и Херсонесе, в Кафе и Чембало».
Я заглянул в немецкий путеводитель, которым обзавелся в городе на Днепре, сверил названия и добавил Керкинитиду, Еникале и Согдейю.
– Чем вы там заняты? Строчите? – спросил Грубер. – Доставайте лучше камеру – перед нами представители братской семьи народов страны победившего социализма.
Я выглянул в окошко и увидел двигавшуюся вдоль дороги человеческую массу – русских пленных, огромную колонну, хвост которой терялся где-то за холмами. До сих пор я мог наблюдать подобное исключительно в кинозале. Они шли практически без охраны, по десять человек в ряд, а местами и вовсе беспорядочной толпой. Грязные, заросшие, оборванные. Держа руки в карманах распахнутых шинелей или измятых, побелевших от солнца бриджей. Сопровождающие их верховые, вооруженные винтовками и в касках, почти не обращали на подконвойных внимания. Когда мы, выйдя из машины, приступили к съемке, один из пленников, чем-то похожий на сицилийца, приветливо махнул нам рукой. Грубер ответил ободряющим жестом и с непонятной печалью сказал:
– Вглядитесь в лица. Оцените покорность. Вот она, сегодняшняя Россия.
Лица и в самом деле представляли интерес. Многие военнопленные больше походили на турок, чем на русских, – черный волос, горбатый нос.
– Средиземноморский тип, – не без ехидства пояснил мне Грубер. – Для русских просто кавказцы. Азербайджанцы, армяне, грузины и прочие «нерусские». Которые не очень-то рвутся проливать кровь за своего земляка – Иосифа Сталина. Кстати, я узнал, что в самом начале наступления прорыв был совершен как раз на участке азербайджанской дивизии. Накануне ее солдат-мусульман обрабатывали листовками на их языке, призывая сдаваться в плен и переходить на нашу сторону. Но дело не только в листовках. И не только в азербайджанцах. И возможно, не в исламе. Просто сегодня карта Сталина бита – и никто не желает его защищать.
В том, что карта Сталина окончательно бита, я усомнился на следующий день, когда пришли известия о начале русского наступления под Харьковом. Но первоначальное продвижение сталинских армий не поколебало уверенности Грубера. «Оно обречено», – мрачно сказал зондерфюрер. Боевые офицеры, а наш разговор шел в офицерской столовой, устроенной в огромной палатке невдалеке от передовой, согласно закивали головами, подтверждая, что русские лезут в мешок.
В те несколько дней мы мотались почти без отдыха. У меня раз пять заканчивалась пленка, Груберу приходилось выручать меня, обращаясь к коллегам-пропагандистам. Семнадцатого мая мы въехали в занятую немцами, или, как выразился Грубер, «вторично освобожденную» Керчь – большой портовый город, раскинувшийся у пролива, соединяющего Черное море с Азовским и отделяющего Крымский полуостров от Таманского.
– Занятно, – заметил Грубер, – но Керчь вновь попадает в наши руки шестнадцатого числа, ровно через шесть месяцев после того, как мы вошли в нее первый раз.
– Шестнадцатого ноября? – прикинул я.
– Угу. Правда, тогда мы продержались тут недолго, перед Новым годом русские высадили десант и показали, что у них тоже порой кое-что получается. Но только порой. А потом почти полгода полного беспорядка. Сотни тысяч людей, танки, самолеты – и всё лишь ради того, чтоб снабдить нас трофеями. Кстати, на обратном пути завернем в Феодосию. Говорят, там русские при высадке перебили наших пленных, будет о чем написать.
Что касается трофеев, то Грубер был прав. Такого количества я прежде не мог себе даже представить. Улицы и окрестности города были буквально забиты грузовиками, повозками, полевыми кухнями, артиллерией, продовольствием, обмундированием, разнообразными боеприпасами. Фотографировать стало неинтересно, в предыдущие несколько дней я наделал достаточно снимков. Местами выщербленные стены домов были забрызганы кровью, немецким солдатам, продвигавшимся в сторону порта, приходилось постоянно обходить валявшиеся на мостовой трупы в русских армейских рубахах. В какой-то момент перемещаться на автомобиле стало физически невозможно. Оставив Юргена, мы двинулись пешком, медленно поднимаясь на холм, господствовавший над городом и бухтой. На ведущей вверх тропинке дежурили жандармские патрули. Какой-то фельдфебель, проверив мои документы, добродушно заметил:
– А стоит ли? Русские с окраины порой колошматят по центру. Да и самолеты ихние летают.
– Такова наша работа, – с улыбкой ответил Грубер.
Перебравшись через разбитые позиции зенитных батарей, где лежали еще не убранные тела накрытых артиллерией зенитчиков, мы очутились на самой вершине, где копошилось множество немецких солдат. Открывшееся нам зрелище можно было назвать величественным без малейшего преувеличения. Прямо перед нами лежала обширная бухта, чуть левее – пролив, за которым, словно в тумане, виднелись очертания таманского берега. На северо-восточной окраине города, ближе к проливу, продолжалась стрельба. Горела нефть, черный дым временами скрывал от нас солнце. С воем носились «Штуки». Их целью была переправа, где русские пытались организовать эвакуацию. Мы хорошо видели суда и суденышки в проливе, а также множество медленно двигавшихся точек, скорее всего самодельных плотов, на которых красные хотели переправиться на противоположный берег. Иногда к ним подходили русские катера, по-видимому, чтобы забрать спасающихся – хотя на таком расстоянии было почти невозможно понять, что происходит на самом деле. Там и сям взметывались ввысь поднятые снарядами фонтаны воды – немецкая артиллерия и минометы вели огонь по отступающим. Изредка с той стороны отвечала невидимая нам русская артиллерия. Неожиданно появившийся русский самолет, мне известный по Испании как «крыса», был незамедлительно атакован двумя «Мессершмиттами» и, задымив, неловко повалился в воду.
– Достойное подтверждение преимуществ коллективизма над индивидуализмом, – прокомментировал Грубер. – То самое, на что молились большевики. Но молиться – это одно, а уметь организовать коллектив – другое.
– Или боевое взаимодействие, – бросил стоявший рядом с нами лейтенант-артиллерист, вероятно наблюдатель.
– Это то же самое, – ответил Грубер. – Кстати, Флавио, вы чувствуете себя стражем Европы у границ Азии? Эллином Геродота? Героем «Анабасиса»? Этером Александра Македонского? Крестоносцем на берегу Дарданелл?
Я не нашелся что ответить. Зондерфюрер продолжил, почему-то понизив голос:
– Невероятно, но я ощущаю нечто подобное. И это ужасно глупо.
Разгром был полным и сокрушительным. Говорили о ста семидесяти тысячах пленных, сотнях захваченных танков и пушек, неисчислимом количестве снарядов и патронов. «Теперь нам придется перейти на русское оружие, – пошутил кто-то из немцев. – Ведь надо как-то извести трофейные боеприпасы». В тот же день поступили известия о немецком контрударе в районе Харькова. «Чего и следовало ожидать», – кратко заметил Грубер. Почти все русские к северо-востоку от Керчи были либо захвачены в плен, либо ушли на таманский берег. Лишь в отдельных местах они еще продолжали переправляться и оказывать сопротивление, неся огромные потери от бомбежек и орудийно-минометного огня. Совершив поездку к местам завершающих боев, мы осмотрели завод, бывший некоторое время ключевым объектом русской обороны, и понаблюдали за приемом новых пленных.
– Для них война окончилась, – сказал бывший с нами лейтенант из роты пропаганды. – Но я не перестаю удивляться, с какой готовностью они бросают оружие.
– За исключением психопатов, укрывшихся в окрестных каменоломнях, – заметил на это сопровождавший нас лейтенант пехоты; он служил в дивизии, стоявшей в Керчи еще прошлой осенью и зимой. – Такое было и в прошлый раз. Те, первые, сумели дождаться новогоднего десанта и соединиться со своими. Кто выжил, конечно.
– Думаю, этим придется ждать слишком долго, – ответил лейтенант-пропагандист. – И никогда не дождаться. Учитывая происходящее в районе Харькова, сомневаться в близком разгроме красных не приходится.
Я не удержался от вопроса офицеру пехоты.
– Честно говоря, мне верится с трудом. В каменоломнях, почти полтора месяца… Чем они питались? Где брали воду?
– Воду? Слизывали со стен. А мы их морили голодом и пытались утопить, запуская в штольни воду из моря.
– Страх перед комиссарами, – решительно заявил лейтенант-пропагандист.
Лейтенант пехоты, помедлив, кивнул.
– Разумеется, что же еще.
В Феодосию мы отправились, не дожидаясь, когда последний участок керченского берега будет очищен от русских войск. «У меня еще множество дел в Симферополе, – сказал зондерфюрер, – надо посетить Евпаторию, Ялту, Алушту – и всё это прежде, чем Манштейн возьмется за Севастополь».
Одним из первых впечатлений от нового города, древней генуэзской Кафы, была вынужденная остановка – которая по счету за последние дни? – на оцепленной солдатами улице, представлявшей собой ряд полуразрушенных или крепко побитых снарядами домов. У крытого брезентом грузовика с номером, привычно начинавшимся буквами WH, толпились два-три десятка людей самого разного возраста. Тут же с винтовками наперевес стояли татарские добровольцы (Грубер научил меня отличать их от русских). Руководил операцией коренастый эсэсовский чин – его я определил по черным петлицам на вороте. Я плохо разбирался в знаках различия СС, всех этих полосках и квадратиках, однако погоны на плечах давали понять, что звание его соответствует фельдфебельскому, не знаю уж, каким именно «фюрером» он был в иерархии «черных». Впрочем, мундир его был не черным, а серого, вполне полевого цвета. Несколько светлее, чем у стоявших на мостовой серо-зеленых солдат с обычными армейскими петлицами в воротниках.
– Большевики, евреи, укрыватели, – объяснил остановивший нас жандарм. – Повылазили тут при советах после Нового года. А в январе удрать не успели, попрятались. Вот подчищаем понемногу. Саботажники опять же.
Люди торопливо, но не всегда успешно взбирались в кузов автомобиля. Одной женщине, еще молодой, наспех одетой, с растрепанными светло-русыми волосами, это никак не удавалось, она дважды срывалась под громкий смех добровольцев и немцев. В конце концов солдат с ефрейторской нашивкой, напомнивший мне Курта Цольнера, отдал товарищу винтовку и подошел к грузовику. Легко приподнял женщину, подсадил на край кузова. Потом подал ей ребенка, мальчика, года на три младше моего Паоло, лет девяти. Тоже русого, во вкусе госпожи Портниковой.
Я посмотрел на своих спутников. Юрген побелевшими пальцами стиснул баранку, Грубер внимательно изучал схему города. Тем временем один из задержанных, полный мужчина без пиджака, в рубашке и подтяжках, что-то сказал одному из татар и в ответ получил по зубам. Добровольцы снова заржали, ефрейтор вступил в перебранку с татарином, но не был поддержан другими немцами. Вмешался эсэсовский фельдфебель, и стороны послушно разошлись, давая возможность оставшимся саботажникам залезть в кузов (уже находившиеся там помогали товарищам по несчастью). Наконец погрузка завершилась. Грузовик уехал, оцепление сняли, и мы смогли отправиться дальше.
В тот же день мы посетили музей, где встретились с очередным знакомым Грубера, историком и тоже специалистом по славянам, ныне – сотрудником команды «Крым», занимавшейся, как он выразился, учетом культурных ценностей. Русский музейный работник (директор был болен, но, кажется, врал) устроил для нас небольшую экскурсию и в завершение преподнес мне сверток, развернув который я обнаружил средних размеров деревянную икону, выполненную в старинном русском стиле.
– Что это? – не понял я.
– Маленький презент, – улыбнулся тот.
– Но это же произведение искусства, быть может, семнадцатый век.
– Вторая половина шестнадцатого, – уточнил знакомый Грубера, повертев в руках расписанную потемневшими красками доску. И добавил: – Берите, господин Росси, это из подарочного фонда.
– Какого? – опять не понял я.
Грубер, кажется, тоже не понял. Во всяком случае, последней формулировки. Историк развел руками и пояснил:
– Видите ли… Мы отобрали тут всякие безделушки для награждения отличившихся офицеров, чтобы они могли привезти на родину маленький экзотический сувенир. После войны, когда всё утрясется, это будет стоить хороших денег. Так что не смущайтесь, перед вами общий подарочный фонд новой Германии и объединенной Европы. Вот…
– А это для господина Грубера, – перебил его музейный работник. Грубер только покачал головой и, не разворачивая, сунул подарок в портфель.
Вечером мы отметили керченскую победу в компании историка и одного немецкого репортера. На следующий день посетили военный госпиталь, где, по словам Грубера, под Новый год большевики уничтожили немецких раненых: часть была убита на месте, а часть вытащена на берег, облита водой и оставлена погибать на морозе. В обед – всё в той же компании – мы отпраздновали новые успехи под Харьковом и ближе к вечеру ощутили чудовищную усталость. Сказалось как напряжение последних дней, так и количество выпитого. Вливать в себя шампанское средь бела дня, пусть и неплохое, практически летом, в жару, нелегко. Грубер предложил пойти на набережную и немного подышать морским воздухом. Я с радостью согласился, понимая, что оставаться в номере – обрекать себя на муки.
На широком променаде слегка пришедшего в себя Грубера потянуло на рассуждения о русской литературе и особенностях национального характера – тему для меня новую и потому интересную.
– Я равнодушен к Толстому, но Достоевский довольно занятен, – говорил зондерфюрер, медленно прогуливаясь вдоль парапета, у основания которого с мягким шумом плескались волны, пока еще зеленые, но начинавшие уже темнеть. – Он неплохо сумел показать некоторые особенности русской души и даже создал ее своеобразную типологию. Вы читали «Братьев Карамазовых»?
– Не очень внимательно.
– Я напомню. Представьте себе следующую констелляцию. Отец – тиран и самодур. И три его сына – три совершенно не похожих на первый взгляд типа, которых объединяет то, что они русские. Один, что называется, в отца, хотя всё же несколько лучше. Его зовут Дмитрием. Бабник, греховодник, игрок, буен и смел, порой до безумия. Если увлечется, может наделать бед, но потом станет искренне каяться. Другой, Иван, холоден, расчетлив, на пути к своей цели не остановится ни перед чем, но каяться не станет, всегда найдет оправдание и обоснование собственной подлости, которая окажется и не подлостью вовсе, а чем-то правильным и нужным. Для Достоевского он человек западного типа, что вовсе не означает его нерусскости, это тоже русскость, но, так сказать, в извращенной форме, результат порчи, которой подверглось, с точки зрения автора, русское общество в результате ненужных заимствований. Третий – Алексей. Смиренный, богобоязненный, готовый простить всех, но твердо стоящий на неких нравственных принципах, ко всему еще и монашествующий. Некий идеал, возможно – импотент. Ну, а рядом с ними – четвертый. Незаконнорождённый Смердяков. Фамилия говорящая. Понимаете, что она означает?
– Я ведь почти не знаю языка.
– «Смердеть» – старинное русское слово, значит «вонять, дурно пахнуть». Оно, в свою очередь, происходит от еще более древнего слова «смерд», то есть «зависимый человек, холуй, холоп» – по крайней мере, во времена Достоевского оно понималось примерно так. И вот этот Смердяков, лакей в доме собственного отца (оцените изящество мысли прозаика), являет собой всё самое отвратительное в русском характере. Он способен сделать то, о чем подленький, но умный, правильный и осторожный Иван может только робко подумать. Для него не свято ничто. Ни семья, ни принципы, ни вера, ни родина, наконец. Он прямо так и говорит, с гордостью: «Я всю Россию ненавижу». Неплохо сказано, а? Этакое богоборчество на русский лад. И он же о нашествии Наполеона: было бы хорошо, если бы умная нация покорила весьма глупую. В конце концов Смердяков, истолковав по-своему и в общем-то правильно намек «западного человека» Ивана, убивает отца. Дмитрий идет за это на каторгу. А Алексею остается лишь негодовать, прощать и каяться в чужих грехах. Правда, интересно?
– Мрачноватая история, – проговорил я, глядя в открытое море. Оно было пустынным, совсем не таким, как под Керчью. Лишь далеко в стороне, у причалов морского порта, стояли немногочисленные немецкие катера, скорее моторные лодки, а также несколько кораблей, брошенных русскими при бегстве во время январского штурма. Пустынной была и набережная – почти никого, кроме нас, только военные патрули и укрытые маскировочными сетками расчеты зенитных орудий, грозно уставивших ввысь стволы, темневшие на фоне вечернего неба.
– Но назидательная, – сказал Грубер. – Мне порой кажется, что русские бьют все рекорды по проценту людей, ненавидящих свою страну. И этим рейх умело пользуется. Смердяков – такой союзник, которому поистине нет цены. И которого мало где найдешь в таком количестве.
Я не спешил соглашаться.
– Коллаборанты есть везде. Во Франции их больше.
– Тут имеется множество качественно иных коллаборантов, совсем не похожих на французов или, скажем, голландцев. Французский коллаборационизм зачастую трудно отделить от повседневной практичности. Иногда перед нами предательство, но чаще всего лишь факт, что жизнь продолжается. Надо печь хлеб, обеспечивать насущные нужды, предоставлять работу и минимум развлечений. Короче, делать так, чтобы работали театры, рестораны, кафе, магазины. Для получения разрешения на это вовсе не требуется предавать соотечественников. Война проиграна, но Францию никто не уничтожает. Более того, она наш союзник.
– Но Россию, как я понимаю, тоже не уничтожают.
Мы дошли до края набережной. Дальше на довольно большом пространстве расстилался галечный пляж, отделенный от городских построек пробегавшей чуть выше железной дорогой. Грубер остановился и, насупившись, заложил руки за спину. Расположившиеся неподалеку зенитчики с любопытством поглядывали на двух нетрезвых господ, одного в офицерском мундире, другого в летнем штатском пиджаке. Если бы они еще догадывались, о чем мы говорим…
– Не лукавьте, Флавио. России больше не будет. И те, что по-настоящему служат нам, не могут о том не догадываться. Тем более что война продолжается и каждый день гибнут тысячи их соотечественников. Очень часто на их же глазах. Нередко от их собственных рук. Нет, это совсем другое. Душевная болезнь.
Я ответил не сразу.
– А разве нельзя сказать, что это наследие кошмарной русской революции, кровавой гражданской войны и раскола, поразившего русское общество? Массовые убийства, взаимная ненависть, сведение счетов. Множество обиженных и озлобленных людей, лишенных коммунистами элементарных человеческих прав.
– Можно. Но ведь и гражданская война порождена, на мой взгляд, всё тем же Смердяковым… в соавторстве с Иваном Карамазовым. – На лице Грубера мелькнула его обычная ироническая улыбка. – Никак не объяснить всего нерешенностью аграрного, рабочего, национального или даже еврейского вопроса. Здесь иное – ненависть к самим себе в сочетании с искренней верой, что лично ты всё же лучше других и можешь, убив ближнего или, например, разрушив свою страну, сделать мир счастливее и богаче. Отсюда большевизм – я имею в виду ранний, нынешний декларирует свой патриотизм. Отсюда неуклюжая национальная, а на деле антинациональная политика. Отсюда красный террор.
– Разве Смердяков и Иван стремились сделать мир счастливее и богаче?
– Верное замечание. Но Смердяков – это, так сказать, безыдейная форма болезни. Идейная описана в другом романе, «Бесах». Не читали?
– Нет.
– Любопытнейшая вещь. Вернетесь в Италию, займитесь на досуге, местами скучно, но постепенно втянетесь. Детектив la russe. Большевики оценили Достоевского по заслугам. Было время, его хотели изъять из публичных библиотек. О существовании «Бесов» вспоминать не принято до сих пор, иначе возникнет вопрос: почему сочинения контрреволюционера не запрещены вообще, а тех, кто занимается их изучением, поголовно не расстреляют?
Нельзя отрицать, что беседы с Грубером бывали порой в высшей степени познавательны. Мне было бы интересно узнать его мнение о психологическом состоянии Германии. Но я не стал его спрашивать о подобных вещах.
Между тем зондерфюрер продолжил, задумчиво глядя на волны, неторопливо набегавшие на кромку лежавшего под нами пляжа.
– Впрочем, какая разница, запрещен, разрешен… Время Достоевских прошло. Вы ведь обратили внимание – я сказал: России больше не будет.
Он смотрел на меня в ожидании ответа. Мне показалось, я смогу помочь ему точнее выразить мысль.
– Я понимаю вас, Клаус. Небольшое преувеличение с целью сделать суждение острее и отчетливее.
Зондерфюрер поводил головой из стороны в сторону, словно бы ворот давил ему на шею.
– Никакого преувеличения, Флавио, – ответил он строго. – России действительно не будет. Никогда. Ее не должно быть. Она не нужна Европе. – Грубер сделал паузу и расстегнул воротник. – Если бы вы знали, какие сейчас разрабатываютс планы по сокращению народонаселения на Востоке, поощрению германской колонизации и окончательному вытеснению монгольских русских орд с Европейского континента… – Он опять посмотрел на меня, будто бы опасаясь, что я заподозрю его в этнографическом невежестве. – Только не подумайте, ради Бога, что я считаю русских азиатами. Я не настолько глуп, я изучал славянскую филологию, неоднократно бывал в Ленинграде, имел друзей среди русских научных работников – и не могу обманывать себя. Но во имя блага европейской цивилизации, – в голосе его зазвучало странное вдохновение, столь далекое от привычной иронии, – во имя счастья всего человечества их превратят в азиатов. Загонят в Сибирь. А всех, кого сочтут нужным оставить… заставят трудиться… на нас. Иного они не заслуживают. Вы ведь сами могли убедиться – приличных людей в этой стране не осталось. Ее сожрал Смердяков. Ненавижу…
Он скривился и неожиданно всхлипнул, беспомощно, почти по-детски. Похоже, что мы оба сильно перебрали. Но произнесенные слова не стали от этого менее убедительны. Я действительно поверил, что России больше не будет, пусть я и не считал, что ее быть не должно.
Мы еще долго стояли на берегу, жадно вдыхая прохладный вечерний воздух. Ветер с моря приносил облегчение. Уходить не хотелось – напротив, хотелось остаться. Остаться и всматриваться в безмолвную даль, полыхавшую в лучах предзакатного солнца, багровым диском повисшего за спиной.
Но солнце в считаные минуты погасло. На море, на пляж, на притихший испуганный город легла непроглядная ночь.
Город славы
Красноармеец Аверин. Род. 1923
Вторая половина мая 1942 года, седьмой месяц обороны Севастополя
Моря в этот день я так и не увидел. Прибыли мы ночью, грузились вечером, я оказался в трюме, и говорили, оно даже хорошо: если потопят, так сразу ко дну, мучиться не придется. Я сразу понял, что это ерунда.
На причале мы ждали с утра, но скучали не очень сильно. Пока сидели, наслушались всякой музыки – нашей и американской. Утесов, Шульженко, Лещенко, антифашист Марек Вебер. Я давно уже столько всего не слышал, у нас в запасном полку совсем другой был джаз – в исполнении сержанта Рябчикова и лейтенанта Кривогузова. А тут радио играло почти непрерывно – так, видно, у моряков было принято, чтоб работалось веселее, что ли. Работы у них и впрямь было невпроворот, грузили боеприпасы, поднимали кранами огромные ящики. Любопытно было бы поближе подойти, посмотреть – но зачем у людей под ногами вертеться, когда они делом заняты, да и не разрешил бы никто.
Сидели мы под деревянным настилом. С одной стороны возвышался борт здоровенного транспорта, с другой подступала бетонная стенка. Потому ничего и не было видно, в смысле не было видно моря. Только слышно – волны плещут, чайки кричат, пароходы гудят иногда. Обидно, конечно, но я рассудил, что еще нагляжусь, коль пришлось оказаться на юге. И вновь изумился тому, сколько людей и оружия идет у нас против немцев. И если такая силища у нас, то какая ж она у них, если нам теперь снова так худо приходится?
А потом, ближе к вечеру, тоже по радио, хор краснофлотцев грянул: «Наверх вы, товарищи, все по местам…» Торжественно грянул, грозно – и началась погрузка личного состава. Застучали по сходням сапоги, потащили пулеметы, противотанковые ружья… Наша маршевая рота со Старовольским тоже подтянулась, стали ждать своей очереди. Разномастных маршевиков вроде нас грузили позже, сначала – боезапас и укомплектованные подразделения.
Однако продолжалась погрузка недолго. Едва краснофлотцы пропели: «Прощайте, товарищи, с богом, ура! Кипящее море под нами…» – как начался беспорядок. Раньше бы сказали «буза» – вроде той, что случилась в кавэскадроне из кинофильма братьев Васильевых «Чапаев». У нас кавэскадрона, разумеется, не было, но буза получилась не хуже.
Устроили ее кавказцы, целый батальон, а то и больше. Они тоже были маршевиками, но выглядели вполне строевой частью, всё, что положено, у них имелось – командиры, политруки, комиссар. И они-то как раз отказались грузиться, стали кричать, что никуда не поедут. Я и не думал, что такое бывает, не гражданская ведь война. Оказалось, бывает. Мне даже жутко сделалось – стоят на пристани сотни людей, в гимнастерках, ремнях, полной выкладке, и орут во всю глотку: «Зачем нам ваш Севастополь, тут оставаться будем, родной Кавказ защищать!» Некоторые подходили и к нам: «На убой посылают… Всё равно Севастополю крышка», – но это уже вполголоса, чтобы не услышали посторонние.
Начальники их растерялись. Комиссар с политруками просто встали в стороне, словно бы их тут не было. Некоторые командиры из младших бузили вместе со всеми и от имени красноармейцев говорили с капитаном корабля и начальником причала. Больше всех выступал молодой лейтенант, чем-то похожий на нашего Старовольского, тоже, видать, с незаконченным высшим. «Это, – говорил он, – неправильно, нерационально. Немцы захватили Керчь, скоро переправятся на Таманский полуостров, оттуда придут на Кавказ – кто защитит наши дома, нашу землю, наших матерей, наших жен? В Севастополе очень много войск, целый флот ему помогает, это неприступный черноморский бастион…» Вот и пойми, что у них на уме: одни кричат «все равно крышка», другие – «неприступный бастион». И так продолжалось полчаса, а может быть, и больше. Мы сидели рядом, видели. Рябчиков, тот только головой мотал – во дают, елдаши! – а Старовольский молчал, курил папироски, и вид у него был совсем нехороший. Ребята тоже помалкивали, ну и я молчал вместе с ними.
Как появились особисты, никто не заметил. Прикатили на «Виллисе» и двух грузовиках. Выскочили, рассредоточились, в руках на изготовку ППШ. Быстро и ловко оттеснили кавказцев от прочих – и кавказцы сразу затихли. И тогда из «Виллиса» вышел главный, по виду тоже кавказец, лет сорока пяти. Высокий, в ремнях, лицо черное, мятое. Прошел мимо нас, глянул мельком – запавшие глаза горели, как два уголька. И от взгляда его стало жутко, хоть бояться нам было нечего, мы ведь в бузе не участвовали.
Остановился неподалеку, рядом встали два автоматчика. И все замерли, безоружные, вооруженные, армейские и флотские, не издавая ни звука. Только чайки кричали изредка да билось в причалы море.
– Нехорошо, – сказал кавказец, медленно подбирая слова. – Очень нехорошо, товарищи… Родина доверила вам оружие. Доверила честь… защищать город… славы нашего народа. А вы… не оправдали доверия.
Стало еще тише, хотя тише, казалось, и быть не могло. Вскинув голову в фуражке с синим верхом, кавказец резко спросил:
– Кто не хочет в Крым? Пусть выйдет из строя. Он не поедет.
И сразу же взгляды устремились на лейтенанта, похожего на нашего Старовольского. Тот сделался бледнее смерти, было видно, как не хочется ему выходить. Но он вышел. Особист прокричал ему что-то на своем языке. Тот ответил. Кавказец опять закричал, громче прежнего, и тот ему снова ответил – хоть и без крика, но так, чтобы слышали и поняли все – если, конечно, знали язык. Особист покачал головой и что-то пробормотал. Потом спросил опять:
– Кто еще не хочет?
Медленно, с опаской вышел невысокий сержант, за ним, уже быстрее, сразу четверо красноармейцев. Особист-кавказец кивнул автоматчикам, и те стремительно завернули лейтенанту с сержантом руки за спину. Стали хватать и других, но кавказец распорядился:
– Остальных оставить, не будем ослаблять боеспособность подразделения.
А потом лейтенанта с сержантом отвели к бетонной стенке, и кавказец, не сходя с места, отчетливо произнес:
– По шкурникам, трусам и паникерам…
У сержанта и лейтенанта распахнулись от ужаса рты. Я невольно зажмурил глаза, и, уверен, не я один. Так вот оно как бывает…
Пауза тянулась вечность – пока всё тот же голос не сказал: «Отставить. Увести подлецов».
Лейтенанта и сержанта, подталкивая прикладами, загнали в кузов грузовика. Держа под прицелом, посадили на голые доски. Закрыли задний борт, щелкнули железными крюками. Теперь виднелись лишь две головы, но глядели оба, лейтенант и сержант, не на своих сослуживцев, а в сторону. Возможно, и вовсе никуда не глядели.
Кавказец обвел всех взглядом, нас зачем-то тоже, и усталым голосом спросил:
– Ну, кто еще не хочет защищать Севастополь?
Потом, обернувшись к капитану корабля и начальнику причала, бросил:
– Инцидент исчерпан. Продолжайте погрузку.
И только после этого обратился к комбату, ротным, комиссару и политрукам кавказцев, которые вытянулись перед ним в струнку, бледные, как тот лейтенант.
– А вам должно быть стыдно, товарищи. С такими вы должны справляться сами. А то как дети малые, без госбезопасности шагу ступить не можем.
Что они ответили, я не услышал. Снова ожил репродуктор, и хор Александрова, размеренно и твердо, как бы вбивая сваи в мерзлый грунт, запел о священной войне. Грузовики и «Виллис» укатили, причал пришел в движение, кавказцы гуськом побежали по трапам. Мимо нас провели под конвоем безоружных и распоясанных красноармейцев – тех, что сдуру пошли за лейтенантом. Вскоре погрузились и мы.
В трюме мне сначала показалось темно, однако со временем глаз привык – хоть и тусклые, но лампочки там имелись. Я и представить себе не мог раньше, что бывают на кораблях такие огромные помещения, похожие на заводской цех. Тут находилось множество разных ящиков – со снарядами, патронами, провиантом, – здоровые бочки с горючим и смазкой, и даже стояли лошади, жевали, уткнувшись в кормушки, сено.
Наша рота разделилась, мы с младшим лейтенантом Старовольским устроились в свободном уголке, стараясь ни с кем не смешиваться, чтоб чужие не поперли наши вещи. Вокруг звучала негромкая и нерусская речь. Приглядевшись, я увидел всё тех же кавказцев, серых, прибитых, напуганных. Порой по трюму пробегали занятые своим морским делом матросы. Зная об инциденте, смотрели на кавказцев исподлобья. За компанию – и на нас.
– Да, Багратионов среди них маловато, – сказал Старовольский. Скорее печально сказал, чем с издевкой. С непонятной, но очевидной тоскою в глазах. Сержант Рябчиков понял его по-своему, если вообще что-то понял. Но с готовностью подтвердил:
– Это точно, немного. – И добавил: – Может, закурите? Я как раз цигарку скрутил.
– Давайте, – проговорил Старовольский.
Нам самим было муторно смотреть на кавказцев, а вот Рябчиков в очередной раз рассмешил, даром что было совсем не до смеха. Уж он-то у нас точно Багратионом не был, и все, кто пришел из запасного, знали, что на этот раз он просто не смог отвертеться от фронта – по тревоге подняли весь полк, не разбирая, кто там учил, а кого учили. И зря Рябчиков столько месяцев рвал задницу и прыгал на задних лапках – воевать поехали почти в полном составе, и большинство командиров, особенно молодых, были этому скорее рады. Правда, на Кавказе наш полк разделили, почти всех отправили под Ростов, и лишь одну маршевую роту, то есть нашу, в Новороссийский порт, для переброски под Севастополь. Сначала в пути поговаривали, будто мы следуем на Крымский фронт, – только пока мы ехали, его не стало, целого фронта, навернулся за несколько дней.
– А вы правда из Киева, товарищ младший лейтенант? – поинтересовался Рябчиков.
– Да.
– Я там был. Перед войною. Красивый город. Правда?
– Правда.
Старовольский появился у нас совсем недавно, прямо перед отправлением. Его выпустили из размещенного в Сибири Белоцерковского пехотного училища и поставили на наш взвод. А поскольку командиров не хватало, приказали до прибытия в Севастополь командовать маршевой ротой и сдать ее тамошнему начальству. Правда, рота в пути поуменьшилась, кто-то отстал, кто-то и вовсе дал деру. Меня деревенские ребята тоже подговаривали уйти, прямо как сегодняшние кавказцы. Зачем, говорили, ехать на убой, всё равно войне кранты, зимой вон тоже думали – германцу крышка, а теперь он снова лезет и ничто его не берет. Скоро усатый с ним замирится, да только тем, кто поляжет, это по херу будет. Тоже, выходит, были не Ермоловы. Что сталось с ними потом? Может, тоже как тех кавказцев?
Не повезло сержанту Рябчикову, нашему наставнику в нелегкой воинской науке. Орал он, орал – и больше не будет, а ведь до чего внушительно звучало: «Ну, чё, дристоплясы, глазенки повылупили? Берут в армию детей, а молока не дают. Животы и сопли подобрали. Вот ведь, бля, пополнение. Вы же первого немца увидите, пообдрищетесь. А кто похоронки будет писать? Я, сержант Рябчиков? Так ведь я малограмотный, ошибок понаделаю, мамки на меня ругаться станут. Лечь, встать, лечь, встать! В уши премся, команды не слышим?» Поначалу было забавно – я раньше не видел таких идиотов. Но быстро надоело, в морду сержант мог заехать за милую душу – а потом потихоньку сказать: «А кому не нравится, сгною на губе по уставу, так что выбирайте, сучата».
– А багратионы – это кто? Вроде диверсантов-парашютистов? – зевнув, спросил Старовольского Мухин.
Старовольский не ответил. Мухин обратился не по форме, а стало быть, непонятно к кому. Рябчиков тоже промолчал, поскольку про Багратиона отродясь не слыхивал, это ему не «дристоплясов» на плацу дрючить. Ну а мне с Мухиным говорить резону не было, да еще при командирах.
Мухин был второй нашей общей радостью. Небольшого росточка, кривоногий, с фиксою во рту и колючими глазками, которые то светились безудержной наглостью, то воровато бегали. И в этих глазках отражалась на редкость пакостная сущность. Он был из тех, кто сначала осматривался, а после вел себя по обстановке. Объявился он у нас уже под самый конец, прибыв прямиком из исправительного лагеря, где получил амнистию как доброволец РККА. И началось. У Васьки Горохова кто-то сразу спер тушенку, у меня пропал отличный отцовский ножик. Рябчиков с Мухиным осторожничал, нарядами не мурыжил, и они быстро наладили отношения. Пили вместе в каптерке, а на что – надо было бы спросить у них, да вот только никто не спрашивал.
– Елдаши-то наши попритихли, – снова завел пластинку сержант, уж больно ему хотелось пообщаться с лейтенантом. Есть такие люди – из кожи вылезут, лишь бы поближе к начальству, инстинкт у них такой имеется. Был бы я командиром, он бы и передо мною ужом извивался.
– Суки, – поддержал его Мухин.
Старовольский им не ответил, рылся у себя в сумке, что-то искал. Но Рябчиков не унимался.
– По мне, так надо бы еще человек с десяток к стенке поставить, чтоб другим неповадно было. Эх, добрые у нас органы… Вот так-то Керчь немцу и сдали.
Великого стратега Рябчикова под Керчью не стояло, подумал я со злостью. Старовольский тоже разозлился. Поднял голову и буркнул:
– Вы можете помолчать, товарищ сержант?
Рябчиков вздрогнул от неожиданности и пробормотал:
– Виноват.
– Ни в чем вы не виноваты. Но если перестанете тарахтеть, я буду весьма вам признателен.
Рябчиков с Мухиным переглянулись – что-де с такого возьмешь. Но замолчали и, слава богу, никого больше не беспокоили. И это оказалось весьма кстати, потому что за последние дни мы вымотались как черти и страшно хотелось спать. Накрывшись шинелью и обнявшись с вещмешком, я моментально отключился. А утром мы пришли в Севастополь.
И вновь я почти ничего не увидел. Сначала мы сидели и ждали в трюме, потом выбирались из трюма на палубу, затем сбегали по трапу на пристань и вновь поднимались на борт. Носились туда и обратно раз десять, перетаскивая свое и чужое имущество, всё те же ящики с патронами и провиантом. Попутно узнали последнюю новость, и сообщил ее Рябчиков, услышавший от матросов, что на рассвете, при входе в бухту наш транспорт и сопровождавшие его корабли едва не влезли на минное поле, и крепко нам, стало быть, повезло, проживем теперь дольше обычного.
Потом мы построились в колонну и побрели по тропинке в гору, мимо замаскированных зениток и пробиравшихся узкой дорогой грузовиков. Я оглянулся напоследок, чтоб хоть теперь взглянуть на море, но снова не посчастливилось – обзор загородили бочки, ящики, мешки с песком. Зато увидел небо, серое и тусклое, словно не было на нем солнца. Однако солнце светило, пробиваясь сквозь дым пожара, и вообще было жарко, настоящее лето, юг.
Возможно, если бы я обернулся чуть позже, выбравшись из лабиринта ящиков и мешков, то смог бы увидеть бухту. Однако мне быстро расхотелось оборачиваться. Позади в кустах хлопнули револьверные выстрелы. Не знаю почему, но я решил – это кавказские командиры для порядка расстреляли своих, не пожелавших ехать в Крым. Обошлись, так сказать, без госбезопасности. «Господи», – пронеслось у меня в голове старорежимное слово.
– Подтянись! – с неожиданной яростью прокричал Старовольский. – Шире шаг! Каски надеть!
Мы пошли почти бегом, торопясь скорее выбраться к сборному пункту. На ходу срывали вещмешки и освобождали прицепленные к ним каски. Совали в карман пилотку и прикрывали головы килограммом стали (с толщиной стенок два миллиметра).
Появились самолеты. Издалека было не разобрать, немецкие они или наши. Но зенитки открыли огонь. Загремело повсюду: сначала в стороне видневшегося вдали диковинного, похожего на пирамиду сооружения, затем и в других местах. Потом громыхнули бомбы и повалили дымы.
– Быстрее, ребята, быстрее, – повторял Старовольский, нервно поглядывая на часы и на небо, вмиг ставшее жутко опасным для тех, кто двигался по земле. Мне тоже сделалось не по себе, и, конечно, не мне одному. Хотя сильно страшно еще не было, скорее интересно. С кавказцами куда страшнее вышло. Если, конечно, их на самом деле расстреляли.
Старовольский не зря посматривал на небо – видно, привык в сорок первом не ждать оттуда ничего хорошего. Мы трижды плюхались на дорогу и валялись в пыли, пока над нами проносились ревущие стальные махины. Потом кидались перебежками, озираясь по сторонам. Следом за нами, громко топая, бежали кавказцы.
Видно было, что немцы обрабатывают это место довольно часто – там и сям виднелись каркасы сгоревших грузовиков. Пора бы было испугаться, но пока что обходилось. Мы даже хихикали, вставая после очередной нашей лежки. Наконец добрались до каких-то строений, давно уже разрушенных, где среди цементных плит и выдолбленных в твердой породе щелей укрывались сотни солдат – как и мы, недавно прибывших. Тут же находилось местное начальство, занимавшееся распределением людей и обеспечением их оружием и боеприпасами. Спустя некоторое время – наши истребители как раз отогнали немецкие бомбовозы, и мы отчетливо увидели, как один из немцев, летя на север, задымил, – нам выдали винтовки и патроны. Почти всем в нашем взводе досталось по новой самозарядной Токарева и только пятерым – старые трехлинейки. После этого Старовольский ненадолго отлучился. Спустя полчаса он вернулся с молодым лейтенантом пехоты и матросом, одетым в сухопутную форму, но с бескозыркой на голове. Подозвав к себе старшего сержанта Лобова, еще одного нашего командира, Старовольский представил его лейтенанту. Те о чем-то поговорили и быстро проглядели бумаги. Старовольский коротко сообщил:
– Мой взвод следует за мной, старший сержант Лобов и остальные поступают в распоряжение лейтенанта Гусева. Есть вопросы, товарищи? Ну, тогда до свидания. Быстро прощайтесь, если есть с кем, и идем.
Я мало кого знал из других взводов, только Ваську Горохова и еще двух ребят, так что прощаться долго не пришлось. Мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Они за Лобовым и Гусевым, наш взвод за Старовольским и матросом. О том, надолго ли прощаемся, подумать было некогда.
Путь оказался и длинным, и долгим. Сначала нужно было идти по неширокой неровной улице, среди почти сплошных развалин, да еще прижиматься к стене, чтоб с высоты не приметил немецкий летун. Всё было чужое, незнакомое, ненадежное. Попадавшиеся дорогой бойцы и командиры передвигались осторожно, не задерживаясь подолгу на открытых местах. Одно было хорошо – с матросом сделалось спокойнее. Все-таки он человек был местный, знал, что к чему, не заплутает и с дороги не собьется. Он сразу же назвал себя: «Старший краснофлотец Шевченко». И добавил: «Но не Тарас, а Михаил». И пошел рядом со Старовольским. Тот всё время с ним переговаривался, выяснял обстановку, перестал поглядывать на часы. Рябчиков же, наоборот, занервничал, будто бы боялся остаться не у дел. «Хоть бы старшину завалящего прислали, – сказал он Мухину, – а то надо же, старший краснофлотец, ефрейтор задрипанный».
Когда снова налетели самолеты – один «Юнкерс» и два «Хейнкеля», задним числом объяснил Шевченко, – и мы спрятались в полуразрушенном кирпичном доме, я первый раз по-настоящему испугался. Взрывы громыхнули совсем неподалеку, всё пошло ходуном, мне показалось, что эта руина вот-вот на нас обвалится. В придачу по улице промело из пулемета. Бешено зарокотали зенитки. В воздухе глухо заурчало, и мы не увидели, но ощутили нутром, как над домом пронеслось что-то огромное и ужасное.
– Тяжелая артиллерия проснулась, – прокричал Шевченко. – Завтрак гансы скушали, начался рабочий день.
Мы услышали, как опять громыхнули разрывы, потяжелее, чем от самолетных бомб. Потом свистело и гремело вновь, минут сорок, почти без перерыва, и всё это время я ждал, что нас завалит к чертовой матушке. В голове колотилось: «Боже». Шевченко и тот надел болтавшуюся на поясе каску. Он называл калибры, но я их тут же забывал, одно понимал – большие, и если такая хреновина влепит в наше укрытие, останется от него одно лишь мокрое место. И от нас, понятное дело, тоже.
– Это они по порту лупят, – объяснял Шевченко Старовольскому. – Выгрузку-погрузку сорвать хотят. Только поздно проснулись, главную боевую силу проморгали. – И подмигнул почему-то мне.
– Часто тут так? – спросил Старовольский, когда немного затихло и на улице стали появляться военнослужащие, спешившие по своим делам.
– Раньше спокойнее было.
– Скоро, похоже, опять прилетят?
– Да, долго ждать не придется. До обеда время осталось, а немец свой хлеб отрабатывает честно.
– Собираемся и уходим, – распорядился Старовольский, и мы опять двинулись по разбитой снарядами дороге, всё дальше уходя от порта.
Полуразрушенные улицы, которыми мы брели, вовсе не были пустынными. Мы то и дело натыкались на замаскированные автомобили и полевые кухни, склады и часовых, замечали среди кустов развешанное на веревках – но так, чтобы не обнаружить сверху, – белье и стираные бинты, не белые уже, а желтоватого цвета. Похоже, до войны тут всё утопало в зелени, да и теперь, когда многие деревья стояли без листвы и со срезанными ветвями, другие зеленели так, словно старались компенсировать утраченное соседями.
– Красиво тут раньше было, – грустно сказал оказавшийся рядом со мною Шевченко. – Про город и не говорю.
– А это не город?
– Северная. Настоящий город на той стороне.
Следовательно, я не только не видел моря, но не видел и Севастополя. Не зря мне сразу показалось, что это больше похоже на поселок, чем на знаменитый город, основанный Александром Суворовым в 1783 году – дату я помнил еще со школы. Про Северную сторону мне тоже было известно. Сюда во время первой обороны отошла наша, то есть не наша, конечно, а царская армия. По наплавному мосту. Лев Толстой в своих рассказах тот переход описал – как медленно шли в ночи, как каждый вздыхал и грозился врагу. Первая оборона на этом и кончилась, на Северную французы с англичанами не полезли. Теперь, получалось, линия фронта была другой – удаляясь от бухты на север, мы от передовой не уходили, а к ней приближались. И война теперь стала другая, хотя и тогда было страшно, об этом у Льва Толстого тоже немало написано.
Я спросил у Шевченко (Старовольский был занят служебным разговором с Рябчиковым):
– Вы и зимой тут были? – сказать ему «ты» язык не повернулся, хоть «выкать» среди солдат не принято, среди матросов, вероятно, тоже.
– Угу, – ответил тот.
– А я впервые на фронте. Первый день – и сразу… Или сегодня это так, несерьезно?
– Серьезно, вполне. На то он и фронт. Привыкнешь.
И едва он это произнес, снова начали бить зенитки – а вслед их грохоту появились опять самолеты. Лейтенант, Шевченко и кто-то еще – возможно, Рябчиков, а возможно, я сам – проорали «Воздух!», и все мы попадали на землю, вдавливая в нее головы, руки и ноги. Сверху на нас посыпалась пыль, земля, штукатурка. Горячей волной прошлось по спине от совсем уже близкого взрыва, то ли третьего, то ли четвертого за какую-то пару секунд. А когда оглохшие, в побелевших гимнастерках мы поднялись, двое остались лежать. Один был жив и громко стонал, это был красноармеец Сафонов, другой же – совершенно неподвижен, и это был Рябчиков. Шевченко, склонившись над ним, обнаружил на шее, между воротом гимнастерки и каской, маленькое отверстие над покрасневшим подворотничком. Показал нам пальцами:
– Вот такой осколочек…
Мы с Мухиным перевернули тело. Рябчиков был мертв, сомневаться не приходилось. Старовольский стянул с головы пилотку. Потом сказал:
– Надо помочь раненому. Аверин, справитесь?
– Так точно.
Я поспешно и ни на кого не глядя достал индивидуальный пакет. Руки паскудно тряслись. Пришло то, чего я давно боялся, – большой настоящий страх. Пришло и проняло до печенок. Из раны в боку Сафонова сочилась густая кровь. Кто-то помог мне его приподнять и наложить бинты. Он больше не стонал, но дышал тяжело, широко разевая рот, как рыба на берегу. Шевченко тем временем нырнул между деревьями и вскоре возвратился с двумя пожилыми красноармейцами и неуклюжим на вид младшим сержантом. Объяснил – раненого отнесут в медсанбат, Рябчикова похоронят прямо здесь. Нам же надо спешить, еще идти и идти. Старовольский кивнул, забрал документы Рябчикова и, написав на вырванном из блокнота листе звание, фамилию, год рождения и день гибели, отдал бумажку младшему сержанту. Тот сунул ее в карман и попросил не беспокоиться, всё будет по-человечески.
– Отговорила роща золотая, – пробормотал наш Мухин и украдкой перекрестился.
– Продолжаем движение, – распорядился младший лейтенант.
Ждать Шевченко и команду, за которой он был послан, пришлось гораздо дольше, чем я думал. Когда они наконец появились в траншее и обогнавший всех Мишка доложил о прибытии, я посмотрел на часы и заметил:
– Запаздываешь, приятель.
Тот обиженно пожал плечами.
– Как тут не опоздать, товарищ старший лейтенант? Немец два часа по бухте херачил, самолеты, артиллерия дальнобойная, несколько раз отлеживались. Это же не с фифами по бульвару гулять.
– Ладно, не дуйся. Понимаю, не по бульвару.
Шевченко был интеллигентным матросом и все окопные неологизмы образовывал от основы «хер», в то время как его товарищи, да и я, что греха таить, прекрасно обходились без подобных эрзацев. Я знал Михаила пять лет. Сначала новобранцем, мотавшим на ус военно-морскую премудрость, потом «старым опытным матросом» – как он называл себя сам, не дослужившись до старшины. Когда в августе набирали в морскую пехоту, мы вновь оказались вместе – с ним, с Левкой Зильбером и с парой десятков других. Теперь нас осталось немного, во всяком случае, под Севастополем, – и хорошо, если те, кого нет, выбыли по ранению.
Прибывшего с ним пополнения было двадцать пять человек, прямо скажем, не густо, хотя обещали стрелковый взвод, почти полного состава, только что без минометчиков. Умный Бергман сразу сказал: взвод полного состава – это утопия; но я до последнего сохранял оптимизм. Теперь они выстроились в три ряда на просторной по окопным меркам площадке и ждали, когда я закончу разговор с Михаилом.
Я повернулся к ним. На душе заскребли кошки. Ни одного сержанта и даже ефрейтора, все, кроме командира, красноармейцы, и сразу видно – зелень. Обвешаны, как верблюды, морды усталые, бледные, пот в три ручья. Их бы поставить на котловое да распустить, но я знал, распустить не получится. Часть придется послать расчищать засыпанную траншею в левом секторе, часть – направить на дежурство, чтобы сразу привыкали к позициям и службе. Двоих – в наряд, двоих в ночной секрет. Последние хоть отдохнут сначала, если немец позволит. А он не позволит, будет вести огневой бой, мы будем отвечать, и если мне без такого аккомпанемента давно уже не спится, неспокойно как-то и ждешь всякой пакости, то им еще придется привыкать.
Настало время знакомиться. Ко мне как раз подошел их младший лейтенант, среднего роста, в новой еще гимнастерке, портупея, кобура – все, как положено, кроме разве что возраста, уже не лейтенантский, лет тридцать, как и мне. Лицо строгое, с оттенком печального добродушия. Поднеся руку к пилотке, отрапортовал – или скорее представился:
– Младший лейтенант Старовольский. Прибыл в ваше распоряжение со стрелковым взводом в составе двадцати четырех человек. Было двадцать шесть. Один ранен, один убит. Вооружение…
– На фронте раньше были? – перебил я его. Не потому, что я невежливый, просто вооружение я и так видел – «СВТ» и трехлинейки. В первую очередь надо о человеке узнать.