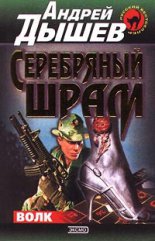Вокзал Виктория Берсенева Анна

– Я не опоздала, – пожала плечами Вика. – Здравствуйте.
– Проходи, проходи.
Возражений эта женщина явно не терпела, но, кажется, настолько не понимала, как можно ей возражать, что даже не замечала их.
Квартира удивила не меньше, чем хозяйка. Комната, в которую они вошли – огромная, с арочным окном, за которым виднелся балкон, – напоминала зубоврачебный кабинет из-за белых стен и нежилого духа. То есть пахло-то здесь обычным цитрусовым экстрактом. На низком журнальном столике, стоящем перед белым кожаным диваном, Вика увидела хрустальный флакон с жидкостью лимонного цвета и торчащими, как стебли без цветов, деревянными палочками; все это и благоухало странно и приятно. Но дух, именно дух был нежилой, как и белые стены, и белая же мебель самых простых, ничем не оживленных линий.
– Ресницы сделай очень длинные и изогнутые, – сказала хозяйка, проходя в первую от прихожей комнату.
Ей было около пятидесяти, лицо у нее было широкое и чуть приплюснутое, не среднеазиатское, но и не европейское. Ну да, Люда же говорила, что эта Антонина с Севера, как и она, с Таймыра, что ли, не то с Ямала. Знак причудливо смешанной крови – в широких скулах, в узковатых, необычной формы глазах.
– Вам очень длинные и тем более изогнутые не пойдут, Антонина, – сказала Вика. – А вот прямые к лицу будут.
– Нет, – покачала головой та. – Я хочу изогнутые и длинные. И чтоб на концах вот так, знаешь, вверх и вбок. Как у Волочковой.
Что тут скажешь? И зачем, собственно, что-либо говорить человеку, который в пятьдесят лет хочет иметь ресницы, как у попсовой дивы?
– У нее ресницы кукольные, – все-таки не удержалась Вика. – И выглядят неестественно, сразу видно, что не свои.
– Ничего. Мне такие же сделай.
Пока Вика раскладывала на столе палетку с ресницами и инструменты, Антонина улеглась на диван. Вика подложила ей под голову кожаную подушечку, а на нижние веки – коллагеновые патчи.
– А правда, что вот эти штуки, которые ты под глаза кладешь, морщины уберут? – поинтересовалась она.
– Разгладят слегка.
– А свои ресницы не вылезут?
– Нет.
– А красить их точно не надо будет?
– Точно.
Вика отвечала на все эти вопросы ровно столько раз, сколько у нее было клиентов. Не слишком много вообще-то.
– Я все равно краситься буду, – сообщила Антонина. – Не могу без этого, как голая себя чувствую. И тени люблю голубые, яркие. Мне подружка говорит: Тоня, с голубыми тенями, тем более в нашем возрасте, сейчас никто уже не ходит. А я не могу. И чего я, скажи, должна себя насиловать? У нее дочка за француза замуж вышла, живут под Парижем, я забыла, как этот пригород называется, так у них там…
– Вы только не шевелитесь, – попросила Вика. – У меня же пинцеты в руках. И клей.
Она уже смыла с ресниц остатки туши и расчесала их специальной расческой.
– Не буду, – пообещала Антонина. – Но я если молча, то усну вообще, мне лучше разговаривать. Так вот, говорю, под Парижем дочка у Ольки живет, пригород дорогой, никаких арабов или там кого, французы только, и те графья, как в кино про Анжелику и короля, помнишь, было такое, ну, ты не помнишь, молодая, и у Олькиной дочки муж тоже граф…
Она действительно лежала неподвижно, как мумия, и приклеивать одну за другой ресницы не мешала. Но речь ее лилась так, что через пару минут Вике пришлось следить уже за собой, не уснуть бы под это мерное журчание. Одно было хорошо: не приходилось ничего говорить самой, как это бывало с клиентками, желавшими за свои деньги не только получить красивые ресницы, но и вволю поболтать.
– И вот у них в поселке этом, представляешь, косметикой вообще не пользуются. Не то что запрещено, а не принято, считается неприлично. Олька там просто извелась за месяц, она с внуком приезжала сидеть и говорит, честное слово, извелась. В булочную утром пошла, у них же принято каждое утро свежее покупать, пирожные там, круассаны, десерт, они там не обедают без десерта, и вот она пошла в булочную и, конечно, подкрасилась, а она не так, как я, голубые тени и сама не накрасит или там ресницы удлиняющей тушью, это нет, но все равно, дочка ей потом такое говорит: ты, мам, больше, я тебя, пожалуйста, прошу, косметикой вообще не пользуйся, тем более днем, а то все будут говорить, что это за проститутка к нашей Мари приехала. Вот ты скажи, можно так жить? Невозможно, я считаю. И тарелки у них там запрещены, ну, антенны спутниковые, потому что портят архитектуру, на балконах можно только цветы, и то не всякие…
«В конце концов, я ведь не знаю, как живут в аристократических пригородах Парижа, – подумала Вика. – Так что это даже интересно послушать».
– Ты в приворот веришь? – неожиданно спросила Антонина.
Вика удивилась бы такому повороту разговора, но удивляться, держа пинцетом микроскопическую ресницу, было неудобно.
– Нет, – окунув ресничку в клей, ровным тоном ответила она.
– А я верю. У нас все верят, и не зря, я считаю.
Вика приклеила очередную искусственную ресницу к Антонининой. «У нас» – это было ей теперь понятно. Даже странно, почему она не сразу сообразила, что ничего московского в этой женщине нет и помину. И одежда лежит и висит в ее квартире где попало – на креслах, на спинке стула, на дверной ручке и даже на полу, как в гостиничном номере, в который вселились два часа назад.
– Отец мой всегда дробины и картечи из убитого зверя доставал и в новые заряды потом по одной клал, а потому что такой заряд никогда мимо не пролетит, и так оно и есть, ни разу не подводило, и с приворотом то же самое, это же народная мудрость, вот у меня подруга, не Олька, другая, пошла к ведьмачке, чтобы она ее мужа от любовницы отворожила и к ней обратно приворожила, и она так и сделала, ведьмачка, про любовницу он думать забыл, только всё к Нинке, к жене, и ни на шаг не отходит, но стал страшно ревнивый, просто за каждым шагом стал следить, в молодости и то такого не было, Нинка даже жаловалась нам, а потом совсем он ее приревновал и убил, вот как бывает, и как после этого в приворот не верить?..
«И охотничьих примет я тоже не знаю, и тем более про привороты, – подумала Вика. – Так что и это интересно».
Если смотреть отвлеченно, то все это, может, и было интересно, но чтобы считать эти сведения интересными лично для себя, Вике требовалось усилие. Впрочем, не самое большое это было усилие из тех, которые ей приходилось совершать над собою.
– И я, если честно, лучше бы тоже к той ведьмачке обращалась, чем к обычным экстрасенсам, но где ее теперь найдешь, – сказала Антонина.
– А обязательно к кому-нибудь обращаться? – не удержалась Вика.
– Конечно. – У Антонины не дрогнул ни один мускул на лице, и только по интонации можно было понять, что она удивилась странному вопросу. – У всех же экстрасенсы. И астрологи обязательно, без астрологов люди шагу не делают, и правильно, я считаю, что-то такое есть точно, я когда финансовый год закрываю, то всегда со своей астрологиней советуюсь, и как звезды встанут, так всегда и сходится.
Финансовый год – удивительно. Вика была уверена, что никакого самостоятельного занятия эта женщина иметь не может – ездит вслед за богатым мужем в Москву и обратно и, как Люда, проводит основную часть времени в разговорах с подругами. А вот поди ж ты.
– В Москве тоже все так, думаешь, у нас только? – сказала Антонина. – От Москвы и пошло, вообще, гороскопы и прочее, плюс у нас шаманы, конечно, это тоже накладывает отпечаток, и здесь шаманы в моду вошли, это от нас, в Москве много наших, потому что у нас же нефть, газ.
К тому моменту, когда наклеена была последняя ресница и Антонина села на диване, крутя головой, Вика чувствовала, что у самой у нее в голове гудит, как в пустой бочке.
– Красота! – сказала Антонина, глядя на себя в зеркало пудреницы, которую извлекла из сумки. – А ты говорила, изогнутые не надо. На десять лет помолодела. Еще гиалуронку уколю – как новенькая буду.
– Надолго вы в Москву? – спросила Вика, вставая с журнального столика, на котором сидела во время работы.
И прикусила язык: зачем ей это знать? Понадобятся новые ресницы, Антонина наверняка ей позвонит, вон как собою любуется, понравилось, значит. А подробности – откуда приехала, надолго ли – интересовать ее не должны, да и не интересуют.
– Послезавтра сразу после совещания уеду, – ответила Антонина. – Гиалуронку – завтра. Вообще, конечно, надо уже все сделать, ну, губы поддуть, нос выпрямить, но времени нет. Нос – это в Швейцарию ехать, а когда мне? У меня же не работа, а дурдом. Хотя в Липецке есть один хирург, так вот он, говорят, носы делает – швейцарцам не снилось. Сама не видела еще, но верю, мы вообще лучше, нечего перед Западом прибедняться. Я, может, к нему и поеду. Но все равно нужно время на это выделить, это же восстанавливаться сколько, недели три, если не больше, придется отпуск брать. Сколько с меня? – спросила она.
Все-таки правильно Люда предупредила, чтобы Вика забыла те цифры, которые называла своим, как она сказала, деревенским землячкам. Назвала бы Антонине цену, которую считала самой высокой из допустимых, та, пожалуй, засомневалась бы, заслуживает ли такая мастерица доверия. А так – вынула из кошелька оранжевую купюру и отдала без тени удивления со словами:
– Я твой телефон всем даю, да?
Вика кивнула. При этом она изо всех сил постаралась, чтобы вид у нее был самый невозмутимый и не вырвался бы какой-нибудь торжествующий выкрик.
– Давай кофе выпьем, – сказала Антонина. – У меня сегодня релакс, даже телефон выключила, иначе не дадут расслабиться. Перышки чищу, вообще отдыхаю. Ты какой пьешь, обычный или зеленый?
– Зеленый кофе? – удивилась Вика.
– Ну да, для похудания. Хотя тебе ни к чему.
Антонина окинула ее быстрым взглядом. В нем не было зависти – скорее всего, просто потому, что двадцатилетняя разница в возрасте позволяла ей уже не сравнивать Викину фигуру со своей.
– Пойдем в кухню, заварим, – сказала она.
Релакс релаксом, а варить и подавать кофе непонятно кому, практически прислуге, – этого Антонина не могла себе позволить. Вика поняла это так ясно, как если бы та произнесла это вслух. Властность и сознание своего превосходства въелись в эту женщину, как в шахтеров въедается угольная пыль.
Кофе пить Вике не хотелось. То есть хотелось, но где-нибудь в маленьком кафе, сидя в одиночестве за столиком у окна, глядя на тревожную и привлекательную, подчиненную непонятному порядку жизнь старого московского переулка… Она видела по дороге сюда французскую кондитерскую, и хотя забыла, где именно, но можно ведь найти.
– Пойдемте, – сказала Вика.
Кухня выглядела такой же нежилой, как и комната с арочным окном, и другие две комнаты, в открытые двери которых она мельком заглянула, идя по коридору. Вика никогда не видела, чтобы от жилья – дорого отремонтированного, отделанного и меблированного – веяло такой безликой нежилью. Даже квартира в Пречистом, в которой она три дня без отдыха обдирала старые и клеила новые обои, отдраивала туалет и кухню, – даже то убогое жилище не производило на нее такого гнетущего впечатления. В чем тут дело, Вика не понимала. Все по отдельности – белая мебель с золотистыми узорами, белые шторы на окнах, паркетные, тоже белые полы, – не вызывало отторжения, наоборот, свидетельствовало о хорошем вкусе того, кто все это подбирал и собирал. А вот общее, неуловимое, но ощутимое целое… Вика поежилась.
Посередине кухни стоял набитый магазинный пакет, из которого торчал ананасовый хвост.
– От ананасов тоже худеют, – сообщила Антонина. – Меня от них тошнит уже. Держусь-держусь, а потом картошки жареной ка-ак наемся! Но сейчас не буду. Разбери сумку, – сказала она. – Там кофе должен быть, поищи.
Кофе нашелся сразу, молотый обжаренный и в зернах зеленый. Пока Вика разбирала какие-то диковинные пастилки, про которые Антонина сказала, что это низкокалорийные конфеты, и твердый итальянский сыр, и мягкий французский, и испанский хамон, – Антонина неторопливо молола для себя зеленые зерна в ручной кофейной меленке и не переставая говорила:
– Ананасы мне по крови подходят. Диета по анализу крови, знаешь? Мне, оказалось, из фруктов подходят только ананасы. Включи чайник. Нет, из крана не наливай, там бутилированная должна быть, я заказывала. Отец у меня был манси, мать русская, сибирячка. Как мне по крови могут подходить ананасы? А морковка самая обыкновенная – категорически нет. Вот как такое может быть, объясни?
Она не болтала – не было в ее интонациях ни тени той вдохновенности, которая заставляет женщин вести бесконечные увлеченные разговоры, – а вот именно говорила, ровно и монотонно, будто и теперь лежала неподвижно, как мумия, и ей разрешено было только шевелить губами.
– Кровь – загадочная вещь, – сказала Вика. – Мы даже не представляем, откуда она в нас.
Что еще можно ответить, если тебя спрашивают, как то или другое может или не может быть в жизни? Только абсолютную банальность.
Антонина посмотрела на нее с уважением. Вика этому совсем не удивилась: она уже поняла, что ее первая московская клиентка относится к тому типу людей, которые способны воспринимать только общеизвестное. Да и оно является для них открытием. Кем она работает все-таки? Невозможно было соотнести эту въевшуюся в ее натуру властность с так же плотно въевшейся в ее мозг заурядностью.
– Это да, – кивнула Антонина. – Я вот считаю, пары надо по крови подбирать. Ну, или по генетике, это одно и то же. Чтобы дети рождались качественные.
– Так в Германии делали, – сказала Вика. – При Гитлере.
– Да? – удивилась Антонина. – И правильно. Вообще, я считаю, в истории многое пора пересмотреть. При Гитлере у немцев настоящий порядок был, дороги хорошие строили. Немецкие земли он объединял. И нельзя все черной краской мазать, надо видеть хорошее и брать пример. Если б он на нас войной не пошел, вообще другое к нему было бы отношение. У нас его бы оценили.
Вика молчала. Не потому даже, что Антонина выгодная клиентка, за которой потянется цепочка таких же выгодных, а просто потому, что объяснять ей что-либо бессмысленно.
Когда Вика услышала подобное впервые, возмущение рвалось из нее, как лава из вулкана, она задыхалась от невозможности высказать все доводы одновременно, их миллион у нее был, доводов… Но когда это повторилось два раза, и три, и пять, она поняла, что все ее доводы, хоть одновременно, хоть поочередно, не имеют ни малейшего значения. Что возразишь человеку, который уверен, что при Гитлере был настоящий порядок? Строили дороги, присоединяли земли и зачинали качественных детей, а что кого-то там убили, так наверняка те сами были виноваты. При Сталине вон тоже расстреливали врагов народа, и правильно делали, и…
Все! Все… Она не хочет сойти с ума. Она не может себе этого позволить.
Щелкнул вскипевший чайник. Вика насыпала в свою чашку молотый кофе и залила его кипятком. Руки у нее слегка дрожали, но все же не так, чтобы это можно было заметить.
Способность Антонины мгновенно переходить к совершенно другой теме оказалась на этот раз благоприятной.
– Завтра дочка моя прилетает, – сказала та. – Маринка. Сможешь завтра прийти? Ей тоже ресницы нарастишь.
– Смогу, – кивнула Вика.
– Только не в эту квартиру, а на четвертом этаже. Я ей там купила. Тут вообще приличный дом. Как положено отреставрировали, и снаружи, и внутри сохранили, а не то чтобы все сломать, один фасад оставить, знаем, как они делают. Квартир тут мало, всё по уму. Наверху зимние сады, я хожу – красиво. Я сначала хотела в новом каком-нибудь доме квартиры всем купить, и дочке, и сыну, а потом решила тут. Цена та же, а все-таки история. Это тоже капитал, я считаю.
– А кто здесь раньше жил? – спросила Вика.
Не надо было спрашивать, конечно. Зачем продлевать время общения, которое из утомительного превратилось в невыносимое?
– Понятия не имею, – пожала плечами Антонина. – Квартира чистая, без обременения, все проверено. А кто там и что там раньше – откуда мне знать? Коммуналка была, наверное. Центр же, тут везде одни коммуналки были.
Вика хотела сказать, что дома на Малой Молчановке построены еще до революции, и этот тоже, значит, квартира не всегда была коммунальной. Но говорить этого, конечно, не стала. Как бы Антонина ни оценивала капитал истории, но что она может знать о Малой Молчановке? Да и Вике самой какое дело до прошлого этого унылого в своей дороговизне жилья? Никакого.
Но и когда ждала она лифта, и когда спускалась с крыльца между двумя львами – что у них на щитах написано, интересно? – не отпускал ее этот непонятный Дом.
Вика закинула голову. Арочное окно на шестом этаже сверкало под прямыми солнечными лучами и тоже было похоже на щит – зеркальный. Ей вдруг показалось, что именно оно, окно это, глухим щитом закрывает жизнь, которая была в этом доме совсем другою.
Странная это была фантазия. Но долго еще Вика стояла, глядя вверх на полукруглое окно, и чувствовала необъяснимую тревогу.
Глава 8
«Не удался мой побег. Давно, усталый раб… Глупости! Никакой я не раб. Но побег – не удался».
Непонятно, почему именно эта мысль пришла Полине в голову и почему именно в ту минуту, когда она подошла к дому на Малой Молчановке и закинула голову, оглядывая его фасад.
Фасад красивый, ничего не скажешь. Гармоничный. Особенно полукруглое центральное окно на предпоследнем этаже.
«Пусть моя комната будет за этим окном, – загадала Полина. – Тогда – удача».
У крыльца стоял грузовик, и четверо рабочих сгружали с него двух огромных каменных львов. Нет, не каменных, бетонных, поняла Полина, подойдя поближе и приглядевшись. Ну да, ей же и сказали, выдавая ордер на комнату: это на Малой Молчановке, Дом со львами, только львов сейчас нету, их в войну от бомбежек убрали.
– А щиты куда подевались? У них щиты были.
Высокая женщина лет сорока в выцветшем ситцевом платье наблюдала за разгрузкой. Она и спросила про щиты, которых в лапах у львов действительно не было.
– Идите, куда шли, гражданка, – сказал милиционер.
Он тоже наблюдал за тем, как львов снимают с грузовика, но делал это по долгу службы, а не из праздного любопытства.
– Так я сюда и шла! – тут же возмутилась она. – Живу я здесь. Домой уже пройти нельзя!
Милиционер, видно, был опытный: окинув гражданку быстрым взглядом, спорить с ней не стал, а покладисто ответил:
– Проходите в подъезд, вас никто не задерживает.
Полина поднялась на крыльцо вслед за нею.
– Щиты сперли точно, – бросила гражданка, открывая входную дверь.
– Ну кому могли понадобиться бетонные щиты, Шура?
Другая женщина как раз выходила в этот момент из подъезда. То есть не женщина, а девушка моложе Полины. По привычке мгновенно схватывать и оценивать внешность даже первого встречного, Полина сразу поняла: лицо ее не назовешь красивым, но что-то в ее облике есть такое, что притягивает взгляд и от чего язык прирастает к нёбу.
Впрочем, Шурин язык к нёбу прирасти явно не мог.
– Ты, Серафима, не говори, чего не понимаешь, – отрезала она. – Я их знаю – им надо, не надо, а только от чего отвернешься, то сейчас и сопрут. И щиты сперли.
Девушка не ответила – спустилась с крыльца и пошла по улице. Полина посмотрела ей вслед. Показалось, она смотрит на можжевеловый куст, но не тот, что растет сам собою, а тот, что спустился на землю с дальнего края картины да Винчи.
Даже Шура проводила взглядом эту Серафиму.
– Блаженная, – заключила она, когда та скрылась за углом. И поторопила Полину: – Вы, женщина, заходите или нет?
Квартира, в которую Полине был выписан ордер, оказалась на шестом этаже. Потолки в этом доме были просто заоблачные, а лестничные пролеты бесконечные. Если бы Полина не натренировалась, поднимаясь ежедневно в свою берлинскую квартиру, то сейчас у нее блестящие мушки перед глазами плясали бы, а так – ничего, долетела как птичка.
Все время, пока поднимались, Шура шла за нею шаг в шаг, монотонно приговаривая:
– На тот свет они нас хотят отправить, а сами тогда жилье наше займут, комнаты своим раздадут…
Точку в своем монологе она поставила, когда они с Полиной остановились у двери двадцать третьей квартиры.
– Уже раздали, – припечатала Шура. – Вы, гражданочка, никак вселяться пришли?
– Да, – с улыбкой подтвердила Полина. – Соседями будем.
– И лезут, и лезут… Будто без них соседей мало! – обращаясь не к Полине, а к пространству, возгласила та.
Но на возмущение таких, как Шура, внимания Полина никогда не обращала. Да вообще-то и ни на чье возмущение она не обращала внимания. Русская пословица «На всякий чих не наздравствуешься» казалась ей правильным руководством не только к жизненным, но и к простым житейским действиям. Она достала из сумочки ключ с привязанной к нему бумажкой, на которой химическим карандашом был написан номер квартиры, и открыла дверь. Шура, тоже расстегнувшая сумку, застыла со своим ключом в руке.
«Что ж, жилье как жилье, – подумала Полина, проходя из прихожей в длинный коридор. – И соседи как соседи. Испорченные квартирным вопросом. Интересно, милосердие стучится в их сердца?»
Роман Михаила Афанасьевича, так, конечно, и не изданный, но услышанный ею, когда он читал его для избранного круга, поразил Полину так сильно, что и спустя много лет фразы из него вспоминались по самым разным поводам.
И – да, удача ее не оставит! Отперев свою комнату, единственную, на двери которой висела сургучная печать, так что перепутать было невозможно, Полина увидела прямо перед собою высокое арочное окно, на которое десять минут назад смотрела с улицы.
Что-нибудь это да значило. Полина прошла в комнату, чихнула от тяжелого, настоявшегося пылью воздуха и дернула за оконные створки. Затрещала замазка, створки распахнулись, и в комнату ворвался сырой, пахнущий мокрым асфальтом и листьями осенний воздух.
«Я в Москве, – подумала Полина. – Это окончательно. И я одна. А вот это не окончательно. Будет мне удача в этой комнате!»
Дверь скрипнула, комнату пронизало сквозняком.
«С соседями еще работать и работать, – подумала Полина. – Стучаться здесь, видно, не принято».
Она думала, что пришла Шура – выразить какое-нибудь недовольство, чтобы сразу обозначить отношения с новой соседкой. Но в дверях стояла девчонка то ли шестнадцати, то ли двадцати лет. Да и двадцать пять могло ей быть; возраст ее определить было невозможно. Полина всегда считала, что человеческие лица меняет не столько возраст, сколько разум. А он в выстраивании лица этой девчонки явно не участвовал.
Зато у нее были необыкновенные глаза – круглые, но, главное, беспримесного желтого цвета. Полина таких никогда в жизни не видела.
– Здрасьте, – сказала девчонка. – Вас как зовут?
Обращается к незнакомому человеку на «вы» – уже неплохо. Глядишь, и стучаться в чужую комнату научится.
– Полина Андреевна Самарина, – представилась она. – А вас?
Девчонке сошло бы и «ты», ей это наверняка и понятнее было бы, да и представляться по имени-отчеству Полина не привыкла. Но в воспитательных целях…
– Таисья. Петрова.
Когда-то Полина увлеченно читала книжки о происхождении фамилий в разных странах. Это ей потом оказалось полезно – понимать, откуда родом человек, с которым приходится иметь дело. Сам-то человек мог, конечно, родиться где угодно, этого по фамилии не определишь или, во всяком случае, определишь не всегда, но род его – дело тоже существенное, даже если он ничего о своих предках не знает. Загадочное дело кровь, это Михаил Афанасьевич тоже не зря заметил в своем романе.
Ну и что в прошлом, в длинной цепочке предков у этой желтоглазой простолицей девчонки? Ничего. Петр, сын Петров. Или Иван, или Яков – Петровы дети. Летом праздновал их отец именины, вся семья в этот день разговлялась после Петровского поста, сыновья напивались браги до одури и дрались всласть, а чуть свет опять шли работать в поле.
«И к чему вот лезут в голову всякие глупости?» – одернула себя Полина.
Впрочем, ей всегда бывали интересны отвлеченности. В меру, конечно.
– Вы по каким дням уборную будете мыть? – спросила Таисья. – Я список составляю.
Такой вопрос привел Полину в замешательство. Правда, ровно на пять секунд.
– Скажу, как только найду домработницу, – ответила она.
– Мне сейчас надо, – помотала головой Таисья. – Говорю же, список составляю. Сегодня вывешу.
– Значит, поставь меня последней в списке. Сколько в квартире семей?
– Семь.
– Вот восьмой и поставь.
За неделю надо устроить свою жизнь. То есть не жизнь, а просто быт, но и с устройством быта тоже тянуть нечего.
– Всё? – спросила Полина.
– Ага, – кивнула Таисья и сообщила: – Старшая по квартире – Шура Сипягина. Которую вы видели уже. Если какой вопрос серьезный – к ней. А по мелочам и ко мне можно.
– Тая, ты учишься или работаешь?
Воспитывать девчонку выканьем Полине надоело.
– В пельменной работаю. Посудомойкой.
– Домработницей ко мне пойдешь? У меня жизнь напряженная, Таечка, мне с хозяйством справляться будет трудно, да и некогда. А ты справишься.
Полина не сомневалась, что Тая согласится. С ней вообще мало кто не соглашался. А если у девчонки и руки такие же ухватистые, как взгляд, то бытовые дела можно считать улаженными.
– Платить сколько будете? – быстро спросила Тая.
– Больше, чем в пельменной.
– Ладно, – кивнула она. – Только вы меня оформите, как положено, а то милиция кишки начнет мотать, тунеядка, мол.
– Не волнуйся, – улыбнулась Полина. – Комар носа не подточит.
– Ну как оформите, я тогда из пельменной и уволюсь, – заключила Тая. – Говорите, если что надо. Моя дверь по коридору последняя. Кладовка.
Тая ушла. Полина присела на стул и обвела комнату взглядом. Не очень пока понятно, как устраивать новую свою жизнь, но здешнее пространство подходит для чего-то нового, она чувствует такие вещи. Только мебель надо будет выбросить – тягостью от нее веет, это она чувствует тоже. Да и не трудно понять почему, и не нужна для этого какая-то особенная чувствительность. Полина сама же сорвала печать с двери; ясно, куда скорее всего подевались хозяева опечатанной комнаты.
Некоторое время ей казалось, что она сидит в полной тишине. И только потом, стряхнув с себя оцепенение – с подготовкой к новой жизни, с предвосхищением ее оно было связано, – Полина сообразила, что никакой тишины здесь нет и не предвидится.
Закончился рабочий день, и за стеной стоял такой шум, будто там был не коридор, а оживленная городская улица. Один мужчина сморкался, другой кого-то звал сердито и громко, женский голос что-то выговаривал на ходу, а детский сердито возражал, потом раздался быстрый грохот, будто колеса проехали, и Полина вспомнила, что у одной из дверей висел на стене самокат – на нем кто-то и прокатился теперь, наверное. Потянуло запахом щей и прогорклого масла, и почему-то с улицы. А, видно, не только у нее в комнате, но и в кухне открыто окно, и кто-нибудь взялся разогревать еду.
«Жилище, что и говорить, могло быть получше, – подумала Полина. – Но могло и похуже, даже сильно похуже, – философски заключила она. – Так что жалеть не стоит точно. А пора его обследовать».
Выйдя из комнаты в коридор и отправившись на поиски уборной, она с ностальгическим чувством вспомнила туалетную комнату в берлинской квартире – карамельного цвета кафель с тонко, как на фарфоровом сервизе, прорисованными розами, массивную ванну на бронзовых львиных лапах и ароматические соли, которые хозяйка пансиона всегда выставляла для жильцов на плетенной из лозы этажерке, не забывая пополнять их запас во флаконах.
А кстати, эта московская квартира очень на ту берлинскую похожа. Ну конечно! И потолки такие же высокие, и такая же на них лепнина… Только здесь все обветшало, потрескалось и потускнело, а там сверкает чистотой и постоянной обновленностью.
Не сверкает, а сверкало. Нет больше того дома на Кудамм. Единственная от него уцелевшая обгорелая стена смотрит на улицу черными дырами бывших окон.
Как глупо! Ладно еще, когда человек разрушает чужую жизнь, это хоть чем-то можно объяснить – жадностью, подлостью, завистью, наконец. Но как не иметь ума настолько, чтобы не понимать, какие именно твои поступки, следуя друг за другом в неотменимом порядке, совершенно точно разрушат жизнь твою же собственную? И как это вышло, что подобную глупость проявил не один человек, не десять и не тысяча, а миллионы людей, да еще таких рассудительных, как немцы?
Полина и теперь, спустя почти десять лет, не понимала того массового недомыслия так же, как не понимала его в тридцать восьмом году, когда приехала из Парижа в Берлин. Даже ей, иностранке, тогда в течение одной недели стало ясно, к чему здесь дело идет и чем закончится. Так оно и вышло. А миллионам местных граждан ничего ясно не было. Они ликовали, рыдали от счастья жить в такой замечательной стране и гордились, гордились собой бесконечно! Странно, странно.
Но что же – та часть ее жизни окончена, и незачем теперь о ней думать. Теперь надо войти в кухню, из которой доносится деловитый вечерний гул, и познакомиться с людьми, бок о бок с которыми ей предстоит провести следующий отрезок своей жизни. А прежний – забыть. Так она делала всегда, и ни разу еще не пришлось ей жалеть о таком ритме движения по жизни.
Но все же многое, многое из прежнего то и дело всплывало у нее в памяти.
Глава 9
«Я – понятно. А вот другие – почему они захотели пойти на сцену?»
Эта мысль приходила Полине в голову каждый раз, когда она гримировалась перед спектаклем в большой гримерной театра «Одеон» среди таких же, как она, артисток «на выход». Первичные мотивы, ведущие человека на актерский путь, интересны ей были потому, что для нее профессия была вторична.
Она решила быть актрисой только из страха перед тем, что ее жизнь пройдет самым обыкновенным образом. Как у всех. Как у ее родителей: рано утром папа уходит на работу в какой-то департамент, названия которого Полина не знает и не интересуется знать, потому что работа эта для папы случайна, и хотя он дорожит ею как зеницей ока, но лишь потому, что за нее платят деньги, на которые можно жить, и вот он выполняет весь день какие-то обязанности мелкого клерка, возвращается поздно вечером усталый, а мама тем временем идет на маленький рынок на углу, стараясь подгадать к тому моменту, когда торговля уже сворачивается и все становится дешевле, потом готовит, гладит и штопает одежду, убирает квартиру, потому что позволить себе прислугу они не могут, вечером они обедают втроем, потом читают каждый свою книжку, потом родители обсуждают, что интересного произошло за день, а Полина, прислушиваясь краем уха к их разговору, не понимает, как можно считать интересным то, что они обсуждают… И так каждый день, пять раз в неделю, и в выходные примерно то же, только вместо работы поездка в Булонский лес на пикник, но и в пикнике нет ничего интересного, потому что заранее известно во всех подробностях, как он пройдет, и ни разу не случалось, чтобы он прошел как-нибудь иначе. Или в гости к знакомым, жизнь которых так же однообразна, но им так же не скучно проживать эту жизнь, как и Полининым родителям.
– У нас есть причины не скучать, – сказала мама, когда Полина спросила ее однажды о том, чего сама не могла ни понять, ни объяснить. – Наша молодость пришлась на такое бурное время, что… Оно ушибло нас, Полинька. Выбило из нас все силы. Такое напряжение не проходит бесследно – мы надорвались. Мы постарели сразу же, как только добрались до Франции. Мне сорок лет, а я чувствую себя… Нет, не старухой, конечно, нет-нет, но все-таки пожилой дамой, у которой все главное в жизни уже прошло, и слава богу. Я больше не хочу ничего яркого, необыкновенного, пусть даже и в положительном смысле. У меня нет на это сил.
Выслушав это объяснение, Полина пожала плечами. Не наяву – ей вовсе не хотелось обидеть маму, – а мысленно. Как можно радоваться, что лучшее в твоей жизни уже прошло, она не понимала. Вот хоть убей, не понимала! То есть, конечно, когда жгут твой дом и убивают соседей, и ты лишь чудом успеваешь бежать из деревни в Москву, и там всех, кто тебе близок не по крови уже, потому что близких по крови просто не осталось, но хотя бы по воспитанию, – убивают тоже… Конечно, после этого будешь чувствовать себя напуганным и опустошенным. Наверное, будешь; так Полина старалась думать. Но на самом-то деле, внутри себя, она в это не верила.
Опустошение – навсегда? И никаких желаний – тоже навсегда? И считать, что вот эта серенькая, как парижский дождик, жизнь – единственное счастье на все оставшееся тебе на земле время?.. Да ни за что!
Ее жизнь будет другою, это она решила твердо, еще когда училась в лицее. То есть это правильнее было назвать не решением, а просто знанием. Она – другая, ей не подходит однообразный цвет жизни, ей нужны яркие краски. Может быть, если бы она пережила то, что пережили родители, то была бы такая же, как они, но она – спасибо им – родилась уже здесь, в Париже, и натура ее проявляется так, как ей свойственно, а не так, как диктуют обстоятельства.
Но мало понимать, что ты хочешь яркой жизни, куда труднее понять, каким образом ее для себя добиться. Размышления об этом приводили в растерянность даже никогда и ни от чего не терявшуюся Полину. Ну вот что ей делать? Сбежать из дому в Марсель и, переодевшись в мужское, проситься юнгой на корабль, отплывающий куда-нибудь в Перу? Понятно же, что это глупость несусветная. Никто ее юнгой не возьмет, а если возьмет, то недолго ей удастся притворяться мужчиной, а если и удалось бы долго, то в жизни юнги нет ровным счетом ничего из того, о чем она мечтает. Просто драишь палубу и лазаешь по каким-то вантам, или реям, или брамселям, или как их там называют, а кругом, сколько глаз хватает, одна лишь вода, которая только в первые три дня кажется отличной от воды на парижской мостовой после дождя…
Точно так же не привлекала Полину жизнь охотников за экзотическими животными, и ошеломляющие полеты авиаторов не привлекали тоже…
«Может быть, я просто боюсь труда? – спрашивала она себя. И себе же по справедливости отвечала: – Нет. Я упорна и делать над собой усилие умею. Я боялась холодной воды, меня это злило, я решила избавиться от этого глупого страха – и избавилась, и плаваю теперь осенью, в ноябре, и у меня даже насморка не бывает. Но зависимость труда от чужих и глупых людей, вот чего я боюсь безусловно, вот чего для себя не хочу ни за что!»
Неизвестно, каким выбором закончились бы все эти размышления – до окончания лицея, который родители оплачивали полным напряжением всех семейных сил и средств, оставалось все меньше времени, – если бы не знакомство, ожидать которого было не то что совсем невозможно, но все же очень затруднительно.
– Лиза, Полинька, вы не представляете себе, кого я сегодня встретил!
Папу было не узнать. Во всяком случае, Полина его таким никогда не видела: глаза беспечно сверкают, на губах пляшет улыбка, кончики усов лихо закручены, и от всего этого кажется, что он помолодел лет на двадцать.
– Кого, Андрюша?
В мамином голосе слышался почти что испуг; Полина почувствовала его так же явственно, как папину радость. От любых потрясений, даже прекрасных, мама не ожидала хорошего.
– Сережу! – радостно сообщил папа. – Сережу Рахманинова. Он выходил, вообрази себе, из нотного магазина на рю Риволи, остановился купить фиалок, а я как раз расплачивался с цветочницей. Ты не представляешь, как он обрадовался!
– Представляю. – Мама улыбнулась. Даже улыбка не сообщала ее лицу видимости счастья. – Я бы тоже обрадовалась соседу и приятелю юности.
О том, что композитор Рахманинов был папиным соседом по тамбовскому имению, знала даже Полина, не считавшая сведения такого рода существенными. Еще в раннем детстве она поняла из родительских разговоров, что все сколько-нибудь незаурядные люди в России были приятелями детства или соседями – по дому в Петербурге, по переулку в Москве, по подмосковной даче или по имению в какой-нибудь дальней губернии. Так уж была устроена эта огромная страна, что все значительное в ней умному человеку невозможно было миновать, просто живя своей естественной жизнью. Отметив для себя однажды эту особенность, Полина не придавала ей значения. Та жизнь в России все равно кончена, и какая разница, как она была устроена?
А знакомых и соседей по той прежней жизни папа и мама встречали в Париже постоянно. Вот, еще одного встретили. Конечно, Рахманинов великий композитор, это всем известно, но ведь и Иван Сергеевич Шмелев тоже великий, он писатель, и папа даже нарочно давал Полине читать его рассказы, чтобы она усвоила настоящий русский язык, – а с ним родители встречаются не так уж редко… Одним словом, о встрече папы с Рахманиновым Полина забыла ровно через пять минут после того, как услышала.
И напрасно! Через три дня Рахманинов пригласил папу с женой и дочерью на свой концерт, а после концерта на ужин, а там, в ресторане… Там Полина увидела женщину, которая поразила ее так, как ни один человек, да и ничто вообще не поражало в жизни.
Она вошла, когда гости уже собирались сесть за стол, и все сразу же забыли об ужине, и все взгляды сразу обратились на нее. В ресторанном зале собралось много красивых, с тонким вкусом одетых дам, поэтому в таком мгновенном и всеобщем внимании к одной было что-то необъяснимое. Но не пугающее это было внимание – в вошедшей высокой, очень стройной женщине не было ничего зловещего или мрачного, – а магическое.
В этой женщине был вызов. В каждом ее движении, и во взгляде, и в повороте головы, и даже в том, что ее тонкий, с горбинкой нос был длиннее, чем допустимо, чтобы лицо могло считаться красивым, но при этом ее лицо было не просто красивым, а невыразимо прекрасным… Значительным оно было!
Вся она – и внешность ее, и проявленная через внешность суть – была значительна, вот что Полина поняла, ошеломленно на нее глядя.
На ней было платье из темно-золотой, с багровыми разводами ткани. Из-за своего цвета ткань казалась тяжелой, но в действительности была такой тонкой, что от каждого движения и даже вздоха колебалась, как занавес, и так же, как театральный занавес, скрывала за собою что-то небывалое, не принадлежащее никому, но всем обещающее загадку и счастье.
И в такой расцветке платья тоже был вызов, кстати, и на ком угодно другом оно показалось бы безвкусным, но на этой женщине – наоборот: в ее платье был стиль, и понятно было, что он создан ею и только ей присущ.
– Кто это? – спросила Полина у мамы, пока гостья здоровалась с Рахманиновым.
– Ида Рубинштейн, – ответила мама. – Балерина. Эпатажная, правда? Впрочем, с ее богатством можно себе позволить все что угодно, в том числе и эпатаж.
Полина так не считала. В лицее, где она училась, было немало девочек из очень богатых семей, и мельком, не слишком приглядываясь, но все же наблюдая за их родителями, она давно уже поняла, что само по себе богатство не делает человека значительным. Отец ее подружки Элен владел судоверфями где-то в Польше и был богат как Крез, но одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, как он скучен и зауряден.
Нет, богатство Иды Рубинштейн, конечно, имело значение, без него не закажешь у кутюрье такое платье из золото-багряного шелка, но оно являлось лишь обрамлением чего-то другого, присущего ей от природы и полностью ею воплощенного.
Весь вечер Полина не сводила с Иды глаз. Та сидела на другом конце стола, поэтому не было слышно, что она говорит, и только однажды, отвечая на вопрос какого-то пухлого господина, сидящего близко от Полины, Ида произнесла громко:
– Не вижу для себя выбора между путешествиями и искусством. Первое велико, но второе безгранично. А полная смена впечатлений необходима мне постоянно, иначе я чувствую себя больной.
– Гордыня, и вокруг себя гордыню сеет, – проворчал потом этот господин.
Он был прав – Ида лишь снисходила до окружающих, но отделяла себя от них категорически; этого невозможно было не заметить. У всех на глазах она создавала и себя, и свою жизнь, и правила своей жизни, и все вокруг нее подчинялись этим правилам, и это происходило не из-за ее денег и не из-за роскоши, которой она была окружена, а из-за одной лишь ее воли быть такой, какою она себя являла.
Так, значит, это возможно?.. Возможно создать свой собственный мир, свои собственные правила, и если сделать это с уверенностью в своем на то праве, люди примут твои правила, и подчинятся им, и даже счастливы будут подчиниться!..
Так думала Полина, не отводя взгляда от Иды, и размышления эти наполняли все ее существо восторгом.
Когда шли из ресторана домой, она буквально выудила из мамы все, что та знала об Иде Рубинштейн.
– Ах, боже мой, да ведь я тебе уже объяснила: она эпатажна и экстравагантна! – Видно было, что маме не хочется говорить о таких опасных, с ее точки зрения, человеческих качествах. – И что еще о ней сказать? Ну, танец Саломеи она когда-то станцевала – сбрасывала с себя одно за другим семь покрывал и оставалась на сцене совершенно голая. Разумеется, это всех шокировало, церковь страшно возмущалась, все газеты о ней писали, и весь Петербург говорил.
– О ней и теперь пишут и говорят, – заметил папа. Поднялся ветер, и он повыше поднял воротник пальто. – Говорят, у нее при особняке под Парижем парк, в котором дорожки выложены мозаикой, и будто бы Бакст придумал в этот парк какие-то особенные лотки для растений, их каждую неделю переставляют, чтобы менять ландшафт.