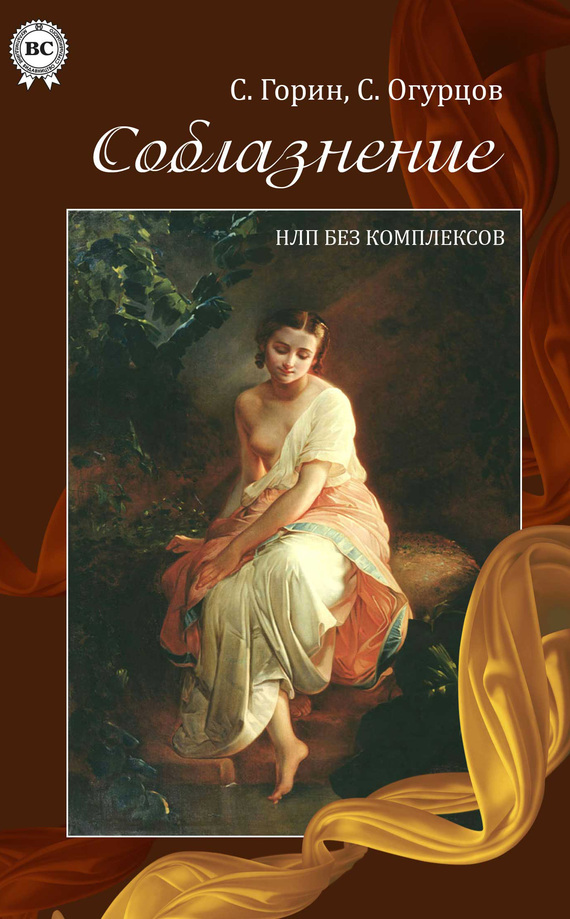Пани царица Арсеньева Елена
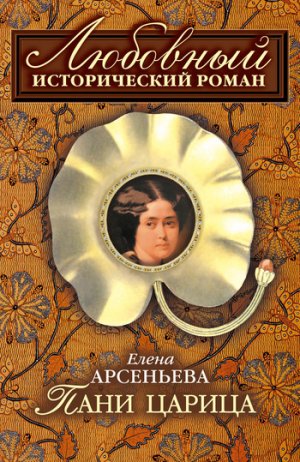
– Дорвался-таки, сучье вымя! – фыркнула высокая женщина, а бывшая царица ничего больше не сказала: только губы стиснула и ресницы опустила. Лицо у нее сделалось все каменное – не поймешь, о чем она думает, что чувствует, что хотела бы сказать.
Стрелец потоптался, ожидая нового вопроса, но больше никто ничего не спрашивал. А потому стрелец счел себя вправе отойти и уже начал поворачиваться к женщинам спиной, как высокая цапнула его за плечо:
– Куда?! Разве государыня велела тебе удалиться?!
Стрелец вырвался и хотел было пояснить, какое ему дело до этой самой государыни и ее вопросов, однако сдержал бранные слова. Еретичка смотрела на него нерешительно, словно никак не могла отважиться что-то сказать…
– Ну, чего надо? – буркнул парень. – Говори скорей, чего хошь, а то придет караульный начальник – даст мне на орехи, что я тут с тобой бобы развожу.
– Какие орехи? Какие бобы? – прошептала она чуть ли не испуганно, но тотчас отмахнулась от этой несуразицы, совершенно непонятной каждому нерусскому человеку, и спросила:
– Как тебя зовут?
– А тебе зачем? – отчего-то насторожился парень. – На что тебе имя мое? В кумовья звать станешь, так не старайся, не пойду!
– Не хочешь говорить? – повела тонкой бровью полька. – Не надо. Я и так знаю, что зовут тебя Егором.
Он растерянно захлопал глазами. А ведь и впрямь! При рождении Треней назвали, поскольку он в семье третий сын, ну а крестили Егором, в честь святого мученика. Но откуда сие знает польская царица? Ох, кажется, не зря ее ведьмой кликали, ведьмой и колдуньей! Плохо дело, коли злая чаровница вызнает чье-то имя. На имя можно такую порчу навести, что ее потом никакой знахарь не развяжет! Ох, кажется, пропал Егорка, мамкин сын, совсем пропал!
Он уже воздел было персты для крестного знамения, как вдруг царица вцепилась в его руку своей крошечной, сухой, очень горячей ручкой и прошептала:
– Где Стефка? Что с ней? Знаешь что-нибудь о ней?
Егорка качнулся и чуть не сел, где стоял… Таким полымем в лицо бросилось, что он едва не отставил алебарду в сторонку и не начал прижимать ладони к горящим щекам.
Так вот оно что… так вот оно что!
Вмиг вспомнилось, как это все было, когда Никита заставил его поделить с собой ту польскую девчонку… ну, не больно-то пришлось заставлять! При виде ее у Егорки вся кровь взыграла, да он уже и был распален похотью, налюбовался, как другие имеют польских блудниц почем зря. А он никак не мог ни к одной подступиться: то робость мешала, то девки заняты были. И тут вдруг привалила удача…
Смотрел на ее красное от слез, от боли, унижения лицо, умирал от блаженства, ранее неведомого, и думал только об одном: вот ежели бы всегда так было!.. Конечно, он знал веселых девок, но такого с ним отродясь не было. Потом уже, когда все кончилось и девушка повалилась на пол, будто мертвая, Егорка поднялся на ноги, все еще ощущая сладкие судороги во всем теле, и провел рукой по лицу.
– Взопрел никак? – хохотнул Никита, и Егорка кивнул, а между тем утирал он не пот со лба, а смахивал слезы с глаз. Что-то сделала эта распутная девчонка с ним… не только с естеством, но и с сердцем. Не то ударить хотелось блудницу, которая враз сношалась с двумя мужиками, не то приголубить ее у груди своей. Схватить в охапку, прижать к себе – и уж никогда не отпускать. Ведь ежели порассудить – что она могла против них двух? Разве ей было сладить с распаленными мужиками? Силенки-то у нее все кончились, пока оборонялась от других, пока сабелькой махала! И Егорка подумал: что ж она так люто защищалась, ежели и правда была такой блядью, как говорил Никита? Коли так, давно уже плюхнулась бы и ноги сама развела, ведь если она и впрямь блядь, то ей чем больше стебарей, тем оно лучше.
Уж не оболгал ли Никита эту польскую девчонку? Может статься, она ему от ворот поворот показала, вот он и озлобился, и навешал на нее собак. А Егорка и рад стараться…
Уже с раскаянием взглянул парень на измученное девичье тело. Не удержался – одернул задравшуюся рубашонку. Отчего-то невыносимо стало, что другие пялятся на эти нежные, высоко оголенные ноги. Начал расстегивать кафтан, чтобы прикрыть и голые плечи, и видную в вырезе рубахи грудь. Ему тошно сделалось, даже когда вокруг девушки засуетились ее подруги, пытаясь привести несчастную в чувство. Хотелось растолкать их, прочь отогнать, никого к ней не подпускать! Эх, забрать бы ее, унести к себе, в Стрелецкую слободу, отдать под мамушкин присмотр: «Вот тебе, маманя, девка-невестка. Имя ей Степанида… Степушка… Конечно, она еретической веры и речи не нашенской, и ни гроша не дадут за ней приданого, да это все ништо! Зато люба она твоему сыну так, как никакая купчиха с пятью сундуками люба не будет – ни купчиха, ни поповна, ни старостина дочь!»
Но кафтана расстегнуть Егорка не успел. В покои царицы ворвался боярин Борис Нащокин, а вслед за ним и сам Шуйский. Они, не скрывая, обрадовались, что польская царица жива и невредима, а на изнасилованных женщин поглядывали с ужасом. Видать, сами не ожидали, что может натворить распоясанная ими же самими вольница! Но при этом держались они высокомерно. Без малейшей жалости обрушили на голову царицы новость: муж-де ее, самозваный государь, вор и расстрига Димитрий, убит. Никакая она больше не царица, а должна сидеть под стражей, пока не успокоится народ, возмущенный зверствами «медведя плотоядного» – так Шуйский назвал убитого царя. Потом бывшая царица будет препровождена к отцу, а там и решится их участь. Все же имущество свое она должна вернуть московитам, у коих оно было награблено вором Димитрием, вернее, Гришкою. И тут же принялись раздавать стрельцам и мужикам какое-то барахло. Егорка успел заметить, что это были, конечно, не ларцы с самоцветами, а так – душегрейки, поневы, ленты, сапожки, гребни да зеркальца – все больше бабьи уборы. Но люди и тем довольны были. Наконец Шуйский сказал, что всяк может взять себе в рабыни девку из числа царицыных услужающих. «И пусть, – сказал Шуйский, – ваши жены станут госпожами этим польским шлюхам!»
У Егорки при сих словах аж дыханье занялось. Выходило, что Бог услышал его молитву!.. Сейчас он кинется в ноги Шуйскому и попросит…
Но не успел он слова сказать, мол, хочет забрать к себе эту девку, не успел даже руку к ней протянуть, как вперед выступил Никита. И Степанида досталась ему, потому что Шуйский припомнил, как лихо расправлялся нынче с литвой сей черноглазый стрелец!
Никита взвалил бесчувственную девушку на плечо – да и был таков. Вслед за ним получили в награду женщин еще двое или трое, однако тут польская царица, которая до сего мгновения словно бы пребывала в некоем оцепенении, очнулась и вступилась за своих женщин. Крикнула Шуйскому, что все они – мужние жены, а разлучать жен с их супругами бесчинно даже для язычников, а не только для христиан, коими числят себя москвитяне.
Похоже было, что князь Василий устыдился. Стали судить да рядить, и порешили польских девок оставить в добычу стрельцам да боярам, а баб замужних все же воротить в царицыны палаты. Их и воротили – почти незамедлительно. Но девка Степанида – Степушка! – так и осталась в доме Никиты, в полной власти его жены Ефросиньи, бабы плаксивой да крикливой. Егорке ничего не оставалось, как позабыть свои глупые мечтания и смирить ретивое, которое ныло… ныло-таки! Но кто он был против Никиты? Мальчишка, щенок! Он даже старался пореже встречаться с тем, в ком видел прежде старшего товарища и почти брата.
Но вопрос польской царицы вновь разбередил рану, и он огрызнулся:
– Жива твоя девка, вот все, что я могу сказать. И коли Ефросинья, женка Никитина, ей глотку не перегрызет, глядишь, еще поживет.
С этими словами он торопливо вышел за дверь, ругательски ругая себя за то, что переступил порог этой комнаты, и зарекаясь делать это впредь.
– А ведь Стефка, похоже, пропадет… – задумчиво проронила Марина, когда белобрысый стрелец скрылся за дверью.
– Вот уж кто не пропадет никогда и нигде, покуда на свете есть хоть один мужчина, – хмыкнула Барбара. – Позвольте заметить, моя госпожа, наша участь гораздо печальней.
Марина только вздохнула, потому что Барбара Казановская, ее гофмейстерина, верная подруга и советчица, была права – как, впрочем, и всегда.
Будущее было темно и мрачно, как могила. С высоты сияющего трона она рухнула – ниже низшего. Мятежники, захватившие власть, не просто обобрали ее с отцом – они требуют еще и возмещения убытков, требуют заплатить все, что было потрачено Димитрием на государственное переустройство. У царицы Марины Юрьевны, которая венчалась в русском наряде, неподъемном от количества нашитых на него жемчугов и каменьев (одна головная повязка стоила непомерную, невероятную сумму – семьдесят тысяч рублей!), теперь осталось лишь одно черное платье, в кое она успела облачиться перед тем, как в ее покои ворвалась озверелая толпа. Юбка заскорузла от крови убитого Янека Осмольского, но переодеться не во что. Сундуки пусты, в них ни тряпицы, ни рубашонки, ни пуговки не осталось.
Да что говорить о тряпках? Жизнь и судьбы всех поляков, от самой Марины до последнего поваренка из свиты ее отца, воеводы сендомирского, всецело зависели теперь от милости победителей. Захотят те – и могут убить их, как убили уже многих. Захотят – отдадут в рабство к русским мужикам, как отдали Стефку и еще нескольких несчастных. Захотят – сошлют в Сибирь, на медленную смерть. Захотят – вернут в Польшу. Наверное, сейчас все соотечественники Марины больше всего хотели бы именно этого – воротиться домой.
Все… но только не она!
Она ведь не просто какая-то шляхтянка из Самбора, избранная русским царевичем в жены. Не только ради отцовского имени, но и ради любви к панне Марианне Мнишек совершал Димитрий свои подвиги! Именно неистовая страсть к ней, неодолимое желание посадить ее рядом с собой на трон окрыляли его и являлись движителями его свершений. Более того! Все прежние русские царицы, даже Анастасия, любимая супруга Ивана Грозного, были не более чем мужними женами, после смерти своих повелителей они становились ничем, пустым воспоминанием о прежних почестях и титулах. Марина же, прибыв в Россию, тотчас была венчана на царство – еще прежде, чем стала женой Димитрия. Она сама по себе была царицей – и оставалась ею теперь.
Кто таков Шуйский? Не более чем узурпатор, захвативший престол, свергнув законного государя. Шуйский еще хуже, чем омерзительный Годунов. Тот хотя бы дождался естественной смерти своего предшественника, Федора Ивановича. Годунову не надо было спешить – он и при живом царе являлся, по сути дела, правителем государства. Шуйский же рвался к трону, как опьяненный кровью зверь. Именно Шуйский выводил Марину из храма после венчания с Димитрием и вместе с ее отцом провожал молодую до брачной постели. А в это время плел паутину заговора и знал, что человек, которому клянется в вечной преданности, уже предан им – предан и обречен на смерть. Шуйский сам вор и самозванец, воссевший на престол при живой царице! И он должен, он должен быть свергнут, сброшен, низвержен. Русский трон принадлежит Марине Мнишек, царице-государыне Марине, принадлежит по праву.
Она тихонько вздохнула, и Барбара, исподтишка наблюдавшая за госпожой, невольно поежилась. Этот стальной блеск в глазах панны Марианны, эти стиснутые губы, эти сошедшиеся брови, окаменелые черты и затаенный вздох… Барбаре вдруг пришло на память затишье перед бурей – то недолгое мгновение благости в природе перед тем, как пронесется вихрь, круша все на своем пути, без разбора, без жалости, без мысли.
– Они думают, я потонула в перевороте? Канула в безвестность? – с трудом разомкнув губы, вдруг произнесла Марина. – Нет! Этого они не дождутся. Я – русская царица! Я царица – и останусь ею до смерти!
Барбара молчала. Она знала: панна Марианна не прощает ничего, никому и никогда. Она будет мстить за свое поругание, за свою исковерканную судьбу. Мстить – даже если окажется, что это будет стоить ей жизни.
Да что такое жизнь? Это малость. Богобоязненная, истовая католичка Марианна Мнишек будет мстить, даже если ей придется заложить душу дьяволу!
Июнь 1606 года, Москва, дом митрополита Филарета
– Сударь, не вели казнить… – Старый слуга осторожно поскребся в дверь. – Человек до твоей милости.
Филарет с трудом поднял голову. Нынче он так устал, что даже не имел сил дойти до постели – задремал в широком кресле. Можно было, конечно, кликнуть людей – и раздели бы, и до ложа довели, – однако Филарету тошно видеть хоть одно лицо, даже своих слуг. Нагляделся на морды человечьи – до тошноты, до скрежета зубовного! Жалованный прежним государем, низверженным Димитрием, в чин патриарха Ростовского, он редко жаловал посещениями свою митрополию, предпочитая вершить все дела в Москве. Однако сейчас дорого дал бы, чтобы очутиться подальше от стольного града с его кознями, глумством, лисьими хитростями, изощренной ложью. Подальше от Кремля, в котором воссел ныне на престоле толстый, лысый, подслеповатый, плешивенький человек лет пятидесяти с лукавым выражением толстощекого лица.
Царем в России стал шубник…
Доходы князей Шуйских во многом зиждились на шубной торговле в Москве и близ нее, оттого и звался Василий Иванович в народе шубником. Ничтожное существо. И обиднее всего, что он сам, Филарет, более других приложил руку к возвышению сего ничтожного существа. Словно забыл, что предательство, ложь и обман являются потребностью Шуйского. Как ворон алчет мертвечины, а волк – крови, тот алкал лжи и измены. Однако прекрасно понимал, что сам по себе не способен внушить никому никакого доверия и сочувствия. И подобно тому, как безногие ищут подпор себе в клюках, Шуйский подпирал свои лжи и мошенничества при помощи людей, в народе почитаемых и уважаемых. Одной из таких подпорок служил для него Филарет – в миру Федор Никитич Романов, сын Никиты Романова, племянник покойной царицы Анастасии, первой и любимой жены Ивана Грозного. После гонений Годунова только двое – он, Федор, и брат его Иван – остались в живых из пятерых братьев Романовых, да и то Иван превратился преждевременно в старика, а Федор был насильственно пострижен, так же как и жена его, Ксения Шустова, ныне инокиня Марфа. А ведь именно он, Федор Романов, мог бы по праву требовать себе московского престола – по праву рождения, по праву старшинства. Он, а никак не шубник, называющий себя потомком Александра Невского, однако бывший всего лишь отраслью его брата Андрея…
А чего ты ожидал, боярин Романов? Если заглянешь в свою собственную душу, не кивнешь ли уныло, соглашаясь: ныне ты пожинаешь зрелые плоды собственных деяний! А посажено древо, с которого ты собираешь урожай, было в далеком 1584 году, когда умер царь Иван Васильевич, оставив престол вроде бы сыну Федору, а на самом деле – Годунову, его шурину. Именно тогда умнейший человек Богдан Бельский, провидя неисчислимые беды и козни, которые произойдут от временщика Бориски, задумал подменить царевича Димитрия другим ребенком. Федор и его старший брат Александр принимали в этом самое деятельное участие. Кому, как не Федору, было знать: 20 июня 1605 года Москва встречала истинного царевича, подлинного сына Ивана Грозного, прибывшего на челе соединенного русско-польского войска отвоевать наследственный престол!
Что же случилось потом? Отчего Федор Никитич, сиречь Филарет, ничтоже сумняшеся начал заявлять: на московском троне – самозванец и вор? Отчего он принял участие в заговоре Шубника… тьфу ты, Шуйского?
Оттого, что испугался Димитрия. Почти баснословный, почти выдуманный царевич, из которого равным образом надеялись вить веревки его спасители, Романовы и Бельский, а также поддержавшие его поляки, оказался отнюдь не робким мальчиком, но сильным, деятельным мужем. И те и другие просчитались. Димитрий не собирался никого слушать: ни благостных русских, ни дерзких поляков. Россия была его страной, он намеревался править ею так, как хотел сам. Чудилось, этот царевич явился не из некоего темного традиционного кремлевского быта, а из неведомого и пугающего будущего. Ему не по нраву пришлась патриархальная, закрытая от мира Россия: он пытался отворить все наглухо заложенные двери и окна в этом издревле запертом тереме. Однако и происки приведших его в Москву иезуитов оказались напрасны: менять веру отцов, окатоличивать Россию Димитрий не собирался. Этот царь не желал быть игрушкой ни в чьих руках. Он желал править всерьез и надолго, и у такого мужчины, конечно, должны были родиться сыновья, столь же непреклонные, никому не подвластные, жадные до жизни, как их отец, и точно так же ни с кем не желающие делиться властью, как не желал делать это Димитрий. Федор-то Никитич тихо лелеял надежду на возвышение своего сына, которому пока что едва исполнилось десять лет. Мечтал: настанет время, вспомнят бояре о Мише Романове… Но приглядевшись повнимательнее к Димитрию, он понял, всем существом своим ощутил: при таком царе время Миши Романова никогда не настанет! Они с Бельским страшно ошиблись. Они еще обломают зубы о своего ставленника. А значит… а значит, созданный их усилиями призрак должен перестать существовать прежде, чем уничтожит своих же создателей.
Сам Филарет – монах, инок – не мог бороться за престол. Безродный Бельский тоже мало что значил, ведь благодаря усилиям Годунова он сделался всего лишь полузабытым олицетворением баснословных времен Ивана Грозного. В настоящее время Бельский и Романов могли только поддерживать Шуйского. Однако… однако и Шубник оказался лишь новым подтверждением старинной пословицы: «Пока тонет – топор сулит, а как вытащишь его – и топорища жаль».
Димитрий убит. Шуйский на престоле. За ним издавна тянулась слава скареда – князь Василий Иванович ее вполне оправдал, проведя венчание на царство так скромно, что можно было подумать: он стыдится этого счастливого события. На самом же деле он торжествовал. Так радовалась бы, должно быть, левая рука, которая вдруг стала правой! Кабы дать ему волю, думал Романов, небось новый царь сменил бы прозванье Шуйского на Десницкого! [11]
Новый государь помиловал прежних сподвижников Димитрия, обещая никому не мстить за прошлое, однако и жаловать благами своих сотоварищей, возведших его на трон, не спешил. Бельский должен отправиться в Нижний, а Филарет – в свой Ростов. Каждый остался при своем – выиграл лишь князь Василий Иванович. И, словно в довершение унижения, кое предстояло пережить Филарету, чтобы окончательно осознать, какое ничтожество вознес он к вершинам власти, Шуйский именно ему повелел поехать в Углич за мощами царевича Димитрия.
Того самого, которого Бельский, Афанасий Нагой и Романовы когда-то подменили сыном захудалого дворянина Богдашки Нелидова! А мальчика этого, раненного Осипом Волоховым в шею, сердобольный Афоня, воспользовавшись суматохой, тайно вывез из Углича, и тот впоследствии сгинул неведомо куда, натворив немало страшных дел и отплатив своим благодетелям Романовым черной неблагодарностью. Воистину, чудны дела твои, Господи!
И вот Филарет, Федор Романов, доподлинно знавший, что во гробе никогда не лежал царевич Димитрий, принужден был… привезти в Москву его нетленные мощи. Ибо так ему было велено Шуйским, которому мало показалось предъявить народу труп убитого почти двадцать лет назад царевича – ему непременно понадобились мощи чудотворца.
Бедняги Нагие, Афанасий и Михаил, едва не умерли на месте. Мигом разъехались по своим вотчинам и засели там, словно крысы в норах. Уж кто-кто, а они-то прекрасно знали, чей труп был захоронен в Угличе в том страшном мае месяце…
В том-то и дело, что ничей. Не было там никакого трупа! Гроб опустили в яму пустым!
Вот и тряслись Нагие, уповая лишь на Божие милосердие.
А вот Филарету уповать на него не приходилось, и деваться ему было решительно некуда. Шуйский заявил без всяких обиняков: или мощи Димитрия Углицкого привозятся в Москву, прикрытые, словно покровом, неколебимой значительностью имени Романовых, всегда любимых народом, – или Федора Никитича ждет незамедлительная ссылка в Сибирь. Без всякой надежды на возвращение – ибо дорога в какой-нибудь Тобольск или Пустозерск долга и многотрудна, всякое может случиться с государевым преступником. Скажем, при переправе перевернется утлая лодчонка – а ведь на руках и ногах железы, разве выплывешь?..
И вот мощи были явлены Москве. Царь со всеми архиереями и архимандритами, с огромным числом духовенства, с боярами и думными людьми встречал их за Каменным городом. С царем рядом шла инокиня Марфа, звавшаяся некогда Марией Нагой, седьмой женой Ивана Грозного, подтверждая своим присутствием и действительность мощей, и ложность того, кого называли еще недавно царем Димитрием Ивановичем. Мощи внесли в Архангельский собор и поставили на возвышении. Инокиня Марфа разлилась великими слезами и всенародно покаялась:
– Я виновата перед великим государем, царем и великим князем Василием Ивановичем всея Руси, и перед освященным собором, и перед всеми людьми Московского государства и всея Руси; а больше виновата перед новым мучеником – перед сыном моим, царевичем Димитрием. Терпела я вору, расстриге, лютому еретику и чернокнижнику, не объявляла его долго; а много крови христианской от него, богоотступника, лилось, и разорение христианской веры хотело учиниться; а делалось это по бедности моей, потому что, когда убили сына моего, Димитрия-царевича, по Бориса Годунова велению, меня держали после того в великой нужде, и весь род мой был разослан по дальнейшим городам, и жили все в конечной злой нуже, – так я, по грехам, обрадовалась, что от великой и нестерпимой нужи освобождена, и не известила. А как он со мной виделся, и запретил мне злым запрещением, чтоб я не говорила ни с кем. Помилуйте меня, государь и весь народ московский, и простите, чтоб я не была в грехе и проклятстве от всего мира!
Царь сказал, что ради великого государя, царя и великого князя Ивана Васильевича, и ради благоверного страстотерпца, царевича Димитрия, честных и многоцелебных его мощей, прощает царицу, инокиню Марфу, и просит митрополитов, архиепископов и епископов, и весь освященный собор, чтобы они с ним вкупе о царице Марфе молили Бога и Пречистую Богородицу и всех святых, чтобы Бог показал свою милость и освободил ее душу от грехов.
Словом, сплошная лепота и благость.
А мощи-то и впрямь выдались многоцелебны! Рассказывали, что, лишь только вскрыли в Угличе гроб царевича Димитрия, тотчас начались чудесные исцеления, ну а в Москве они просто валом повалили: в первый день исцелились тринадцать человек, на другой день – еще двенадцать…
До Филарета, конечно, эти два дня доносились всякие разговоры… О том, например, что один купец бил себя в грудь и каялся, что продал государевым людям тело своего мертвого сына, мальчика семи лет – как раз возраста убитого Димитрия. А потом узрел тело сына во гробе. Мертвый был одет в иное платье и вовсю творил чудеса! Другие уверяли, будто не купецкий сын лежит во гробе, а стрелецкий. Нашли-де мальчика по имени Ромашка, заплатили за него отцу большие деньги, убили и положили в Угличе на место Димитрия. Положили – и распустили молву в народе, будто у тела Димитрия делаются чудеса, будто исцеления совершаются. А ведь это один подлог: всякие здоровые плуты приходят и притворяются, будто они больны были и выздоровели, поклонившись мощам.
Да уж… за последние дни столько всякого навидался Филарет, стоя у гроба, что диво, как зубы в крошку не источил, скрежеща ими втихомолку. Только раз и передохнул, когда введенный во храм больной не исцелился, а взял да и умер. Впрочем, пришлось объяснить это его безверием. А потом Филарет сам слышал, как иноземцы спрашивают сидящих у церкви увечных да слепых: «Что же вас царевич не исцеляет?» – «По маловерию нашему, – ответствовали страдальцы. – Бог чрез ангела своего объявляет нашим архиереям и попам, кого он удостоит исцелить!»
Наконец-то издевательство закончилось, и Филарет смог воротиться домой. Принял чарочку, другую, отужинал, раскинулся вольно в своем укромном покойчике… Думал, снизойдет благость душевная и отдохновение настанет, но ничуть не бывало: во рту было пакостно, словно не яствы дорогой откушал, а, к примеру, дождевых червей или еще чего более непотребного. На душе царило еще более мерзкое ощущение. И только-только стал успокаиваться, как принесла же нелегкая невесть кого!
А кого она, однако, принесла?..
Слуга, старый, преданный, обласканный еще покойным братом Александром Никитичем, кого попало в дом не впустит. Тем более что ему был отдан строгий наказ: не тревожить господина. Однако осмелился и потревожил… Значит, стряслось что-то и впрямь весьма важное.
Филарет внезапно сорвался со своего ложа: а если, храни Бог, беда с Мишей?!
В три шага достиг двери, распахнул ее:
– Что там такое, Матвеич?
Приникший к створкам старик отшатнулся в сторону, открыв взору Филарета невысокого худощавого мужчину, который отвесил поясной поклон и без спросу шагнул в покои. Повинуясь его небрежному взмаху, старик притворил дверь.
Филарет нахмурился. С чего это Матвеич так стелется перед этим неизвестным? Да, его лицо, вырванное из темноты колеблющимся пламенем трехсвечника, – молодое, худое, с каким-то голодным, жадным выражением бледно-голубых глаз, обросшее неровной рыжей бородкой, – было незнакомо Филарету. А впрочем, нет… Вроде бы он когда-то видел этого человека… давно-давно, и тот был без бороды… нет, не вспомнить! Да мало ли народу прошло за жизнь перед глазами – разве всех удержишь в памяти?
Да ведь это небось чей-нибудь слуга с тайным поручением, осенило вдруг Филарета, и непонятная тяжесть, прильнувшая было к душе, отлегла. В самом деле, что это он так взволновался, словно не какой-то невзрачный мужичонка постучался в дверь, а вестник судьбы?!
– Кто тебя прислал? – высокомерно спросил Филарет. – Ну, говори быстрее, недосуг мне тут со всяким…
– Никто меня не присылал, – передернул плечами пришелец, и Филарет заметил в вороте распахнувшейся голошейки [12] старый, поблекший шрам, перечеркнувший его горло. – И я тебе не всякий. Я – один!
– Не всякий? Один? – дивясь такой наглости, вскинул брови Филарет. – Кто ж ты таков есть?!
– Не признал, Федор Никитич? – Губы незнакомца чуть раздвинулись в усмешке, в которой не было ничего веселого, а только скрытая угроза. – Не признал крестника?
– Какого еще крестника?! – сердито выкрикнул Филарет, непонятно чего испугавшись и пряча этот страх за гневом. – Нет у меня никакого крестника. Назовись, ну? Как твое имя, как прозвание?
– Имя мое – Димитрий, – сказал незваный гость. – А по батюшке – Иванович. Царевич Димитрий Иванович.
Июнь 1606 года, Москва, Стрелецкая слобода
– Тетка Фрося, отвори. Да чего испугалась? Это я, Егор. Как живешь-можешь?
– С чего ты обо мне так озаботился?
– Да ведь я всегда… по-соседски… А Никита дома ли?
– Словно не знаешь, что он в карауле нынче? Небось для того и пришел, что хозяин в нетях.
– Забыл, тетенька, вот те крест святой, забыл. Ну а уж коли я тут, не дозволишь ли взойти?
– Ох, парень, шел бы восвояси. Добегаешься до беды! Скажу Никите, что ты тут ошиваешься, он же возьмет тебя за руки, за ноги, да и раздерет начетверо.
Молодой стрелец обиделся – так и стал на ступенях:
– Ну ладно-ка! Меня сперва возьми! А потом, с чего бы это Никите меня начетверо драть? Мы небось товарищи. Я ему помощник… вон, как напился Никита на крестинах у Яшки Лыкова, кто его домой приволок?
– Не помощник ты, а потатчик, – грустно усмехнулась хозяйка. – Ладно, входи в самом деле, коли пришел. И дверь затвори – мухи летят.
Егор стащил шапку и, чуть пригнувшись под низковатой притолокой, вошел в горницу. Перекрестился на иконы, но глаза так и шарили по сторонам.
– Вот-вот, – не то печально, не то ехидно пробормотала хозяйка, – губами Бога славишь, а взором беса шаришь.
Егорка покраснел:
– Какого беса? Чего ты, тетенька Фрося, право?..
И заюлил глазами, не зная, куда спрятать их от взгляда хозяйки. Чудилось, эта худенькая женщина видела его насквозь.
Никита был не больно-то намного старше Егора – тремя всего лишь годами, – однако жена товарища казалась молодому стрельцу чуть ли не ровесницей покойной матушки. И не столько оттого, что всегда была если не по-матерински, то по-сестрински приветлива и ласкова к парню, норовила угостить его своим вкусным печивом, побаловать свежими щами или жареной рыбой, до которой оба они большие охотники. Рядом с сильным, широкоплечим, громкоголосым Никитой она порой казалась иссохшей, робкой тенью прежней Ефросиньи. Да, Егор помнил жену товарища совсем другой.
Четыре года назад Никита сватал за себя певунью и плясунью, глазастую хохотушку. На дочь сотника Андрея Покровского таращились все молодые стрельцы, она могла выбрать самого завидного жениха. Таким и был первый красавец, удалец, молодец Никита Воронихин. Парни завидовали Никите, девки – Фросе, Никитина матерь, Наталья, нахваливала бабам будущую сношеньку: и рукодельница-де она, и хозяйка отменная, и скромница, и приданым не обделена…
Чудилось, за этой счастливой парой сам Господь приглядывает, ан нет – за месяц до намеченной свадьбы вышла беда: Покровский погиб в бою с татарами, подступившими вплотную к Москве, дом чуть не два дня спустя сгорел при пожаре, которые тем летом вспыхивали в столице с ужасающей внезапностью. Люди баяли, мол, лиходеи жгут город по приказу царя Бориса, вознамерившегося наказать народ за разговоры о Димитрии-царевиче, который скоро придет отнять у Бориски незаконно присвоенный престол. Промыслом ли бесовским или человеческим, но пожар вспыхнул, хотя затронуло всего пять домов с самого краю Стрелецкой слободы. Занялось среди ночи – Фросенька едва успела выскочить в чем была. Она осталась одна – бездомная сирота: мать померла еще раньше, Фрося ее почти и не помнила. Вместе с домом, сгоревшим дотла, сгинуло и все ее приданое, все отцовы заботливо припрятанные в подполе захоронки.
Увидав погорелицу, Наталья так поджала губы, что чудилось, не разожмет их вовек. Да и Никита явственно закручинился… А ведь бедную девку жалели все: сам полковник в память о заслугах ее отца наделил Фросеньку некоторыми деньгами и громогласно заявил, что почтит своим присутствием ее свадьбу. Злые языки утверждали, что после таких слов Воронихиным ничего не оставалось, как исполнить прежние обещания, чтобы не прослыть в глазах начальства клятвопреступниками, лгунами и жестокосердыми разбойниками. Бог их весть, чужая душа, конечно, потемки, однако не одним приметливым взглядом было замечено, что Никита под венцом стоял хмурый, как туча, а некогда медоточивая Наталья исшипелась на сноху, исщипала ей бока и руки: и стоишь-то не так, и глядишь не этак, и ступила не туда, и сказала не то…
Да, Фросенькино счастье сгорело в том же огне, что и ее приданое. Свекровь пилила ее безостановочно, изводила тяжелой работой, даже когда Фрося зачреватела, Наталья ее не щадила, никак не пыталась облегчить ее участь. А уж когда случился выкидыш и стало ясно, что больше детей у Фроси быть не может, жизнь ее поистине превратилась в ад. Никита, не скрываясь, не стыдясь соседей, жестоко бил жену. Ничего необычного в этом не было: люби жену как душу – тряси как грушу, гласит старинное присловье, однако в том-то и дело, что любовь Никиты давно сошла на нет. Мать своими попреками: даровой-де кусок заедает наша криворукая! – только подстрекала сына. Соседки, сердечно жалевшие молодку, от которой осталась ровно четверть прежней стати, лишь тень – от прежней красоты и ровно ничего – от веселости, втихомолку перекрестились, когда Господь прибрал-таки злонравную Наталью. Думали, может, теперь Ефросинье станет легче…
Легче не стало – напротив, сделалось куда тяжелей. Раньше, при жизни свекрови, бедная молодка могла хотя бы уповать на то, что это Наталья настраивает сына против жены-неудахи. Теперь же стало ясно: Никита и сам проклинает тот день и час, когда пошел с Фросей под венец. Конечно, она осталась хорошей хозяйкой, но муж словно и не замечал чистоты и уюта в доме, будто не разбирал вкуса подаваемых ему кушаний. Постель давно стала для бабенки мучением: при малейшей попытке приласкаться муж называл Ефросинью блядью и колотил почем зря, ну а когда она таила чувства, пыталась держаться скромницей, Никита не скупился на «ласковые» слова: бревно нерожавое, льдина-холодина, постылая да немилая… Он пил все чаще, все больше, а вскоре Ефросинья поняла, что Никита от нее погуливает. Да он особо и не скрывался: спать с женой он теперь не ложился, ночевать приходил не часто.
Доля женская – терпеть и ждать. Постепенно Фросенька притерпелась к такой новой жизни. Чем меньше внимания обращал на нее Никита, тем было легче: хоть не бьет! Эх, если бы у нее был ребенок…
Да, был бы ребенок! Тогда все сложилось бы иначе. Ей было бы кого любить… Но постепенно Фросенька смирилась и со своей бесплодностью. Она жила одним днем, как трава растет, едва поспевая передохнуть между двумя приступами мужниного беспричинного гнева.
Впрочем, отчего ж – беспричинного? Причина была только в ней. Фрося понимала, что Никита хотел бы другую жену: здоровую, а не больную, веселую, а не вечную печальницу с глубоко затаенным укором в глазах, ласковую игрунью, а не пугливую смиренницу, вдобавок – заботливую мать выводка мальчишек, таких же белолицых, румяных да черноглазых, как сам Никита, с такими же вишневыми, тугими губами, вкус которых Фрося давно уже забыла и которые лишь иногда, во сне, являлись ей в воспоминаниях… тогда не хотелось просыпаться.
Спать бы и спать, вечно пребывая в тех незабываемых временах, когда Никита еще любил ее!
А что, если однажды заснуть и не проснуться?
Она начала втихомолку мечтать о смерти. Но о смерти милосердной, за которой не последовало бы расплаты ни ей, ни Никите. Если Ефросинья сама наложит на себя руки, гореть ей в адовом огне. Если Никита однажды убьет ее в ярости, муки посмертные ждут его. Ах, кабы все свершилось само по себе… кабы однажды вечером, возвращаясь из церкви, попалась она лютому душегубу, который свернул бы ей шею… чтоб не особенно мучиться при этом. Хоть и настрадалась Ефросинья телесно за свою жизнь неисчислимо, она все же продолжала бояться боли.
Но душегуб-спаситель отчего-то не встречался Ефросинье. Зато в ее доме появилась душегубица…
Недели две назад Никиту словно подменили. Среди дня он ходил как пьяный, глаза его, чудилось, уплывали невесть куда, а с губ не шла улыбка – такая ласковая, такая нежная, что у Фросеньки щемило сердце. Вот таким же был Никита в те давние, незабытые времена их весны, их любви. Сейчас тоже стояла на дворе весна, буйствовала по дворам черемуха с ее горьким, безумным запахом, и Фросенька всем существом своим ощущала, что все вокруг готово сойти от счастья с ума. Вот и Никита сходил с ума, но от чего? От какого такого счастья?
Он даже к жене изменился – не то чтобы подобрел, но ни разу не отвесил тумака, ни разу не вызверился. Он ее словно не видел, как не видел лавок и столов, на которые натыкался – и не ощущал боли. Каждый день, каждую минуту Ефросинья исподтишка наблюдала за мужем, хоть видела его редко: Москва готовилась к государеву венчанию, охрану Кремля удвоили, а роту, где служил Никита, отрядили на обереженье Вознесенского монастыря, где теперь жила польская невеста. Ефросинья узнавала об этом от соседок: Никита ничего и никогда жене не рассказывал.
А потом… потом что-то вновь случилось с мужем. Он спал с лица, почернел – и впервые за много дней, недель, даже месяцев пришел ночью к жене. Не ласкал – насиловал жестоко, а она терпела, грызла руки, чтобы не кричать от боли, чтобы не разозлить мужа. Глаза у него были безумные, а лицо такое – чудилось, убьет, если что не по его станется! Каким-то чутьем – вот именно, не человечьим пониманием, а почти звериным чутьем – Ефросинья поняла: не ее насилует Никита, не ее крови, страданий, криков жаждет, не ее чает убить. И вот тут-то ужалила ревность – да так, что Ефросинья едва не задохнулась от сердечной боли. Одно было знать, что Никита таскается по блядям, которые ко всем ласковы. Ну и посношался с ними, что ж такого, мужики без блуда не могут, а тело заплывчиво, дело забывчиво… И совсем другое – видеть его обезумевшим от обиды, от раны, нанесенной какой-то женщиной.
Муж снова исчез из дому на несколько дней. Ефросинья ждала, затаившись, маясь от предчувствия беды. Когда однажды на рассвете ударили в набат, невольно закричала, вскинувшись в постели. И слезы лились, лились весь тот день безостановочно. Отчего казалось, что теперь решается ее судьба?..
А вечером Никита воротился – и не один. Нес на плече бесчувственную девку. Свалил ее на пол в сенцах, глянул на Ефросинью и – сразу поняла жена – не увидел ее своими налитыми кровью глазами.
– Вот тебе служанка, – пробормотал, едва владея губами. – Делай с ней что хошь, хоть изруби в капусту. Гоняй в хвост и гриву, твоя она. Со свету сживи! Ремней со спины нарежь!
Он и сам не соображал, что кричал. Трясся весь от непонятной ярости, от злости.
«За что он ее так ненавидит?» – в первую минуту подумала ничего не понимающая Ефросинья.
Девка была как девка: беленькая, пухленькая, что оладушка. Только мятая вся, ободранная, полуголая – в одной рваной рубахе. Между ног кровь, на груди и шее следы зубов, руки в синяках. Губы вспухшие.
«Что с ней делали?!» – ужаснулась Ефросинья. И тотчас поняла – что , а еще поняла, кто это делал.
Никита. И не девку он ненавидит, а себя – за то, что содеял это . А еще все то же звериное, необъяснимое чутье подсказало Ефросинье: а ведь это та самая девка, из-за которой сходил с ума Никита. Сходил – и сошел-таки окончательно!
Ей бы преисполниться злорадством… но, как верная собака, которая кусает всякого, обидевшего хозяина, Ефросинья преисполнилась ненавистью не к мужу, а к его мучительнице. И, увидав это раскинувшееся, белое, нежное тело (разве сама она в минувшие времена была хуже? Разве груди ее были не столь пышны?), она не смогла сдержаться: набросилась на беспомощную, бесчувственную девку, начала тормошить ее, бить, пинать, кричать что-то дурным голосом… Никита насилу отогнал жену, а утихомирил ее, только крепко приложив об стену.
Фрося давно отучилась плакать: даже когда бивал муж, утиралась, как кошка – лапкой, вскакивала на ноги и бежала что-нибудь ладить по хозяйству, ведомая немудреной бабьей хитростью: за делом боль избывается. А тут никак не могла успокоиться: выла да причитала, словно весь запас невыплаканных слез решила излить зараз. Никита сперва вызверился на жену, да Ефросинья завела в голос – он и плюнул, кинулся вон из избы, сжимая голову руками.
Фрося это едва ли заметила – захлебывалась от рыданий, не могла передохнуть, даже разогнуться сил не было, такая игла вонзалась в сердце, что снова скрючивалась в углу. Но постепенно ее сморила усталость, от слез заболели глаза, пересохло во рту от стенаний. Трясло ознобом; она свернулась клубком, пытаясь согреться (встать, идти куда-то, где теплее, чем на земляном полу настывших сеней, не было сил), как вдруг ощутила рядом что-то теплое. Бездумно прильнула к этому живому теплу, вздохнула – и внезапно провалилась не то в сон, не то в беспамятство. И так ей было хорошо, так спокойно… чудилось, в жизни не ощущала она ничего подобного, ну, разве что в незапамятные времена, когда засыпала рядом с мамушкой, прильнув к ее жаркому, сдобному боку…
Проснулась от смутной тревоги. С трудом разлепила склеенные слезами веки, подождала, пока глаза привыкнут к сумраку сеней… И не поверила тому, что увидела: оказывается, она лежит, прижавшись к этой драной белотелой девке, греясь от нее – и согревая ее своим телом. Видимо, и добыча Никитина тоже уснула, потому что Ефросинья увидела, что она сонно, непонимающе распахнула свои темные, словно спелые вишенки, глаза. В первое мгновение дернула рукой, словно хотела осенить себя крестным знамением, однако тотчас замерла и с нескрываемым ужасом уставилась на хозяйку. Но Ефросинья поняла, что незнакомка испугалась не ее. Они обе враз проснулись от звука тяжелых шагов на крыльце, обе мгновенно смекнули: это возвращается Никита – и обе были до смерти напуганы этим.
Дверь распахнулась, на пороге замер вернувшийся хозяин. Позади него садилось солнце, и Ефросинье почудилось, будто фигура мужа окружена сполохами ад-ского пламени. Он какое-то время всматривался в полутьму, а потом с усилием вытолкнул из горла хриплый смешок:
– Вижу, поладили? Ну, вот и ладно. Давай, Стефка, иди на лавку ложись. Еть тебя стану почем зря.
Язык его заплелся, и Ефросинья поняла, что муж чудовищно, беспросветно пьян. Давненько она его не видела таким! Что-то сейчас будет?.. «Бедная, бедная…» – подумала она и с изумлением обнаружила, что жалеет не себя, а эту незнакомую приблуду. Но вслед за языком заплелись и ноги Никиты: он грянулся на пол во весь рост. Грянулся – и замер недвижим.
«Убился!» – мелькнуло в голове Ефросиньи, и она оглянулась на девку. Та смотрела не то с ужасом, не то с надеждой, и Ефросинья вдруг подумала, что видит в ее лице отражение собственных чувств. Но тотчас Никита громко вздохнул, неуклюже перевернулся на спину – и громко захрапел.
Живой. Спит.
Ну, пока спит – не страшно!
– Помоги-ка, – велела Ефросинья, вставая и пытаясь приподнять каменно-тяжелое тело Никиты.
Девка шевельнулась – и тут же вся перекосилась, побелела, застонала.
Ефросинья покачала головой. Да, мало ей возни с беспомощным Никитою – еще и эта блядешка неведомая навязалась.
– Стефка… это что ж за имя такое нехристианское? – пробормотала она и была немало поражена, услышав ответ:
– Стефания… То по-польски. Сте-па-ни-да по-русски будет.
Голос у девушки был хриплый, сорванный – видать, кричала много нынче да плакала. Слова выговаривала слишком твердо, не по-русски. Ну да, ежели имя у нее польское, то и сама полька. Не из тех ли, кого нынче московский народ бил почем зря? Сама Ефросинья избиения не видела – соседки сказывали, крови-де иноземной пролили… Заодно с поляками и царя Димитрия порешили!
Ну, до царя Ефросинье дела не было: одного порешили – другой сыщется, это уж всенепременно. Была бы шея, а хомут найдется. Гораздо больше ее заботило, как они теперь уживаться станут с девкой Стефанией, а попросту – Степанидой? Для чего Никита приволок ее? Уж, верно, не для того, чтобы по хозяйству жене пособлять! Станет эта хорошенькая черноглазая беляночка греть ему постель… а Ефросинья, что же, за прислугу у них будет? Хотя нет, Никита говорил, девка, наоборот, ей в прислуги дадена. Зачем? Всю жизнь сама управлялась, какая еще, к лешему, прислуга нужна?! Ох, ничего она не понимает, ничегошеньки! И страшно, страшно отчего-то как!
В это мгновение снова заскрипели ступеньки под чьими-то торопливыми шагами, и на пороге возникла еще одна мужская фигура. Стефка при виде гостя взвизгнула, будто ее шилом ткнули, Ефросинья аж подскочила, вгляделась испуганно в пришедшего – и вздохнула с облегчением:
– Чего ты, дурная? Так заорала – я думала, тать лесной! А это ж Егорка Усов, нашла кого бояться.
Однако Стефка продолжала скулить и жалась к Ефросинье, словно котенок к мамке, чуть ли не под подол норовила забиться. Сосед, первый друг мужнин и гость-завсегдатай Егорка, тоже держался странно: топтался в дверях, не решаясь войти в дом, а на лице его – простеньком, конопатом, добродушном – застыло такое выражение, как будто его изнутри черти грызли. В голубых глазах блестели слезы, пухлые детские губы, окруженные едва заметной, белобрысой щетинкою, дрожали, пальцы мяли полу кафтана. Никогда Ефросинья не видала его таким и не могла не спросить:
– Что с тобой, Егорушка?
Парень поник головой.
Стефка перестала выть и тихо, горько плакала, порою отирая слезы краем Ефросиньина передника. Плечи Егора вдруг тоже начали дрожать, а потом, поминутно шмыгая носом, покаянно вздыхая и путаясь в словах, он рассказал обо всем, что произошло в царицыных покоях. И тогда Ефросинья подумала, как же глупа она была, что жаловалась на свою жизнь. Кажется, самое страшное в ней только начиналось…
Но человек привыкает ко всему. Шли дни. То, что в первое время казалось страшным и непереносимым, постепенно сделалось привычным. Да, Ефросинья привыкла к присутствию Стефки, к тому, что Никита всякую ночь, которую проводит дома, берет польскую девчонку к себе в постель. Днем же он не обращал на нее никакого внимания, словно на приблудную кошку, и не уставал напоминать, что польская блудница – не более чем рабыня в их доме. Стефка сначала плакала, не осушая глаз, но спустя месяц немного ожила: с лица сошли синяки, на губах и в ярких, вишневых глазах порою вспыхивала улыбка. О нет, это происходило не тогда, когда она слышала пьяный рык Никиты:
– Эй, ты, блядища, а ну поди сюда, ложись!
В эти минуты Стефка напоминала человека, который движется во сне, одержим ночеходом [13]. А улыбалась она – и то лишь изредка, – когда с ней заговаривала Ефросинья. И… когда к Воронихиным – конечно, в отсутствие хозяина! – заглядывал Егорка Усов.
Июнь 1606 года, Москва, дом митрополита Филарета
– Да ты не бойся! – махнул гость на онемевшего хозяина и свободно прошел к столу, крытому парчовой скатертью. – И не гляди на меня так, словно я – ожившие мощи, кои вы нынче на потеху болванам выставили в Архангельском соборе. Может, те мощи и чудотворные, да не мои! Главное чудо, которое я покуда умудрился сотворить, – это в живых остаться.
Хохотнул, довольный остротой, качнул чару, стоявшую на подносе, и недовольно поморщился: та оказалась пустая.
– Эй, Матвеич!
Дверь немедля распахнулась, и Филарет глазам своим не поверил: на пороге возник старый слуга с подносом в руках. Ишь ты… травничек и капустка, и грибочки, и медок сотовый… рыбка…
Что за притча? Филарет уже отужинал. Для кого же все это наготовлено?
Тотчас он получил ответ – для кого. Матвеич метал еду на стол с проворством невиданным, с поклонами да приветливыми поглядываниями на незваного гостя. Все его старческие морщины лучились счастливой улыбкою. Причем на хозяина он даже и не смотрел, и такое впечатление, прикрикни на него сейчас Филарет, затопай ногами: пошел-де вон! – Матвеич и не услышит. Зато безоговорочно повиновался снисходительному кивку пришельца и убрался за дверь, приговаривая:
– Кушай, свет мой батюшка, кушай во доброе здоровьице!
Свет его батюшка был, надо полагать, этот рыжебородый, и ему же предлежало пожелание доброго здоровьица…
Филарет опустился в кресло, отказываясь что-либо понимать.
Неужто недоверчивый, угрюмый Матвеич и впрямь поверил, будто незваный гость – чудом оживший Димитрий?! Ну, тогда старик совсем спятил. Неизвестный лишь отдаленно похож на убитого царя мастью (волосы у них рыжеватые) да статью (оба невысоки ростом, худощавы, однако широкоплечи), но никак не напоминает бывшего государя чертами и цветом глаз. Кроме того, Филарет сам видел на Красной площади труп – это был истинно Димитрий, пусть и обезображенный, но все же он, он, вдобавок с такой дыркой напротив сердца, что никакая ни дьявольская, ни Божеская сила не могла бы его воскресить, что бы там ни болтали досужие люди.
А они, конечно, болтали… Болтунов этих ловили по приказу Шуйского, и был им один конец – камень на шею да в Москву-реку. Перед смертью они кричали, что умирают за истинного государя и что он жив. Не один ли из таких спятивших стоит (нет, уже нагло сидит!) сейчас перед Филаретом? Скорее всего так оно и есть! Ну, понятно: всякая козявка лезет в букашки, так уж заведено. А Матвеич по старости из ума выжил, вот и принял его бредни за чистую монету.
Ну что ж, как ни жаль Филарету будет расставаться со старым слугой, единственным, кто напоминал ему о брате Александре, а все ж придется послать Матвеича в деревню. Пришло время ему старые косточки на солнышке парить. Этого же… Димитрия… можно уничтожить насмешкою. А не удастся – кликнуть других слуг, менее доверчивых, нежели старик, и велеть выкинуть его вон, предварительно навешав таких тумаков, чтобы навеки позабыл свои опасные измышления и крамольные бредни.
– А я-то думал, что человека в пепел обратить можно, а вот пепел в человека – никак нельзя, – хмыкнул Филарет, пренебрежительно глядя на вольготно развалившегося «Димитрия Ивановича». – Тебя ж сожгли, как же ты вновь облик человечий принял?
– Никто меня не жег, – на диво серьезно ответил гость. – Резать – резали, а жечь – Господь миловал.
– А, ну понятно, – кивнул Филарет, кривя губы в улыбке. – Станешь сказывать, что заранее знал о том, что тебя убить умышляют, и успел улизнуть, подсунув на свое царское ложе кого-то другого? Поведаешь, как он, сей подмененный бедолага, кричал: я-де не царь Димитрий, да его и слушать никто не стал?
– Ты меня тоже не слушал, – с укором сказал рыжебородый. – Разве я царем Димитрием назвался? Я назвался царевичем !
Филарет уставился на него, в первое мгновение ничего не поняв, и тогда рыжебородый, медленно ощерив в улыбке щербатый рот, снова раздвинул ворот своей голошейки, обнажив едва заметный белесый шрам, перечеркнувший ему горло.
Филарет резко набрал в грудь воздух да так и замер… Догадка обрушилась на него, словно удар дубинкой по голове. Ноги подкосились, он неловко плюхнулся на лавку и какое-то время нелепо шевелил губами, чувствуя, что сейчас задохнется, но не в силах даже перевести дух. Наконец как-то справился с собой, прокашлялся.
– Узнал? – спросил этот… как его назвать – неведомо.
– Мудрено того узнать, кого никогда не видал, – все еще сдавленным голосом проронил Филарет. – Как докажешь, что это ты?
– А чего мне доказывать? – хмыкнул пугающий гость. – Ты на Матвеича погляди. Небось никак в толк не возьмешь, чего он предо мной пыль бородой разметает? А ведь мы с ним у брата твоего, Александра Никитича, оба некогда служили. Вот он по старой памяти и выстилается.
При этих словах Филарету почудилось, будто кто-то взял его за сердце ледяной рукой и стиснул что было силы.
– Юшка? – выхрипел он с болью. – Ты… Юшка? Ты – сын Отрепьев?!
Бледно-голубые глаза потемнели и сверкнули воистину адским огнем.
– Знаешь сам, что сталось с твоим братом после того, как он назвал меня этим именем, – угрожающе проронил гость, и Филарет поник в своем кресле.
Да. Он знал… Теперь он знал, что перед ним сидит тот самый человек, чьим истлевшим косточкам полагалось бы находиться во гробе, вскрытом в Угличе. Юшка Нелидов-Отрепьев, взятый за немалые деньги у своего многодетного, вконец обнищавшего отца взамен настоящего царевича, коего Богдан Бельский некогда сокрыл у каких-то верных людей… Когда Афанасий Нагой увез раненого подменыша из Углича, родной отец отказался принять его обратно: лишний-де рот. Дом Нелидовых-Отрепьевых находился неподалеку от имения Михаила Романова – так Юшка попал в семью, имевшую непосредственное касательство ко всей этой истории с подменою царевича. От Михаила он перекочевал к Александру, а потом… потом разразилась над всеми Романовыми страшная гроза. Какой-то слуга написал донос, будто Александр Никитич хранит у себя мешок с ядовитыми травами и жаждет отравить государя Бориса Федоровича Годунова. Оный государь спал и видел, как бы уничтожить любимых народом братьев Романовых, в каждом из которых он видел соперника. Донос пришелся как нельзя более кстати: Романовых выкорчевали из жизни, словно куст чертополоха из земли. Уже много лет спустя, при случайной встрече, Бельский поведал Филарету, кого он подозревал в написании доноса… Вот этого самого Юшку, который сидел сейчас перед Филаретом и нахально щурил свои блеклые глаза! Якобы Юшка сей обрюхатил какую-то девку на романовском подворье, а боярин Александр Никитич приказал охальнику девичий грех прикрыть свадьбой. Юшка же нагло заявил, что невместно ему, сыну государеву и природному царевичу, брать за себя простолюдинку. Романов расхохотался в лицо дерзецу и открыл ему правду о его происхождении. Юшка не пожелал поверить, начал угрожать хозяину, и тогда разъяренный Александр Никитич приказал его связать, заткнуть рот, а потом объявил сумасшедшим и отдал своему старому другу, настоятелю Чудова монастыря, отцу Пафнутию, который незамедлительно постриг зарвавшегося Юшку в монахи, дав ему имя Григорий. Увы, не крепки оказались монастырские замки, не высоки стены. Новоявленный брат Григорий вскоре удрал из Чудова монастыря и растворился в темных российских просторах.
Каким-то загадочным образом – Филарет понять не мог, каким! – имя этого Гришки Отрепьева, монаха-расстриги, возникло в измышленном, клеветническом письме монаха Варлаама Яцкого, оттуда попало на язык Годунову и намертво прилипло к Димитрию – к истинному Димитрию, пепел которого ныне развеялся по ветру в западной стороне…
Но это произошло позднее. А поначалу Юшка, сиречь брат Григорий, обретя в монастыре относительную свободу, сквитался с Романовыми, написав на них донос…
Нет, конечно, доказано сие не было, это вполне могло оставаться только домыслом Бельского, которому Филарет прежде не очень-то верил, однако сейчас, поглядев в эти слишком светлые, пугающе-светлые глаза «царевича Димитрия», он вдруг осознал: все произошло именно так, а не иначе.
Итак, перед ним сидел убийца его братьев, погубитель семьи Романовых, виновник того, что на голову признанного щеголя и чуть ли не первого красавца Москвы Федора Никитича был нахлобучен клобук, что он был разлучен с семьей, терпел унижения, голод, холод, горькую нужу…
Черная кровь хлынула в голову! Филарет стиснул кулаки, потом потянулся было к колокольцу – позвать слуг, однако Гришка оказался проворнее и перехватил его руку.
– Не зови никого. Не надо! – сказал вкрадчиво. – Я убью тебя прежде, чем ты успеешь пикнуть. А Матвеич поможет мне уйти.
– Да чем ты Матвеича приворожил? – воскликнул Филарет. – Неужто одной только старой памятью?!
– Не только, – качнул головой Отрепьев. – Видишь ли, его внучка Манюня – моя прежняя полюбовница. Да и ныне меня своей милостью жалует, отказа у ней не знал – да и знать, верю, не буду никогда. У старика она одна родня осталась, ради ее блага он себя на куски даст изрезать. Поэтому он мне предан так, как никому другому предан не будет. Даже тебе.
– Зачем пришел? – с ненавистью спросил Филарет, вырывая руку из его холодных, влажных пальцев. – Убить меня? Весь наш род под корень свел – и меня решил прикончить?
– Ну сам посуди, – качнул головой Гришка, – за что меня коришь? Не я ваш род свел – вы Годунову поперек горла много лет стояли, он на вас давно зубы точил, вот и схватился за мало-малейший повод с вами расправиться. Не мой извет [14], так другой предлог к сему нашелся бы, а то и без всякого предлога обошелся бы наш Борис Федорович. Разве не так?
Правда в его словах, конечно, была. Романовы давно ходили по острию ножа, беспрестанно раздражая Годунова фамильной гордыней.
– А убивать тебя у меня и в мыслях нету, – продолжил Гришка. – Зачем? Ты мне нужен… как и я тебе.
– Ты?! Ты мне нужен? – с издевкой воскликнул Филарет. – Это на что же, позволь тебя спросить? Какая у меня в тебе может быть надобность?
– Да очень простая, – пожал плечами Гришка. – Шуйского с престола сковырнуть. Или, может, ошибся я, и ты больно рад, что он до власти дорвался и вцепился в нее руками и ногами, присосался, аки паук к мухе?
Мгновение Филарет смотрел на него молча, потом провел рукой по лицу, перевел дух… Наверное, для кого-то постороннего это прозвучало бы нелепо, даже дико, однако же Филарет почувствовал что-то вроде облегчения. С этим человеком не надо притворяться, говорить намеками, иносказаниями, с ним можно быть самим собой. Он все понимает с полуслова. В чем-то незваный гость и Филарет – два сапога пара…
Конечно, этот Гришка Отрепьев предатель и убийца, достойный отмщения, – однако месть долго ждала, может еще погодить. Сейчас важнее другое.
– Не рад я Шуйскому, – кивнул Филарет, – что верно, то верно. Однако все же в толк не возьму, ты чем моему горю пособить можешь.
Гришка медленно жевал хлебную горбушку, изредка обмакивая ее в мед, запивая крепчайшим травником, словно простой водой. На Матвеичевы разносолы он и не глядел. Значит, был неприхотлив в еде и весьма крепок в выпивке.
– На днях шлялся я по Красной площади, – неразборчиво пробормотал гость. – Видал на Лобном месте бабу какую-то и мужика. Они крест целовали, мол, кровные мы Гришке Отрепьеву – сиречь бывшему царю Димитрию, самозванцу. Баба-де мать его, мужик – брательник. Тошно мне стало на лжу такую глядеть.
– Отчего ты знаешь, что это ложь? – не удержался от злоехидства Филарет. – Неужто на Отрепьевых обиделся?
– Не, это не Отрепьевы, – мотнул головой гость. – Они уж давно на том свете.
– Померли? Неужто всех Бог прибрал? Всех до единого? – удивился Филарет, смутно помнивший, что в семье Нелидовых была куча ребятни мал мала меньше.
– Всех до единого, – кивнул гость. – Вдобавок в одночасье. Вот беда какая.
– И впрямь беда, – посочувствовал Филарет. – И как же это вышло? Мор напал? Или злые люди порешили?
– Пожар сподеялся, – пояснил Юшка. – Разом дом занялся, никто не выскочил. Даже и на помощь позвать не успели: кто в дыму не задохнулся, того придавило. Домишко-то старый, одно название, что усадьба. Стропила насквозь прогнили – крыша сразу и рухнула.
Филарет призадумался. Откуда ему известны такие подробности?.. Покосился на Отрепьева – и перехватил его усмешливый взгляд.
– Боже, Господи! – проронил, холодея. – Неужели?..
– А как ты думал? – сделал простодушное лицо гость. – Неужели ж я стану ждать, пока Шубник до той старинной истории докопается и с подлинных Отрепьевых пыль стряхнет? Или еще кто начнет про меня басни плести? Знаю, как легко сие делается: сам под именем Варлаама Яцкого такие словесные бусы нанизывал, что до сих пор вспомнить приятно. Не-ет, я предпочитаю опережать события. А для этого мне нужны только такие люди, кто во мне узнает меня истинного – царевича Димитрия, а не какого-то там сына дворянского безродного! Вот такие, как ты.
Несмотря на страх, Филарет не смог сдержать возмущения:
– Да в уме ли ты? Каков мне прок?..
И осекся. Но Гришка уже кривил рот в своей щербатой ухмылке: