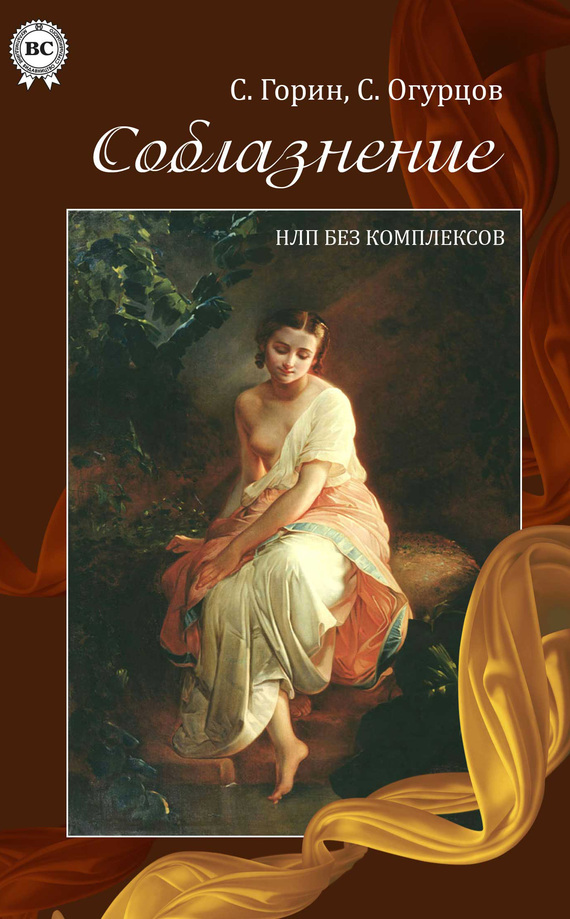Пани царица Арсеньева Елена
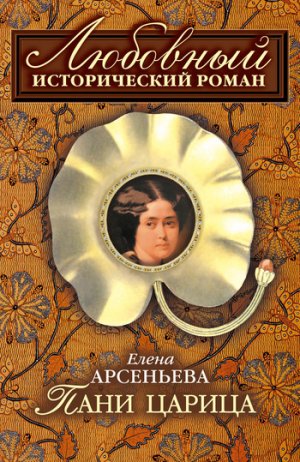
Пролог
Две сороки взвились, закружились в вышине. Марина вскинула голову, засмотрелась. Небо голубое, и зеленая листва, и эти реющие туда-сюда черно-белые стрекотуньи, суматошные, не то радостные, не то перепуганные. Но до чего же они громко кричат, они оглушают, из-за сорочьего гама не разберешь людских голосов…
– Виват царице Марине! Красавица, ох, какова же она красавица! Благослови тебя Господь!
– Безбожница, еретичка! Маринка-безбожница! Ой, подпустите меня к ней, ой, выдеру я ее лохмы, выцарапаю глаза!
Нет. Нет! Этого не надо и слушать. Это морок, морок!
Марина резко тряхнула головой – померкший было день прояснился. Блеском ударило по глазам. Засверкали позолоченные щиты двухсот гусар сендомирского воеводы: едут они по десяти человек в ряд, на статных венгерских конях, а на щитах изображение белого дракона, а за плечами гусар позолоченные крылья, и чудится, словно небесное воинство спустилось на землю, чтобы приветствовать панну Марианну Мнишек на ее въезде в Москву… в стольный град, царицей коего она сделается отныне!
Она ехала в карете, запряженной двенадцатью лошадьми редкостной масти: белые в черных яблоках. Каждую лошадь вел под уздцы особый конюх. Карета снаружи была алая с серебряными накладками, колеса позолочены, а изнутри все обито алым бархатом. Подушки, на которых сидела Марина, были сплошь унизаны жемчугом, и Барбара Казановская, верная подруга, наперсница, гофмейстерина царской невесты, все жаловалась, что ей жестко сидеть…
Рядом раздался стон. Марина покосилась в сторону – и тут же зажмурилась, чтобы не видеть иссушенного горем лица Барбары с черными подглазьями и кровавыми корками на губах. Волосы, Бог ты мой, почему у нее не прибраны, раскосмачены волосы?!
Что-то больно ударило в плечо. Ох, Матерь Божия, это ком грязи, брошенный из толпы… однако на том рубище, кое напялили на Марину, следа не видно, ведь оно и так грязнее грязи!
Опомнись, Марина, это не грязь. Это цветы, ну конечно, цветы! Ими осыпают тебя любящие подданные. И, конечно, цветы не испачкают белоснежного платья, столь щедро унизанного жемчугом и алмазами, что пышные атласные юбки чудятся слишком тяжелыми…
Да, рук не поднять, ногами не пошевелить. Это парадная одежда гнетет тяжестью, это атласные туфельки на высоких, выгнутых по французской моде каблуках стянули крошечную ножку Марины – это вовсе не железы сковывают члены, натирают кожу до кровавых волдырей!
А вот и знаменитая Красная площадь. Сейчас ее следовало бы назвать пестрой, ибо вся она пестра от человеческих лиц и нарядов. Толпа московского народа всякого звания высыпала из своих домов глядеть на невесту царя Димитрия Ивановича. Тут были персы, турки, грузины и татары… Марина в первую минуту даже решила, что в Московии русские вовсе не живут! От Фроловских [1] до Никольских ворот играли музыканты и заливались песельники. В честь прибытия новой государыни грянула знаменитая польская песня, и шляхтичи из свиты Марины завели что было мочи: «Всегда и всюду, в счастье и в горе, я буду тебе верен!»
До Марины долетал срывающийся голос Яна Осмольского. Она выглянула из окошка кареты и встретила взгляд его черных очей. Для Яна слова о любви и верности всегда были устремлены к панне Марианне, владычице его сердца, и как же больно было этому сердцу, что через день-другой ослепительная «польская нимфа» будет принадлежать русскому царю, который скачет на белом коне им навстречу…
– Крепись, дочь моя. Не покажи врагам Господа нашего свою слабость и боль! – послышался рядом тихий голос Никола де Мелло, и Марина нашла в себе силы поднять отягощенную цепями руку и осенить себя крестным знамением, чтобы ободрить своего духовника.
Новый рев толпы был ответом на это простое движение:
– Еретичка! Безбожница! Руки ей обрубить!
В окно кареты полетели комья грязи, камни… Какие-то мужики рванулись к телеге, глаза их горели яростью, простоволосая раскосмаченная баба вцепилась в подол атласного платья Марины, обрывая жемчуг… Затрещало ветхое рубище, и Заруцкий обхватил Марину, прижал к себе, другой рукой защищая маленького Янека, который скорчился на клочьях сена, прикрывавших днище этой позорной колесницы…
Мальчик с большими, испуганными черными глазами пронзительно закричал на руках матери.
Всадник на белом коне исчез.
– Димитрий! – закричала Марина, рванувшись к нему, но его уже не было, нигде не было…
Она бессильно припала горячим лбом к плечу Заруцкого, и все смерклось в глазах: и мимолетное сияние прошлого, и мрак настоящего.
Май 1606 года, Серпухов, постоялый двор на перевозе
– Пообедаем здесь. Устал я, да и кони притомились.
Высокий светловолосый человек в дорожной одежде спешился и бросил поводья подбежавшему отроку – тот ловко их поймал и повел мерина к коновязи, одновременно кланяясь и указывая дорогу светловолосому, в котором безошибочно угадал первого человека среди приезжих. Двое других: сумрачный, чернявый, весь заросший бородой и длинным волосом человек и низкорослый, толстый, добродушный его попутчик – должны были привязать своих коней сами.
– Приметливый какой, глаз алмаз, – хмыкнул светловолосый, явно довольный сообразительным мальчишкой. – Эй, ты! Обед готов ли?
– Всегда готов обед, сударь, – вновь поклонился тот. – Хоть бы вы приехали утром или ночью – найдется кушанье для вашей милости и ваших людей.
Он произносил слова четко, правильно, однако что-то в его речи и облике неуловимо выдавало иноземца.
– Немцы никак? – спросил чернявый приезжий.
– Так, сударь, – кивнул мальчик. – Матушку мою зовут Марта Эйслер, а меня – Фриц.
– Фриц наломал спиц, – пробурчал чернявый и первым вошел в дверь.
Фриц озадачился. Он привык, что русские господа весьма считаются чинами и впереди всегда идет самый главный из них. Неужели его наметанный глаз дал осечку?
Светловолосый приметил его замешательство и, хохотнув, мимоходом погладил Фрица по соломенным, опрятно постриженным волосам:
– Не тушуйся, милок. Не все то золото, что блестит, слыхал такое?
Фриц хлопнул белесыми ресницами. Он ничего не понял, но изобразил понимание, чтобы господин остался доволен.
Новые гости вошли в низкую просторную комнату, с первого взгляда поражавшую чистотой тех, кто привык к московским кабакам с их грязными столами, колченогими лавками и щербатыми мисками да кружками. Приезжие устроились в укромном углу, спросили еды: зеленых щей, мяса, каши, капусты да квасу – и в ожидании Фрица, который был в сем заведении и швец, и жнец, и в дуду игрец, а проще сказать, успевал обслуживать и коней, и всадников, покуда матушка его кашеварила, устало облокотились на стол. Толстяк вроде даже задремал, однако если бы какой-то сторонний человек решился присматриваться к приезжим, он мог заметить, что все трое исподтишка зыркают глазами по сторонам, оценивая прочих гостей.
Тех, впрочем, было немного, все по виду путники, да и кто еще мог остановиться пообедать в этом кабаке на въезде в город, как не проезжие? Все держались весьма тихо, как бы угнетенные чинностью и опрятностью сего места, ели да пили, не глядя по сторонам. Веселее держался только один тщедушный мужичонка с распатланными космами, приказная душа по виду и повадке, уже немало принявший то ли вина, то ли пива, которые ему частенько подносил Фриц. Приказный даже пробовал петь песни, однако и ему не пелось в сем уныло-пристойном заведении: то голос срывался, то слова не шли на ум.
Наконец подали еду и нашим приезжим. Все оказалось приготовлено неожиданно хорошо, главное дело – не на прогорклом масле, как это водится у русских кабатчиков, в меру посолено, в меру прожарено, поэтому гости отдали должное каждому кушанью, а насытившись, попросили Фрица позвать свою матушку, чтобы поблагодарить ее за отменное мастерство.
Мальчишка отвесил челюсть. Такое на его памяти случалось раза три, и всякий раз благодарили фрау Марту только заезжие иноземцы: в русском обиходе такого не водилось, каждый словно бы опасался уронить себя избыточной приветливостью. Может статься, сии господа не русские? Или частенько бывали по иным государствам, вот и переняли чужие обычаи?
Вышла низенькая женщина с красным от печного жара лицом, в белоснежном чепце и переднике. Прочая одежда на ней была черная, что безошибочно указывало на вдовство хозяйки. Ее скромность и сдержанность понравились приезжим, оттого они расплатились, не скупясь, не торгуясь, еще и прибавили щедро «на бедность».
Фрау Марта и Фриц благодарили от души, причем оба то и дело ныряли в забавных, низких поклонах, топыря зады, что изрядно веселило гостей. Наконец они начали выбираться из-за стола, и в эту минуту приказный, словно только что заметив соседей, обернулся к ним.
– Челом, господа хорошие, люди московские! – промолвил он, и сразу стало ясно, что человек этот уже не хозяин своему языку. – Вы ведь люди московские?
– А ты что за спрос? – с улыбкою отвечал толстяк. – Сам-то чей?
– Тутошний, серпуховской, – отозвался приказный с таким тяжким вздохом, что сразу стало ясно: жизнь в сем городишке невыносима. – Полушка Петькин, сын Алексеев, на службе состою у нашего воеводы. Писарем.
Название своего немалого поста не прибавило бодрости в голос Полушки Петькина: очевидно, служба сия была безотрадная и безденежная. И необременительная – судя по тому, что Полушка в самую рабочую пору отсиживался в кабаке.
– Ну и Бог тебе в помощь, Полушка, – миролюбиво промолвил светловолосый господин. – Желаю тебе рано или поздно сделаться истинной деньгою! [2] Засим прощай, и вы, люди добрые, прощайте!
Гости двинулись к двери.
– Погодите, погодите, – засуетился Полушка. – Дозвольте слово молвить!
– Ну, молви, – милостиво согласился светловолосый.
– Вы – господа московские, вы доподлинно знать должны… – Полушка на миг замялся, но тотчас с отчаянной решимостью выпалил: – Правда ли, что царь Димитрий и впрямь был Гришка Отрепьев, расстрига-монах, а еще верно ли толкуют, что он от смертоубийства спасен был неведомою силою?
Трое переглянулись, а затем воззрились на предерзкого Полушку с таким изумлением, что тот забеспокоился, начал ерзать по лавке и даже ощупывать себя руками: не открылся ли у него, скажем, третий глаз – иль, может статься, крылья вдруг за спиной прорезались?
– Ну, Полушка, коли ты при воеводе состоишь, то должен знать, что ныне у нас один царь-государь – Василий Иванович Шуйский, – наконец уклончиво ответил светловолосый. – И что касаемо Гришки Отрепьева, все нам разъяснено доподлинно.
– Во-во, – уныло протянул Полушка. – Какая ж тут доподлинность? То он Димитрий, то он Гришка, то он истинный царь, то он расстрига… За нашим воеводою не угонишься: у него семь пятниц на неделе, и в каждую – новая новость. Вскорости у нас в приказных бумагах станут байки писать, какие бабы малым детушкам сказывают.
– А что они сказывают? – неожиданно подал голос – зычный, словно из бочки! – смуглый и волосатый приезжий.
– Да много чего. Вот хоть такое-этакое, – слово-охотливо отозвался Полушка. – Жил-де на свете Гришка-расстрижка по прозвищу Отрепкин; уж такая ему по шерсти и кличка была! Пошел он в полночь по льду под Москворецкий мост и хотел утопиться в полынье. А тут к нему лукавый – и говорит: «Не топись, Гришка, лучше мне отдайся: весело на свете поживешь. Я могу тебе много злата-серебра дать и большим человеком сделать». Гришка ему говорит: «Сделай меня царем на Москве!» – «Изволь, сделаю, – отвечает лукавый. – Только ты мне душу отдай и договор напиши кровью своею». Гришка тут же достал бумагу, что с ним была, разрезал ножиком палец и написал кровью запись на том, что он лукавому душу отдает, а тот обязуется сделать его царем на Москве. Только забыл Гришка срок поставить в записи, сколько времени ему царствовать. И вот повел его лукавый в Литовскую землю [3] и там такой туман напустил, что король литовский и все его вельможи признали Гришку за московского царевича Димитрия Ивановича и повели его со своею военною силою к Москве, чтоб там на царство посадить. Тут лукавый и на весь московский народ туман напустил, так что все его приняли за прямого царевича Димитрия Ивановича. Он сел на царство. Тут лукавый стал подущать его, чтоб во всем государстве Московском истинную христианскую православную веру искоренить и поганую литовскую ересь ввести. Испугались московские люди и бросились Богу молиться. Собрались архиереи и весь духовный чин и стали служить молебны. Тогда мало-помалу начал спадать туман у всего народа, и все увидели, что на царстве сидит не Димитрий Иванович, а злой еретик Гришка-расстрижка по прозвищу Отрепкин. И убили его…
– Ну, убили да и убили, – проворчал смуглолицый. – Чего тебе еще надобно?
Видно было, что ему байка не пришлась по нраву, однако светловолосый гость не смог сдержать восхищения.
– Круто заверчено! – воскликнул он. – И зело на правду похоже. Одного я не пойму: с чего Гришка-расстрижка топиться надумал?! И почему именно он столь полюбился лукавому? Мало ли кому взбредет в голову камень себе на шею навязать да в полынью. Неужто каждому лукавый царство дает? Этак-то на всех небось не хватит, да и у нас продыху от царев не стало б на Руси! А, Полушка? Что у вас на воеводстве на сей счет кумекают?
Ободренный похвалой, Полушка только теперь смекнул, что над ним хохочут в глаза, и от обиды надулся так, что его маленькая, тощенькая мордочка сделалась округлой, словно у суслика, набившего щеки.
– На воеводстве все молчат, словно воды в рот набрали, – проворчал он невнятно. – Однако слышал я, что в тот день на Красной площади вовсе не Димитрия Ивановича убили.
– А кого ж? – насторожился светловолосый.
– Да кто ж его знает? – пожал плечами Полушка. – А только говорят, государь заранее прознал, что против него заговор готовится. Был-де у него служитель, похожий на него. Царь его нарядил в свое платье и приказал лечь на царскую постель: тот не понимал, что это значит, и думал, мол, какая-нибудь шутка. На него наскочили убийцы, он кричит: я не Димитрий, я не Димитрий! А те думали, что расстрига сознается в своем воровстве, и убили его, а настоящий царь ушел заранее и спасся.
– Круто заверчено! – повторил светловолосый. – И где ж он теперь?
– А Бог весть! – пожал плечами Полушка. – Вы мне только одно скажите: правда сие или нет?
Гости переглянулись, видимо, тронутые искренним волнением, звучавшим в его голосе, потом толстый приезжий негромко промолвил:
– Всякое может быть. Вот я, а имя мое Хвалибог, был слугой у его величества государя Димитрия Ивановича.
– Иди ты! – недоверчиво махнул на него Полушка. – Слуга? Самого государя?
– Сам иди, – ответствовал назвавшийся Хвалибогом и продолжал: – Я чудом спасся – счастье, что в тот день не во дворце ночевал, а у дружка своего в городе. Видел труп на Лобном месте…
– И что, и что?! – аж ногами сучил от нетерпения Полушка.
– А то, что государь наш был худощав, волос на груди не имел, зато имел родимое пятно, волосы же на голове у него были богатые. На площади валялся труп толстого человека с начисто выбритой головой и заросшей грудью. Еще тебе скажу: пятна родимого там, где было оно у Димитрия Ивановича – на груди под мышкою, – я у мертвого не видал. А также ногти у него были мужичьи, грязные, нестриженые, а Димитрий-государь о себе очень заботился, о чистоте телесной…
Подавленный такой откровенностью, Полушка плюхнулся задом на лавку да так и сидел разиня рот. Светловолосый поглядел на его ошарашенное лицо и проговорил:
– Мое имя – князь Шаховской. Кто этот человек – ты уже слышал, слуга государя Димитрия. Ну а третий меж нами… – Он многозначительно помолчал, потом наклонился к уху почти обезумевшего Полушки и своими следующими словами окончательно лишил беднягу способности двигаться и соображать: – Ждите! Скоро наш государь воротится! Варите пива да меду побольше! И ты жди, Фриц! – обернулся он к мальчику, который почти ничего не понимал из услышанного. – На обратном пути в Москву государь за все будет вдесятеро платить!
И торопливо вышел, пропустив вперед смуглого человека. Через минуту в кабак донесся топот копыт, и только тогда Полушка обрел врожденное умение выражать свои мысли словами и завопил:
– Государь! То был государь Димитрий! Он жив!
К вечеру весь Серпухов знал, что у немки Марты столовался оживший царь Димитрий Иванович. Полушкины слова неожиданно подтвердил перевозчик Надея Колобков.
Он-де переправлял через Оку пониже Серпухова трех людей с их конями, и, высаживаясь на другой берег, светловолосый всадник сказал:
– Знаешь ли ты, кого вез?
– Не знаю, – честно признался Надея. – Да мне ни к чему!
– Молчи, брат! – таинственно сказал незнакомец. – Видишь, вон тот молодой господин – это царь Димитрий Иванович: ты царя перевозил. Его хотели убить, а Бог его сохранил. Он ушел и придет назад с большим войском, и сделает тебя большим человеком!
Надея Колобков считался человеком богобоязненным и на слово не спорым, не то что Полушка, известный как сущее ботало. Надее можно было верить! И ему поверили.
Что и говорить, слова Шаховского Надея передал точно. Жаль, однако, что не слышал дальнейшего разговора между всадниками!
– Не надоело языком трепать? – пробурчал не без досады смуглолицый волосатый человек. – Хорош ты лгун, Хвалибог! Знаешь ведь доподлинно, что убит наш Димитрий Иванович, убит, нет же: волосы, ногти… Тьфу, слушать тошно! А тебе, князь Григорий Петрович, мало, что государеву печать увез, так еще и мертвого воскресить надумал?
– А ты, Мишка, скипетр и корону зачем у Шуйского скрал? – спросил Шаховской, еле ворочая языком со смеху. – Разве не затем, чтобы себя за воскресшего государя выдать? Кому, как не тебе? Ты ему ближним другом и наперсником был, тебе и книги в руки!
– И-и, окстись! – отмахнулся Молчанов. – Не по мне твоя игра, кишка у меня для нее тонка. Какой из меня царь, ты сам посуди?
– Жаль, жаль… – протянул Шаховской. – А то хорошо бы мы хвоста навертели Шуйскому!
– Чего ты на него такой злой? – хмыкнул Молчанов.
– Как это чего? – хмуро глянул Шаховской. – Сослал меня на воеводство в Путивль, в глухомань смертную. А за что? Лишь за то, что я его царем не хотел признавать, лишь за то, что верил, будто Димитрий наш Иванович истинным сыном Грозного был, а коли так – то Шуйский есть крамольник и цареубийца, ему место не в Грановитой палате, а на плахе на Поганой луже [4].
– Да ведь ты хоть из кожи вон вылези, а государя не воскресить, – с глубокой, искренней тоской промолвил Молчанов. – Он один был! Такого больше не сыскать!
– Такого, может, и не сыскать, а другого сыщем! – воскликнул князь Шаховской, который по самой природе своей не был способен долго печалиться. – Право слово, Мишка, вот те крест святой кладу, что измыслю нового Димитрия! Создам его из ничего, аки Господь, Творец наш, создал праотца Адама – из персти [5] земной!
– Не богохульствуй, а лучше погоняй, – с усмешкой посоветовал Молчанов, настегивая коня. – Нам бы засветло до ночлега добраться.
Да, богохульствовать князю Шаховскому надобности не было. Уподобляться Господу и создавать нового Димитрия «из ничего» ему не пришлось.
Сей второй Димитрий уже был призван к участи своей!
Май 1606 года, Москва, Стрелецкая слобода
– Вставай, зараза!
Голос воткнулся в уши острее иглы, и Стефка попыталась зажать их ладонями, но не смогла пошевелиться: каждое движение, даже самое мало-малейшее, причиняло боль, которая отдавалась во всем теле. Особенно ныли ноги… Чудилось, кто-то страшный, кто-то зловеще-сильный взял ее за щиколотки и тянул в разные стороны, пытаясь разорвать надвое. Потом понял, что это не удалось, и бросил истекать кровью. Стефка чувствовала, как сочится из нее кровь – оттуда, из тайного женского места. Наверное, вся рубаха в крови и юбка.
Постепенно она ощутила, что болят не только ноги, но и запястья (казалось, с них содрана кожа), и шея (не шевельнуть, словно пытались открутить голову, как куренку), и горло (саднило мучительно, кричала она, звала кого-то, что ли?), и кожа на голове, как если бы ей рвали волосы… Матка Боска, да что же это за муки адовы с ней содеяны? За что, за какие прегрешения? И кто, кто с ней все это совершил?
Муки, оказывается, еще не кончились. Что-то больно ткнуло Стефку в бок так, что она со стоном скорчилась, а незнакомый голос снова врезался в уши:
– Кому говорено, вставай!
Стефка с усилием разлепила веки. Отчего-то меж ними образовались только малюсенькие щелочки, а глаза тотчас начало резать, будто в них сыпанули песок. Пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить себя не только смотреть, но и видеть. Однако то, что открылось взору, не доставило никакой радости: ведь глаза незнакомой женщины, уставившейся на Стефку, были до краев переполнены лютой ненавистью.
Через мгновение грубые руки вцепились в Стефкины плечи и принялись трясти, а из тонкогубого рта донесся визг:
– Вставай, тварь! Чего разлеглась? А ну!..
Стефка моталась по полу. Она и рада была бы подняться, да никак не могла найти для этого сил. Только упрется ногами в пол, только начнет подниматься, как следует новый рывок, новый, новый…
– Пусти меня! – наконец выдохнула Стефка сквозь стучащие зубы и обнаружила, что губами можно пошевелить лишь с великим трудом, а во рту железистый, кислый привкус крови. – Пусти, я сама встану!
Но женщина словно не слышала: трясла ее за плечи и кричала, издавая при этом какие-то хлюпающие звуки, и немалое время прошло, прежде чем Стефка поняла: незнакомка плачет – нет, рыдает, задыхается от слез!
Вот те на! Чуть не до смерти забила беднягу – и обливается слезами от жалости к ней?! Нет, какая тут может быть жалость, вон с какой ненавистью глядела…
– А ну пусти ее! – громом ударил мужской голос, и руки, терзавшие Стефкины плечи, мгновенно разжались. Она не усидела и повалилась на пол, прижавшись щекой к плотно убитой земле. Какой-то миг ее измученное тело блаженно принимало прохладу и покой, а потом перед глазами Стефки вдруг оказались сапоги – красные козловые сапоги с загнутыми вверх носками и наборными каблуками. Это были русские сапоги, они что-то напоминали Стефке, с ними было связано что-то страшное, а потому она медлила вести взором вверх. Однако этот вновь появившийся человек оказался нетерпелив и тоже схватил Стефку за плечи, вздернул вверх, так что ее запухшие глаза оказались вровень с прищуренными черными мужскими глазами. Еще Стефка увидела точеные черты румяного лица, красиво облитого курчавой бородкой, подковку усов, твердо вырезанные губы, которые раздвинулись в усмешке…
В этой усмешке была не радость – в ней было злорадство. Злорадство и жестокость! И тут вернувшаяся память ожгла Стефку огненным кнутом, ноги ее подломились, и она упала бы вновь, не продолжай ее удерживать черноглазый. Но теперь она вспомнила и его имя, и все, что было для нее с этим именем связано, и ей захотелось умереть – умереть немедленно, только бы исчезли эти страшные воспоминания, которые закружились перед Стефкой, словно видения ада.
Она увидела спальню государыни Марины – разоренную, неприбранную, полную людей. Фрейлины царицы, полуодетые, растрепанные, – ведь набат и сполох подняли их еще до свету! – метались туда-сюда, совершенно потерявшись от страха. Толпа москвитян ворвалась в Кремль, в царский дворец, об участи государя ничего не было известно, а из сеней неслись то крики о помощи, то торжествующие вопли, то выстрелы, и над всем этим реял непрекращающийся звон колоколов, доносившийся со всех концов Москвы.
Как-то держалась в этой страшной сумятице только пани Марианна. Она велела подать себе платье и приказала своим женщинам немедленно одеться. Царица хотела, чтобы она сама и весь ее двор достойно встретили любую опасность, даже смерть… да, они были готовы к самому худшему! Но фрейлины не успели одеться. В спальню влетел паж государыни Ян Осмольский, бледный, с обнаженной карабелей [6] в руках, и прокричал, что толпа уже близко. Он успел запереть дверь, чтобы дать царице возможность бежать, однако все выходы и лестницы оказались уже отрезаны.
– Они войдут сюда только через мой труп! – крикнул Ян… и через несколько мгновений его труп уже лежал посреди комнаты. Москвитяне дали залп по двери – этими выстрелами Ян и был убит, – а потом изрубили юношу саблями, уже мертвого.
Вслед за этим началось нечто и вовсе страшное. Озверевшие мужики валили с ног беззащитных женщин и набрасывались на них по нескольку сразу. Они были настолько одурманены кровью, похотью, безнаказанностью, что намеревались изнасиловать даже Ванду Хмелевскую – даму преклонных лет, которая была ранена теми же выстрелами, которые сразили Янека, и без сознания лежала на полу! Но происходящее с ее подругами Стефка видела словно в тумане. Единственное, что она толком запомнила, это что пани Марианна, маленькая и худенькая, успела спрятаться около своей кровати и остаться не замеченной мужиками. А потом Стефка увидела рядом с собой карабелю, выпавшую из рук Янека Осмольского, и поняла, что милосердный Господь посылает ей помощь.
Когда-то давно, в те блаженные времена детства, когда пан Владислав Богуславский, шляхтич из Самбора, еще не успел пристроить свою единственную дочь в свиту панны Марианны Мнишек, он забавлялся тем, что учил шалую девчонку орудовать саблей. Конечно, ручонки у Стефки были по-девичьи слабоваты, однако у нее оказалась гибкая кисть, вдобавок ученица пана Богуславского была вынослива, упряма и хитра, как всякая Евина дочка. Она спроста выучилась некоторым хитрым фехтовальным маневрам, и теперь именно они да еще неистовая гордость, вернее, гордыня, помогали Стефке держаться, забившись в угол и не подпуская к себе двух или трех нападающих.
Она защищала свою жизнь, свою честь, а сама молила Господа о помощи и пощаде. Раньше Стефка жила, как птичка пела, а мужчин любила так, как иные женщины любят наряды и драгоценности. В свои семнадцать Стефка уже успела потерять счет поклонникам, делившим с нею ложе: раскинуться перед мужчиной для нее было то же, что другой даме или девице пройти на балу тур в полонезе! Но всегда, с самого первого раза, когда Стефка узнала своего самого первого мужчину, она сама решала, с кем проведет ночь или предастся торопливой страсти где-нибудь в кустах или в укромном уголке самборского замка, за гобеленами, щедро покрывавшими его стены, или на конюшне. Сделаться случайным игралищем московской черни, этих распаленных похотью мужиков, для нее было невыносимо, и она твердо положила себе броситься грудью на острие чужой сабли или чиркнуть лезвием по горлу, когда уже недостанет сил держать карабелю в руках. И все же продолжала надеяться на лучшее – ведь среди ворвавшихся в царицыны покои был и Никита!
Этого черноглазого стрельца Стефка приметила в тот день, когда панна Марианна вместе со своей многочисленной свитой въехала в Москву и отправилась в Вознесенский монастырь, где ей предстояло провести под присмотром матери царя Димитрия Ивановича, инокини Марфы, неделю, оставшуюся до коронации и венчания с государем. При виде мрачных монастырских келий Стефка чуть не зарыдала от ужаса (как, впрочем, и остальные придворные дамы панны Марианны!), но, озирая окрестности прощальным взором, готовясь похоронить себя заживо, она вдруг встретилась с самыми пылкими мужскими глазами, какие ей только приходилось видеть в жизни.
Этими глазами и внешностью своей Никита сразу напомнил Стефке Яна Осмольского, пажа панны Марианны и, по единодушному женскому мнению, первого красавца в ее свите, а может быть, и во всем Польском королевстве. Беда только в том, что Янек был еще не мужчина, а юноша, почти мальчик, а главное, он был так безраздельно влюблен в свою госпожу, что другие женщины, даже столь молоденькие и аппетитные, как Стефка, для него не существовали. Однако невероятные черные очи Янека порою являлись Стефке в грешных снах, только в этих снах Ян был вполне зрелым мужчиной и смотрел на кокетливую камер-фрейлину не равнодушно, как наяву, а с истинной страстью. И вот теперь сон почти сделался явью!
Пани Ванда Хмелевская что-то причитала о мрачности и темноте монастырских келий, кои пагубно скажутся на ее здоровье, и совершенно не замечала, что рядом с нею происходит мгновенный сговор – пусть безмолвный, но столь пылкий, что чудо, как бревенчатые стены старого монастыря не занялись полымем! Глаза спросили, глаза ответили… и, чуть настала ночь, Стефка перебралась через загодя примеченный пролом в монастырской ограде, нимало не сомневаясь, что ее уже ждут.
Так оно и оказалось. Теперь каждый вечер она встречалась с Никитою. Неделя в монастыре показалась ей одной из самых упоительных в ее жизни, потому что в красивом стрельце она нашла враз и нежность, и страстность, и грубоватую мужественность, которая сводила ее с ума. Встречи продолжались и после венчания панны Марианны, когда вся ее свита перебралась во дворец, находившийся в том же Кремле. Беда только в том, что торопливые соития в кустах скоро поднадоели Стефке, которая любила в мужчинах не только дерзость, но и галантность, а также изощренность. Ни того, ни другого в красавце москвитянине и в помине не было, и если сначала Стефке было весьма по нраву, когда ее после первого же поцелуя валят наземь и валяют по этой земле с великим пылом, то теперь ей хотелось того, что у цивилизованных шляхтичей называется любовной игрой, а у Никиты – беса тешить.
Тешить попусту беса ради бабьего удовольствия он нипочем не желал, а у Стефки, не иначе, мозги свернулись, как скисшее молоко, в этой варварской Москве! По простоте душевной она взяла да и предложила Никите разделить их забавы с кем-то третьим. Еще в Кракове два поклонника, настоящие природные французы и друзья не разлей вода, как-то приохотили Стефку к таким изысканным играм. Но французы – это одно, а московский стрелец – увы, совсем другое… Никита обозвал Стефку блядью и ушел, причем по всему было видно, что у него руки чешутся отвесить ей пару хороших тумаков. Стефка пожала своими хорошенькими сдобными плечиками и решила забыть Никиту. Однако человек предполагает, а Бог располагает… Наверняка ей бы удалось справиться с тягой к угрюмому москвитянину согласно мудрейшей поговорке: «Клин клином вышибают», но последовать ей Стефка просто не успела.
В ночь с 16 на 17 мая в Москве вспыхнул бунт. Заключенные, нарочно для сего выпущенные из тюрем и подстрекаемые боярами во главе с князем Шуйским, бросились в Кремль с криками: «Бей Литву! Литва хочет извести нашего государя!» Одурманенным людям удалось прорваться в царский дворец. Толпа озверелой черни добралась и до царицыных покоев. Девушек насиловали, а Стефка еще держалась из последних сил – на гордости истой шляхтянки, на надежде, что Никита забудет обиду, нанесенную ему Стефкой, и придет ей на помощь…
Еще минута – и она рухнула бы без сил, но тут Никита опомнился и с криком: «Пошли прочь! Она моя!» – отогнал мужиков. А потом… потом он подозвал молодого парнишку, который топтался посреди спальни, возбужденный увиденным, но робеющий подступиться к женщинам, и отдал Стефку ему на позор и поругание. Да и сам не остался в стороне, решив сполна расквитаться за нанесенное ему оскорбление! Никита и его сотоварищ вдвоем безжалостно насиловали Стефку до тех пор, пока она не лишилась чувств.
В те минуты она молила Господа о смерти… но он не внял мольбам бедной маленькой грешницы!
Она жива. Ее отторгли от своих – вокруг не царицыны покои, а какая-то убогая каморка с земляным полом, рядом с ней только Никита и эта неизвестная женщина со злобным голосом и глазами, переполненными ненавистью.
Как она попала сюда? Живы ли ее подруги, ее племенники, ее госпожа? Она боялась спросить, потому что боялась ответа…
Май 1606 года, Москва, Вознесенский монастырь
Низенький, кряжистый человек с глубоко посаженными маленькими глазками не дал себе труда встать, когда в приемную комнату Вознесенского монастыря вошла худая, словно бы иссушенная невзгодами и тревогами женщина. Осенила себя крестным знамением, попыталась было посмотреть на невежу свысока, надменно, однако против воли согнулась настороженно, поглядывала исподлобья, чуть ли не заискивающе.
Хотя… чего ей бояться? Что худшее может случиться с ней, кроме того, что уже случилось?
Слишком рано, совсем юной девушкой выданная замуж за всевластного и страшного государя, она очень скоро наскучила ему и превратилась в забытую приживалку. Царь жаловал ее опочивальню своими посещениями так редко, что Марьюшка даже удивилась, когда поняла, что зачреватела. Это было счастье, это была благость Божия! Больше не придется со страхом ловить шаги за дверью: уж не идут ли за ней стражники, чтобы по приказу царя отвести неплодную жену в монастырь и постричь насильно? Больше не придется с криком просыпаться от кошмаров, в котором чьи-то руки налагают на ее лицо тяжелую подушку, подносят к губам чашу с ядом или навязывают на шею жернов, прежде чем столкнуть в полынью. Теперь все это было в прошлом… но недолго длилось счастье Марьи Нагой, седьмой жены великого государя Ивана Грозного! Царь умер, оставив трон малоумному сыну Федору, а младшего, Димитрия, вместе с его матерью поручил опеке своего первого друга Богдана Бельского, человека хитрого, смелого, но вместе с тем благородного.
Увы… И Бельского, и Нагих – родню Марьи, и всех прочих обошел Бориска Годунов – шурин царя Федора Ивановича, брат его жены Ирины. Годунов так обаял, так обошел молодого царя, столько ему в уши напел, что тот безоговорочно поверил: и Бельский, и Нагие злоумышляют против законного наследника. И вот на другой же день после смерти Грозного Бельский был отправлен в низовые города – якобы на воеводство, а на самом деле в ссылку, Нагие же вместе с Димитрием пустились в путь в Углич – подальше от Москвы…
И тогда Богдан Яковлевич Бельский понял, что Годунов способен на все. Обиднее всего было старому вельможе, что именно он некогда представил царю своего молодого родственника, именно он содействовал браку Бориса с дочерью всесильного и страшного Малюты Скуратова. Да, не всякий решился бы жениться на Марье Григорьевне [7], недаром потом о Годунове говорили так: «Зять палача и сам в душе палач!» Этот «палач в душе» не замедлит сделаться им на деле, чтобы удержаться у трона. Ведь он овладел и душой, и разумом доверчивого, слабого Федора. Но всевластие Годунова простиралось лишь до тех пор, пока Федор жив. Не быть ему спокойну, пока в Угличе подрастал следующий наследник русского трона. Ведь Димитрий, а вернее, его опекуны сметут Годунова с пути, лишь доберутся до власти, и не просто сметут, а оставят от него лишь пятно кровавое. Ну не может, никак не может Годунов допустить, чтобы Димитрий остался жив!
И предчувствия не обманули Бельского: спустя пять лет Осип Волохов, сын няньки царевича Василисы, а также дьяк Михаил Битяговский с сыном Данилой покусились на жизнь Димитрия, попытались ему горло перерезать. Это увидел с колокольни церковный сторож и ударил в набат. Народ кинулся во дворец царевича. Все были убеждены, что Димитрий убит, и забили Битяговских и Волоховых до смерти. В поднявшейся суматохе Афанасий Нагой, брат царицы Марьи Федоровны, унес раненого мальчика и бежал с ним из Углича. Народу отвели глаза, похоронили пустой гроб. Ведь если признаться, что Димитрий жив, Годунов рано или поздно подошлет новых убийц! Приехали из Москвы расследователи во главе с князем Василием Шуйским. Нагие думали, что тут-то им конец, однако расследователи даже не пожелали взглянуть на мертвое тело. Немедленно постановили, что царевич страдал падучей болезнью и сам себя зарезал, играя в тычку. За то, что недосмотрели за ним, Нагие после пыток были разосланы по дальним далям, Марья была насильно пострижена под именем Марфы в Богом забытом Выксунском монастыре… В ссылку отправились почти все угличане и даже колокол – тот самый, что оповестил народ о свершившемся злодеянии. За то он и пострадал: лишился ушек (точно государев преступник, коему рвут ноздри и режут уши, навечно клеймя позором!) и был отвезен в Сибирь – в Тобольск.
Не более пяти-шести человек знали, что Афанасий Нагой спрятал раненого Димитрия у бояр Романовых, ненавистников Годунова и родичей первой жены Ивана Грозного, Анастасии Романовны Захарьиной. Но еще меньше народу знали, что в Угличе покушались вовсе не на подлинного Димитрия!
Подмена была совершена еще раньше – по пути в Углич. Как раз когда хитромудрый Бельский решил обезопасить царевича от любых козней Годунова и привез в Углич сына какого-то обедневшего до нищеты дворянина. Замысел Бельского удался, но беда в том, что через двадцать лет, когда Димитрий заявил о своих наследственных правах и пошел войной на Годунова, успевшего исполнить свою заветную мечту и нахлобучить шапку Мономаха, уже никто не мог толком удостоверить его подлинную личность. Конечно, Бельский и братья Романовы, Федор да Александр, следили за жизнью юноши, который воспитывался сначала в глуши, у доверенных людей, не знающих, что за птенец подброшен в их гнездо, а потом был помещен в Чудов монастырь, под присмотр настоятеля, отца Пафнутия. С его молчаливого одобрения инок Григорий (таково было имя Димитрия в святом крещении) воспитывался скорее как боярский или дворянский сын, а не как монах. С его же попущения сей инок однажды исчез из Чудова монастыря вместе с братом Варлаамом, желавшим непременно добраться до Святой земли, и вскоре оказался в Польше, где смог убедить сендомирского воеводу Юрия Мнишка, его зятьев Вишневецких, а там и сейм польский с самим королем Сигизмундом, что он есть истинный сын Ивана Грозного Димитрий, а значит, законный царевич и наследник русского трона. Польская армия, к которой вскоре примкнули русские войска и донские казаки, взяла Москву, Димитрий воссел на трон, с которого уже успел скатиться Бориска. То ли своей смертью он помер, то ли покончил с собой – Бог его весть, собаке собачья и смерть! Про него так и говорили иноземцы: «Intravit ut inlpes, regnavit ut leo, mortus est ut canis» [8].
Ходили слухи, что Димитрий – вовсе не царевич законный, а расстриженный монах Гришка Отрепьев. Но народ, обрадованный освобождению от тихого удушья, которым давил страну Годунов, жаждал услышать подтверждение: это истинный, Богом данный царь! И услышать это люди хотели не от Богдана Бельского, не от лживого Шуйского, который с равным пылом то клялся, что на троне сын Грозного, то уверял, что он самозванец. Уверить народ в истинности Димитрия должна была его мать, инокиня Марфа, звавшаяся некогда царицей Марьей Федоровной Нагой.
А она не могла… Не могла сделать это, положа руку на сердце! Разве отыщешь в чертах двадцатичетырехлетнего мужчины черты двухлетнего ребенка, которого когда-то отняли у нее? Все эти годы Бельский даже от нее скрывал, жив ли Митенька, где он, что с ним.
Ее сомнения развеял брат Афанасий, подробно рассказав о замене, которую подстроил Бельский. Казалось бы, теперь инокиня Марфа могла вздохнуть свободно. Она была окружена почетом, какой прежде и не снился – ни в Угличе, ни даже при дворе Грозного, ни, само собой, в выксунской дремучей глуши. Сын советовался с ней по всякому поводу, даже и по государственным делам, он привез ей на поклон свою невесту – правда, выбранную помимо материнской воли, но что поделать?.. Уступая настояниям матушки, он велел Марине причаститься по православному обряду, приложиться к иконам и венчаться не в парижских юбках, которые не могли протиснуться в узенькие двери старомосковских дворцов, не в широченных воротниках, а в традиционном платье русских цариц. По виду сын был вполне счастлив – отчего же теснило сердце инокини Марфы? Не приучено оно было радоваться, вот что. Отвыкло быть счастливым, постоянно ожидало от судьбы нового подвоха. И дождалось!
…Перед рассветом ударили в набат, по всему Кремлю разбежались люди.
– Инокиню Марфу на площадь! На площадь! Пусть скажет, что расстригу своим сыном признала, пусть сознается! К ответу ее! – доносились крики.
Монахи забились в свои кельи, словно перепуганные куры. Но Марфа знала, что ей-то не отсидеться.
Кое-как скрепилась с силами – вышла на монастырское крыльцо. Вот этот же самый человек, что явился к ней нынче, Димитрий Шуйский, брат князя Василия, ждал ее там. Грубым, словно бы не своим, прежде всегда почтительным голосом велел немедля идти из Кремля на Красную площадь.
Она пошла, с трудом владея немеющими ногами. Ее так шатало, что пришлось кликнуть в сопровождающие двух монахинь, как ни боялись сестры покидать надежные стены обители. Путь этот, чудилось, был долог-долог, словно на Голгофу… и вот наконец на площади Марфа увидела страшное, нагое, неузнаваемое тело какого-то мужчины. И растерялась.
Не может, не может она признать ни любимого ребенка, ни ласкового сына-царя в этом окровавленном трупе. Вдруг он снова спасся, как тогда, в детстве, вдруг спрятался, затаился? Скажет Марфа: он, это царь! – и толпа запомнит это, а потом, когда он воскреснет, как воскрес уже однажды, это признание матери закроет ему путь к трону.
Она не знала, что делать, не знала! С трудом держалась на ногах, почти теряла сознание от страха.
Князь Василий Шуйский метался на своем покрытом пеною коне; борода князя была измарана кровью, словно он недавно ел человечину.
Надо было что-то говорить. Толпа смотрела на нее враждебно.
Что они хотят слышать? Что им сказать?
Марфа вдруг вспомнила: когда князь Скопин-Шуйский вез ее из Выксунского монастыря в Москву, она точно так же не знала, что сказать ждущему ее народу. И князь Михаил обронил, словно невзначай: «Горе тому, кто не признает в нем истинного сына Грозного! Народ растерзает сего неверующего!»
Марфа обрадовалась подсказке. Эта подсказка помогла ей принять решение…
Что же отвечать теперь?!
– Да какой он тебе сын! – крикнул вдруг какой-то рыжеватый молодой мужик с бледно-голубыми глазами.
И Марфа снова обрадовалась подсказке.
– Было бы меня спрашивать, когда он был жив. Такой, какой он есть сейчас, он, конечно, уже не мой! – загадочно ответила инокиня.
– Царица отреклась, отреклась от расстриги! – во весь голос закричал Шуйский, который услышал то, что хотел услышать…
Дальнейшего Марфа не видела: сомлела, повалилась на руки монахинь. Очнулась уже в своей келье. Не помнила, как ее перенесли в монастырь, зато помнила тоску, которая владела ею даже в беспамятстве. Вот теперь для нее уж точно все кончено на веки вечные. Пусть она спасла себе сегодня жизнь загадочными словами, однако жизнь сия будет безотрадна и уныла. Еще похуже небось, чем во дворце Грозного или в Угличе. Там она все-таки звалась царицей и могла надеяться хоть на какое-то будущее, пусть даже призрачное, словно сладкий сон. Теперь же время снов и надежд миновало. Вновь, совершенно так, как это уже было после Углича, Марфа осознала: она значила что-то, лишь пока была матерью своего сына. Теперь она никто, потому что сама подтвердила людям: нет у нее сына! Она всенародно отреклась от Димитрия, словно бросила горсть земли в его могилу. Теперь она в руках его погубителей – как если вновь воротились времена Годунова… И тогда, и теперь она может рассчитывать только на чужую милость.
В монастырь уже пришел приказ отныне молиться за нового государя. Раньше, еще несколько дней назад, он звался князем Василием Шуйским. Теперь это царь и великий князь Василий Иванович… С чем же прислал он к инокине Марфе своего брата? Какую кару приготовила ей новая власть? Неужели увезут ее из Москвы в дальние, вечно завьюженные дали? Отчего-то Выксунский монастырь представлялся ей занесенным снегом всегда, в любое время года, даже летом, в такой недостижимой, непроезжей глухомани был он расположен. Вспомнилась сырая, студеная келейка, столь низкая, что даже невеликая ростом инокиня Марфа не могла распрямиться в ней в полный рост, оттого и согнулась, сгорбилась прежде времени. Вспомнилось ветхое рубище, кое носила не снимая из года в год, озноб непрекращающийся, стоптанные опорки на ногах, скудная, убогая еда и еле тлеющий огонек в печи…
Неужто ее вновь обрекут на эти мучения?!
Марфа пошатнулась, однако Шуйский не предложил ей сесть. Надменно глядя в огромные, испуганные черные глаза инокини, отчеканил:
– Прочти. Что молчишь, разве неграмотна? Читай же, ну! Вслух читай!
С трудом разбирая написанное, Марфа зашелестела откуда-то с середины послания:
– «…Он ведовством и чернокнижеством назвал себя сыном царя Ивана Васильевича, омрачением бесовским прельстил в Польше и Москве многих людей, а нас самих и родственников наших устрашил смертью. Я боярам, дворянам и всем людям объявила об том тайно, а теперь явно, что он не наш сын, царевич Димитрий, а вор, богоотступник, еретик. А как он своим ведовством и чернокнижеством приехал из Путивля в Москву, то, ведая свое воровство, по нас не посылал долгое время, а прислал к нам своих советников и велел им беречь накрепко, чтобы к нам никто не приходил и с нами никто не разговаривал. А как велел нас к Москве привезти, и он на встрече был у нас один, а бояр и других людей никого с собою не пускал к нам и говорил нам с великим запретом, чтоб мне его не обличать, претя нам и всему нашему роду смертным убийством, чтоб нам тем на себя и на весь род свой злой смерти не навести, и посадил меня в монастырь, и приставил ко мне своих советников, и остерегать велел накрепко, чтоб его воровство было не явно, а я, из-за угрозы, объявить в народе его воровство не смела…»
Дальше читать недостало сил. В горле пересохло, глаза начали слезиться. А тут еще память ужалила, как змея… Вот окончился путь из Выксунского монастыря. Привезли инокиню в Москву, к этому неведомому, назвавшемуся именем ее сына… Марфа бросилась из кареты – и оказалась в объятиях невысокого юноши, чья одежда была так и залита драгоценными каменьями.
– Матушка! – вскричал он, задыхаясь. – Родненькая моя матушка!
Марфа смотрела на него, но ничего не видела от нахлынувших слез. Вцепилась в его руки, уткнулась в жесткое от множества драгоценностей ожерелье, не чувствуя, как камни царапают лицо. Дала волю слезам, которые копились все эти мучительные годы разлуки.
Вдыхала незнакомый запах, казавшийся ей родным…
– Она его признала! Мать признала сына! Он, это истинно он! Будь здрав, Богом хранимый государь! – неслись со всех сторон умиленные крики.
Марфа кое-как разлепила склеенные слезами ресницы, разомкнула стиснутые рыданием губы:
– Митенька, ох, душа моя, радость… Ты, это ты, дитя ненаглядное! О Господи!..
«…и посадил меня в монастырь, и приставил ко мне своих советников, и остерегать велел накрепко, чтоб его воровство было не явно, а я, из-за угрозы, объявить в народе его воровство не смела…»
Рука с письмом бессильно упала.
– Вишь ты, пожалел тебя, лгунью лживую, государь! – проворчал Шуйский, когда Марфа подняла на него огромные, полные страха глаза. – Защитил от народа, написал: ты-де упреждала его и бояр, что пред ними самозванец! А разве ты упреждала?
«Да ведь он же сам, сам князь Василий, громче всех кричал, что признает в моем Димитрии истинного сына Грозного! Кто же тут лжет?!» – чуть не воскликнула Марфа, но благоразумно сдержалась. Даже рот ладонью прикрыла, чтобы ни словечка лишнего не вылетело.
Кончилось для нее время споров и сомнений. Сейчас она всецело в руках этих людей. Это еще счастье, что от нее чего-то хотят! Может быть, исполни Марфа их просьбу, они будут к ней милосердны?..
Господи, помоги! Она все сделает, только помоги!
– Что мне с этим делать? – спросила чуть слышно.
– Разослать эту грамоту по всей русской земле от лица своего. Проси прощения у народа, что лгала ему, что с твоей помощью взошел на московский трон еретик и самозванец, да еще свою еретицу возвел!
– Разошлю, – кивнула Марфа. – Все сделаю, что велите. А… а со мной потом что станется? Куда меня? В… в Выксу?..
Страшное слово не шло с языка. Марфа боялась взглянуть на Шуйского.
Тот долго молчал, собрав губы в куриную гузку, явственно наслаждаясь страхом инокини, ее стыдом, ее унижением. Потом процедил снисходительно:
– Останешься здесь. Благодари государя!
Марфа упала на колени, сложила руки…
Но она не благодарила. Она молила Господа о прощении. Господа – и погибшего сына своего, от которого только что отреклась навеки.
Май 1606 года, Москва, Кремль, бывший царицын дворец
Дня два над Кремлем реяла мертвая, тяжелая тишина, а потом вдруг снова ударили в колокола. Какие-то минуты женщины молча смотрели друг на друга, и в памяти каждой воскрес тот ужас, который разразился совсем недавно вслед за набатным звоном.
– Они хотят перебить нас всех! Нас всех до последнего! – взвизгнула Ядвига Тарло. – Они убьют Станислава и нас убьют!
Марина никогда не видела жену своего двоюродного брата, хорунжего перемышльского [9] в такой истерике. Считала ее весьма недалекой домашней курицей, а в свите своей терпела только из-за родственных чувств. Однако совсем недавно Ядвига успела крепко удивить не только царицу, но и многих прочих. Когда в страшную ночь мятежа в их дом в Китай-городе ворвались москвитяне, жаждавшие крови поляков, всех без исключения, мужчин и женщин, и принялись рубить-крошить направо и налево, Ядвига бросилась к постели больного мужа и прикрыла его собой, истошно крича: «Не троньте моего Станислава, раньше меня убейте!» Это неожиданно тронуло мужиков: и Ядвигу, и Станислава все-таки пощадили, только обобрали до нитки, до последней рубашки, чуть ли не полунагих пригнали в Кремль. Теперь Станислав Тарло был отправлен вместе с прочими мужчинами и воеводой Мнишком в дом бывшего думного дьяка Афанасия Власьева, где их всех держали под охраной. Ядвигу же, придворную даму царицы, оставили при ней. Ничего не зная толком об участи и здоровье больного мужа, Ядвига впала в полуобморочное оцепенение, а вот сейчас, при этом похоронно-тревожном звоне колоколов, очнулась – совершенно потеряла голову от нового припадка страха.
Марина увидела, что молодой стрелец, стоявший по ту сторону дверей, в сенях, вбежал в покои, услышав истошный крик Ядвиги, и замер, изрядно перепуганный. Казалось, эти измученные, одетые в лохмотья (все, что оставили им победители!), растрепанные, полуголодные женщины уже смирились со своей участью, боялись слово молвить и шевельнуться лишний раз, однако для несчастных чужие слезы – лишняя причина снова пролить свои. Для них крик и вой – как огонек для стога сена. Одна травинка займется – других уже не погасишь. Причем Ядвига хотя бы тревожилась о живом муже, а ведь сколько здесь собралось вдов и осиротевших дочерей, невест, лишившихся женихов! Каждая враз вспомнила и кровь, и крики, и невыносимый ужас, вершившийся от рассвета до заката 17 мая, пока бояре, возмутившие московскую толпу, не испугались того, чего сами же натворили, и не утихомирили ее. Но сколько потерь, сколько разбитых судеб, сколько канувших в невозвратимое прошлое надежд! Никакого просвета в будущем, кроме как сидеть вот здесь и ожидать смерти!
Молодой стрелец стиснул алебарду да так и стал столбом, не зная, что делать, кого утихомиривать первой, то ли грозить, то ли сотоварищей звать на помощь. Только и знал, что растерянно озирался по сторонам. Среди всего этого громогласного вопления и плача спокойной оставалась только одна женщина в черном платье, сидевшая в уголке комнаты в парчовом кресле. При взгляде на ее напряженно прищуренные серые глаза и стиснутые губы стрелец неловко затоптался на месте. Вроде бы государыня-царица Марина Юрьевна… Правда, народ не успел присягнуть ей, в тот день как раз случился мятеж, однако она все ж была венчана на царство… Что и говорить, держится с достоинством, подобающим столь высокой особе, хотя росточком и сложением больше напоминает девочку. А ведь ей небось солоней солоного приходится. Прочие бабы да девицы польские хотя бы могут оплакивать своих дорогих погибших, а ей и слезу не пророни по убитому мужу, государю Димитрию Ивановичу… царство ему небесное (стрелец перстами не посмел, а мысленно сотворил-таки крестное знамение). Стрелец вспомнил, как злорадно захохотал боярин Татищев, когда, сообщив бывшей царице о смерти мужа, увидел слезы на ее глазах. И с тех пор слезы эти высохли, словно бы навеки. Она сделалась будто каменная.
О чем она сейчас думает, мрачно сверкая глазами? Не о том ли, что и вздоха мужнего последнего не приняла, и похоронить супруга не могла?.. Кто б ей позволил! Труп бывшего царя три дня валялся на площади, потом был отвезен на божедомки [10]; затем же, когда начались с ним всякие кудесы (неведомой силой тело вновь и вновь возвращалось на площадь, а кругом в это время воцарился лютый мороз, невесть откуда доносились крики да вопли бесовские!), из земли вырыт, сожжен (и ведь не тотчас сгорел, а лишь когда порубили его на куски), а прахом выстрелили из пушки на запад, в сторону Польши, откуда некогда пришел самозванец. Ничего этого польская царица не видела, довольствовалась лишь слухами…
Молодой стрелец вздохнул. Хоть и еретичка, а все одно – баба. Жалко ее!
Он приметил, что, кроме развенчанной государыни, еще кое-как владела собой другая женщина: и собой постарше, и ростом повыше, и сложением покрепче. Она попыталась успокоить рыдающих, однако польская царица остановила ее и махнула рукой, словно приказала: дай ты им выплакаться! Та послушалась свою госпожу и села подле нее, пытаясь прикрыть косынкой разорванное на груди платье. И тут стрелец со смущением вспомнил, что видел эту женщину валяющейся на полу, с задранными на голову юбками, с раскинутыми ногами… Тогда ей небось и платье порвали! Да, что и говорить, много он чего видел-перевидел в этой спальне, покаянно подумал стрелец… И тут обнаружил, что эта высокая женщина как-то особо пристально на него поглядывает. И не просто поглядывает, но и быстро-быстро говорит что-то своей госпоже на их свистящем да шипящем наречии, из которого русскому человеку с трудом удается разобрать два, хорошо – три слова.
Стрелец хотел было отшагнуть от порога (отчего-то тревожно сделалось, очень как-то стало не по себе), однако польская царица уже обратила на него взгляд своих серых очей и кивнула. Высокая женщина шагнула к двери и надменно приказала, непривычно выговаривая слова:
– Иди, молодец, тебя государыня требует.
Стрелец заморгал. Может, надо было сказать что-то вроде: «Никакая она не государыня, а еретичка и жена воровского царя!» – или совсем уж попросту: «А хрен ли мне до твоей государыни?»
Но он не посмел. Кивнул в ответ – и потопал чрез всю опочивальню, огибая кричащих и воющих баб и девок, потащился на поклон к этой еретичке, дщери вавилонской…
Подошел, значит. В ножки, конечно, падать не стал и поясного поклона не отвесил: не столько из чванства, сколько потому, что был при оружии. Выпрямился перед сидящей женщиной, алебардою пристукнул, воззрился выжидательно.
Она молчала, словно бы не знала по-русски или не снисходила до разговоров с каждым-всяким, – вместо нее заговорила та, другая, высокая:
– Государыня желает знать, отчего звонят в колокола.
– Нынче венчается на царство государь наш и великий князь Василий Иванович, – чинно, как по писаному, ответствовал стрелец.
Женщины молниеносно переглянулись, а потом бывшая государыня выдохнула:
– Ш-шуйский?..
Ей-богу, словно бы змея прошипела!
– Кто ж другой, – пожал плечами стрелец.