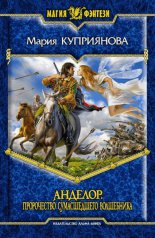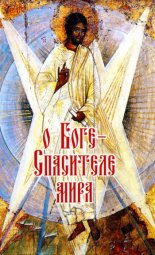Здесь мертвецы под сводом спят Брэдли Алан

Он такой милый, викарий, но ужасно наивный, и иногда я думаю, что кое-какие аспекты жизни и смерти ему совершенно неведомы.
Химия объясняет нам все о разложении, и я с ужасом осознала, что получила больше знаний у алтаря бунзеновской горелки, чем у всех церковных алтарей вместе взятых.
За исключением души, разумеется. Единственный сосуд, в котором можно изучать душу, – это живое человеческое тело, поэтому ее так же сложно изучать, как и мексиканские прыгающие бобы.
Невозможно изучать душу у трупа, решила я после нескольких близких знакомств с мертвыми телами.
Что возвращает меня к мысли о человеке под поездом. Кем он был? Что делал на платформе полустанка Букшоу? Он приехал из Лондона на похоронном поезде Харриет с остальными высокопоставленными гостями?
Что он имел в виду, говоря, что Гнездо в опасности? И кто, черт возьми, Егерь?
Я не осмелилась спросить. Сейчас не время и не место.
Каменное молчание в «роллс-ройсе» дало мне понять, что каждый погружен в свои мысли.
Для горюющих на дороге я просто бледное лицо, промелькнувшее за стеклом. Жаль, я не могу улыбнуться им всем, но я знаю, что не должна, поскольку улыбающаяся физиономия испортит воспоминания о печальном событии.
Мы все – плакальщики, захваченные моментом: он не наш, чтобы мы могли его менять. Мы должны предаться печали, как положено скорбящей семье, а остальные должны изливать на нас сочувствие.
Это я все и так знала. Почему-то это знание было у меня в крови.
Возможно, именно это имела в виду тетушка Фелисити, говоря со мной в тот день на острове посреди декоративного озера: что теперь я должна нести факел – нести славное имя де Люсов. «Куда бы это тебя ни привело», – добавила она.
Ее слова до сих пор звучали у меня в голове: «Неприятности не должны заставлять тебя отклониться. Я хочу, чтобы ты это помнила. Хотя для остальных это может быть не очевидно, но твой долг станет для тебя таким же ясным, словно белая линия, нарисованная посреди дороги. Ты должна следовать ему, Флавия».
«Даже если это приведет к убийству?» – спросила я.
«Даже если это приведет к убийству».
Неужели эта немного чудаковатая женщина, застывшая в молчании рядом со мной в «роллс-ройсе», на самом деле произнесла эти слова?
Я знала, что сейчас больше чем когда-либо мне надо поговорить с ней наедине.
Но сначала надо пережить прибытие в Букшоу. Я опасалась его больше всего на свете.
Нам вкратце объяснили предстоящие события.
В десять часов утра гроб Харриет прибудет на полустанок Букшоу, что уже произошло. Катафалк доставит его к парадному входу в Букшоу, потом его внесут внутрь и поместят на табуретки в будуаре Харриет, на втором этаже в южном конце западного крыла.
Сначала этот выбор места для возлежания казался довольно странным. Огромный вестибюль с темными деревянными панелями, черно-белой плиткой на полу и двумя возносящимися вверх лестницами мог предоставить куда более величественные декорации, чем будуар Харриет, сохраняемый отцом в память о ней.
За исключением зеркала на трюмо и псише[12] в углу комнаты, которые вчера были занавешены черным покровом, вся обстановка в будуаре – от гребней и щеток Фаберже, принадлежащих Харриет (на одной из них до сих пор сохранились несколько ее волосинок), и бутылочек для духов марки «Лалик» до ее до смешного практичных тапочек у огромной кровати под балдахином, словно из сказки «Принцесса на горошине», было точно таким, как в тот последний день, когда она уехала.
Только потом я поняла, что отец не просто хотел, чтобы Харриет вернулась в свое личное святилище. Ведь эта комната, где ей надлежит покоиться, отдельной дверью соединена с его спальней.
Доггер уже поворачивал к воротам Малфорда, и восседающие на них каменные грифоны, покрытые мхом, безразлично наблюдали за процессией. Проезжая мимо, я на секунду подумала, что капли зеленой воды, сочившиеся из уголков их испачканных глаз, – это на самом деле слезы.
Из уважения табличка «Продается» была убрана из виду до конца похорон.
Мы ехали по длинной аллее под покровом каштановых деревьев.
«Прибытие в Букшоу в 10–30» – говорилось в расписании, которое отец повесил на двери гостиной; так и получилось.
Как только мы вышли из «роллс-ройса», часы на башне Святого Танкреда в миле к северу от нас через поля пробили половину одиннадцатого.
Доггер поочередно открыл для нас двери машины, и мы, преисполненные почтения, выстроились в двойную линию по обе стороны парадного входа. Там мы и стояли, глядя куда угодно, только не прямо, пока шесть носильщиков в черных костюмах – все незнакомцы – переставляли гроб Харриет из катафалка на хромированную каталку и вкатывали в дом.
Я никогда не видела отца таким изможденным. Легкий ветерок шевелил его волосы надо лбом, отчего они поднимались вверх, словно у испуганного до смерти человека. Я хотела подбежать к нему и пригладить их пальцами, но, разумеется, ничего такого не сделала. Я двинулась следом за гробом, считая, что так и надо: самая младшая в семье, буду кем-то вроде девочки с цветами – первой в процессии.
Но отец остановил меня, положив руку мне на плечо. Хотя его печальные голубые глаза посмотрели прямо в мои, он не произнес ни слова.
Но я поняла. Как будто он дал мне пухлое руководство по мероприятию. Откуда-то я знала, что мы должны немного задержаться у входа. Отец не хотел, чтобы мы видели, как гроб Харриет несут по лестнице.
Вот такие вещи поражают меня больше всего: неожиданные пугающие проникновения в мир взрослых, и иногда я не уверена, что действительно хочу все это знать.
Так мы и стояли, словно каменные шахматные фигурки: отец, король, которому поставили мат, изящный, но смертельно раненный; тетушка Фелисити, дряхлый ферзь в черной шляпке набекрень, что-то беззвучно бормочущая себе под нос; Фели и Даффи, две ладьи, две далекие башни в дальних углах шахматной доски.
И я, Флавия де Люс.
Пешка.
Что ж, не совсем – хотя сейчас я себя чувствовала именно так.
С тех пор как тело Харриет было обнаружено в гималайском леднике, наши жизни в Букшоу словно оказались под контролем некой незримой силы. Нам по каждому поводу говорили когда, где и что, но никогда почему.
Каким-то образом где-то вдали от нас совершались приготовления, составлялись планы, и казалось, они просачиваются к нам, будто только что растаявшие директивы неведомого ледяного бога.
«Сделайте это, сделайте то, будьте там, будьте тут», – командовали нам, и мы подчинялись.
Вроде бы слепо.
Вот о чем я думала, когда мой острый слух уловил лязгающие звуки, доносящиеся со стороны ворот. Я повернулась аккурат вовремя, чтобы увидеть, как из каштановой аллеи выезжает совершенно необыкновенный автомобиль и останавливается на гравии перед входом в дом.
Эта штука была мятного цвета и угловатая, словно клетка лифта из уэльской угольной шахты. С открытой холщовой крышей, которую можно было поднять в случае дождя, и лебедкой на капоте. Я ее опознала: это «лендровер», мы видели похожую модель недавно в кино о сафари.
За рулем восседала женщина средних лет в черном платье с короткими рукавами. Она поставила машину на тормоз и сбросила с головы шарф марки «Либерти» так, будто это был пусковой шнур от подвесного мотора, рассыпав волосы по плечам.
Она выступила из «лендровера» с таким видом, будто весь мир принадлежит ей, и осмотрела окрестности не то с изумлением, не то с полнейшим презрением.
– Ундина, выходи, – позвала она, простирая руку, будто Господь Бог Адаму на потолке Сикстинской капеллы. В глубинах «лендровера» послышался беспокойный шорох, и наружу высунулась голова совершенно удивительного ребенка.
Она ничем не напоминала женщину, которую я приняла за ее мать. Одутловатое лицо-блин, голубые глаза, очки в черной оправе из тех, что выдает Национальная служба здравоохранения Великобритании, и лишенный возраста вид пришибленного птенца, выпавшего из гнезда.
Где-то в глубине у меня шевельнулся первобытный страх.
Они пересекли засыпанный хрустящим под ногами гравием двор и остановились перед отцом.
– Лена? – произнес отец.
– Прости, мы опоздали, – сказала женщина. – Эти корнуольские дороги… ну, сам знаешь, что это за корнуольские дороги… О небеса! Неужели это малышка Флавия?
Я ничего не ответила. Если должно воспоследовать «да», она не услышит его от меня.
– Она ужасно похожа на мать, не так ли? – спросила предполагаемая Лена, продолжая разговаривать с отцом и не глядя на меня, будто меня тут нет.
– А вы кто? – поинтересовалась я, как спрашивала у незнакомца на вокзале. Может, грубо, но в таком случае, как сегодняшний, позволительна некоторая уязвимость.
– Твои кузины, дорогая, Лена и Ундина из корнуольских де Люсов. Наверняка ты о нас слышала?
– Боюсь, что нет, – ответила я.
Все это время Даффи и Фели стояли, открыв рты. Тетушка Фелисити уже резко повернулась и скрылась в черной утробе распахнутой двери.
– Может, войдем? – предложила Лена, и это не был вопрос. – Давай, Ундина, тут прохладно. Мы можем сильно простудиться.
И правда было прохладно, но не в том смысле, какой она вложила в эти слова. Как может быть прохладно в такой не по сезону солнечный день?
Проходя мимо нас в дом, Ундина высунула язык.
В вестибюле отец тихо переговорил с Доггером, и тот сразу же занялся выгрузкой багажа новоприбывших из «лендровера» и доставкой его в комнаты наверху.
Дав поручение, отец побрел вверх по лестнице, едва переставляя ноги, будто его туфли наполнены свинцом.
Боннннннг!
Неожиданно вестибюль наполнился оглушающим грохотом. Отец замер, я резко обернулась. Это Ундина вытащила подаренную отцу ротанговую трость из стойки для зонтиков и ударила в китайский обеденный гонг.
Боннннннг! Боннннннг! Боннннннг! Боннннннг! Боннннннг!
Ее мать, казалось, ничего не заметила. Кузина Лена – если эта женщина и правда она, – закинув голову, оценивающе осматривала панели и картины с таким видом, будто она блудная дочь, тепло принятая дома, и снимала перчатки с видом почти непристойным, мысленно прикидывая стоимость произведений искусства.
Теперь этот ребенок носился вверх и вниз по лестнице – той, на которой отец замер с неверящим видом, – и стучал тростью по перилам, будто это забор.
Дррррррр! Дррррррр! Дррррррр!
Фели и Даффи в первый раз на моей памяти утратили дар речи.
Первой опомнилась Фели. Она отплыла в сторону гостиной. Даффи открыла рот, потом закрыла и быстро ушла в сторону библиотеки.
– Флавия, дорогуша, – сказала Лена, – почему бы тебе не показать Ундине дом? Она так любит картины и всякое такое, верно, Ундина?
Кажется, меня затошнило.
– Да, Ибу, – ответила Ундина, размахивая тростью в воздухе, словно прорубалась сквозь джунгли.
Я держалась в стороне.
– Возможно, мисс Ундина захочет посмотреть на акул, – предложил Доггер. Он неожиданно и тихо появился на верху лестницы.
В Букшоу нет никаких акул, я в этом вполне уверена, но часть меня отчаянно надеялась, что Доггер припас парочку. Может, он втайне разводит их в декоративном озере.
6
Огромная черная акула выплыла на поверхность, на секунду неподвижно замерла, щелкнув массивными челюстями в воздухе, и затем, изгибаясь, упала обратно в неспокойные воды.
Ундина завопила:
– Еще! Еще! Еще! Еще!
– Хорошо, но это в последний раз, – сказал Доггер, манипулируя ладонями перед настольной лампой, которую он завесил тряпкой, и на стене снова возникла черная акула, злобно щелкнула зубами в воздухе и снова упала в волны качающихся пальцев.
Доггер вернул на место рукава, застегнул манжеты и выключил лампу.
Он снял одеяла, которыми закрыл кухонные окна, и мы заморгали от внезапного света.
Когда Доггер ушел, Ундина спросила:
– Он всегда показывает акул?
– Нет. Я видела, как он делает слонов и крокодилов. Его крокодил очень страшный, вообще-то.
– Ха! – сказала Ундина. – Я не боюсь крокодилов.
Я не смогла удержаться.
– Готова поспорить, ты отродясь ни одного не видела, – заметила я. – Во всяком случае, в жизни.
– Видела!
Да что она понимает в блефе, она же выступает против мастера. Я ей покажу приемчик-другой.
– И где конкретно? – поинтересовалась я. Скорее всего, она даже не знает значение слова «конкретно».
– В мангровом болоте в Сембаванге. Это был морской крокодил – самая большая рептилия в мире.
– В Сембаванге? – должно быть, я выглядела деревенской дурочкой.
– Сингапур, – сказала она. – Ты никогда не бывала в Сингапуре?
Поскольку я и правда не бывала, то подумала, что надо бы поскорее сменить тему.
– Почему ты зовешь свою маму Ибу? – спросила я.
– Это малайский, – ответила она. – Значит «мама» по-малайски.
– Сингапур малайский?
– Нет! Малайский – это язык, ты, глупая гусыня. Сингапур – это географическое место.
Дискуссия шла совсем не в том направлении, как я надеялась. Время для другой диверсии.
– Ундина, – сказала я. – Какое странное имя.
Возможно, «странное» прозвучало немного грубовато, но она, в конце концов, нанесла первый удар, обозвав меня глупой гусыней.
– Не такое уж странное, как могло бы быть, – ответила она. – Папа хотел назвать меня Сепией, но мама восторжествовала.
Она именно так и выразилась – «восторжествовала».
Что за прелюбопытное маленькое существо!
В один миг она ребенок, криками требующий, чтобы его развлекали дальше, а в другой – говорит, словно скучная старая вешалка из Клуба путешественников.
Без возраста. Да, вот эти слова характеризует Ундину: без возраста.
Тем не менее я все еще не до конца уверена, стоит ли верить ей насчет сингапурского морского крокодила. Попозже я наведу справки.
– Сочувствую из-за твоей матери, – неожиданно сказала она на фоне молчания. – Ибу часто о ней говорила.
– По-малайски? – спросила я, желая прервать этот разговор.
– По-малайски и по-английски, – ответила она. – В Сингапуре мы говорили на обоих языках равноценно.
Равноценно? О, не заставляйте меня плеваться ядом!
– Я причинила тебе большое расстройство? – спросила она.
– Расстройство?
– Ибу сказала, что мне нельзя упоминать твою мать в Букшоу. Она сказала, что это причинит большое расстройство.
– Ибу часто вспоминает мою мать, говоришь?
Я продолжала вести себя несколько несносно, но Ундина, кажется, не обращала на это внимания.
– Да, довольно часто, – продолжила она. – Она очень ее любила.
Должна признаться, я была тронута.
– Она плакала, – рассказывала Ундина, – когда тело твоей мамы вынесли из поезда.
Внезапно шарики в моем мозгу завертелись.
– Из поезда? – недоверчиво переспросила я. – Вы не были на платформе?
– Нет, были, – возразила Ундина. – Ибу сказала, что это меньшее, что мы можем сделать. Мы опоздали. Мы припарковались в стороне, но все видели.
– Я что-то устала, Ундина, – сказала я. – Иди наверх. Я пойду прилягу.
Я вытянулась на кровати, не в состоянии ни бодрствовать, ни спать, и причиной этому была вина.
Как я могла так спокойно сидеть на кухне, наблюдая за безмятежным шоу теней, когда все это время моя мать мертвая лежит наверху?
Мертвая и потерянная: десять лет пролежавшая замороженной в леднике, пока какой-то идиот-альпинист, позируя для фотоснимка, не упал в расщелину, где партия спасателей и нашла его – а заодно и ее – заледеневшие останки.
Что я чувствовала? Ужасную вину!
Почему я не рыдаю, не кричу и не рву волосы? Почему не брожу по зубчатой стене Букшоу, завывая вместе с ветром?
Даже кузина Лена оказалась в состоянии поплакать на полустанке. Почему же я стояла там, словно обломок сгнившей древесины, больше думая о гибели незнакомца, чем о смерти собственной матери?
Почему я должна была дожидаться упреков от голоса из болот моего разума?
Как получилось, что мое горе покинуло меня?
Вероятно, Фели и Даффи все время были правы: может, я и правда подменыш. Может, Харриет действительно подобрала меня в приюте – что означает, что я такая же ей родня, как обезьяна луне.
Никогда в жизни я так отчаянно не хотела быть де Люс и никогда я до такой степени не чувствовала себя чужой. Моя семья и я, казалось, стоим на противоположных концах вселенной. Я загадка для них, а они для меня, и все же, несмотря на это, мы нужны друг другу.
Я перекатилась лицом вверх и уставилась в потолок. Огромные пузыри обоев, отслоившихся под воздействием сырости и висевших над моей головой, словно заплесневевшие аэростаты, внушали мне такое чувство, будто сам дом нападает на меня.
Я закрыла голову подушкой. Бесполезно.
Через несколько часов в Букшоу начнут приходить жители деревни для церемонии прощания с Харриет. Доггеру поручено провожать их маленькими порциями по западной лестнице в ее будуар, где они будут стоять, рассматривая свои маленькие отражения в жутком блеске этого отвратительного гроба, содержимое которого ужаснее, чем можно себе представить.
Я выпрыгнула из постели и, захватив проектор, понесла его в темную комнату лаборатории.
Я снова вставила пленку в машину и нажала пуск. Картинка была меньше, но ярче, чем в камине моей спальни, и, как ни странно, я смогла различить больше деталей.
Вот Харриет, снова выбирающаяся из кабины «Голубого призрака» вместе с моей персоной, невидимой, но присутствующей под ее развевающейся одеждой. Фели и Даффи машут и прикрывают глаза руками.
От солнца, как я сначала предположила?
Или Харриет в реальной жизни была слишком сияющей, чтобы на нее можно было смотреть?
Какова бы ни была причина, проявив эту забытую пленку, я благодаря волшебству химии воскресила свою мать.
В глубине меня что-то проснулось, шелохнулось – и снова уснуло.
Теперь отец идет навстречу камере, не осознавая, что оказался в ловушке другого мира – мира прошлого.
Даффи и Фели барахтаются у берега декоративного озера, не понимая, что их снимают. Камера отворачивается, перемещаясь на одеяло, где отец и Харриет устроили пикник.
Но погодите!
Что это за тень на траве? Раньше я ее не замечала.
Я остановила проектор и перемотала пленку.
Да! Я права – на траве действительно есть темное пятно: тень оператора камеры, кто бы он ни был.
Я пустила пленку дальше: когда отец отворачивается, чтобы достать что-то из корзины, Харриет поворачивается к камере и снова произносит эти слова.
Вместе с ней я произнесла эти слова вслух, пытаясь двигать губами, как она, ощущая ее слова у себя во рту:
– Сэндвичи с фазаном, – говорит она на дергающейся картинке.
– Сэндвичи с фазаном, – говорю я.
Я снова перемотала пленку обратно, чтобы рассмотреть мимолетную тень на траве. Кому Харриет сказала эти загадочные слова?
Я снова пересмотрела запись, думая, есть ли способ заставить изображение замереть.
– Сэндвичи… – заговорила Харриет, и послышался ужасающий стук и скрежет.
Проектор заело!
Изображение на стене застыло на полуслове. Прямо у меня перед носом лицо Харриет начало коричневеть, темнеть, сморщиваться и пузыриться…
Пленка загорелась! Откуда-то из внутренностей проектора поднялся столбик темного вонючего дыма.
Если пленка состоит из нитрата целлюлозы, а я знаю, что некоторые пленки его содержат, то у меня проблемы.
Даже если она не взорвется, – а это вполне вероятно, – комната быстро наполнится ядовитой смесью водорода, моноокиси углерода, диоксида углерода, метана и разнообразных неприятных разновидностей оксидов азота, не говоря уже о цианиде.
Эта маленькая темная комната вмиг превратится в идеальный склеп. А через несколько минут и от Букшоу может остаться только пепел.
Я сорвала с крючка передник и набросила его на проектор.
Нитрат целлюлозы не нуждается в кислороде, чтобы гореть, он сам его содержит.
Ничто – даже огнетушители и вода – не потушат пламя нитрата целлюлозы.
Обычно, когда дело касается химикалий, я неплохо соображаю, но должна признаться, что в этом случае я запаниковала.
Я выскочила из темной комнаты, захлопнула за собой дверь и прижалась к ней спиной. Вместе со мной вырвался клуб дыма.
Я так и стояла – словно существо, только что выбравшееся из колодца, – когда послышался голос из-за дыма:
– Опасность?
Это Доггер.
Я смогла только кивнуть.
– Прошу прощения за вторжение, – сказал он, размахивая руками в воздухе и открывая окно, – но полковник де Люс хочет, чтобы через четверть часа семья собралась в гостиной.
– Благодарю, Доггер. Непременно буду.
Доггер не уходил. Его ноздри раздулись, и он слегка приподнял подбородок.
– Ацетат? – поинтересовался он, даже не потрудившись принюхаться.
– Полагаю, да, – ответила она. – Если бы это был нитрат целлюлозы, мы бы изрядно вляпались.
– И правда, – согласился Доггер. – Я могу помочь?
Я помолчала долю секунды, перед тем как выпалить:
– Можно ли склеить пленку?
– Можно, – ответил Доггер. – Профессионалы называют это монтажом. Надо лишь несколько капель ацетона.
Я мысленно представила себе химическую реакцию.
– Разумеется! – сказала я. – Химическое связывание целлулоида.
– Именно, – подтвердил Доггер.
– Мне следовало самой сообразить, – признала я. – Где ты этому научился?
Лицо Доггера затуманилось, и несколько неудобных секунд мне казалось, что я нахожусь в обществе совершенно другого человека.
Полного незнакомца.
– Я… не знаю, – наконец медленно ответил он. – Эти фрагменты иногда неожиданно оказываются на кончиках моих пальцев… или на языке… как будто…
– Да?
– Как будто…
Я затаила дыхание.
– Почти как будто это воспоминания.
И с этими словами незнакомец исчез. Внезапно вернулся Доггер.
– Я могу помочь? – снова спросил он, будто ничего не произошло.
Вот ведь загвоздка! Как бы я ни желала помощи Доггера, какая-то мрачная и древняя часть меня упорно цеплялась за желание сохранить эту катушку пленки в тайне.
Все так чертовски запутанно! С одной стороны, часть меня хотела, чтобы меня погладили по голове и сказали: «Ты хорошая девочка, Флавия!», но одновременно другая часть хотела утаить этот новый и неожиданный взгляд на Харриет, сохранить пленку только для себя, как собака закапывает свеженайденную суповую косточку.
Но потом я подумала, что Доггер никогда не видел Харриет лично, он появился в Букшоу только после войны. Странно, но Харриет была для него лишь тенью, оставленной покойной женой его нанимателя, – примерно как и для меня, с неприятной болью осознала я.
Только, разумеется, она еще моя мать.
В общем, все сводится к одному: насколько я доверяю Доггеру?