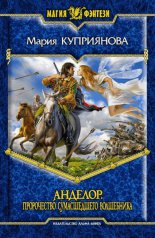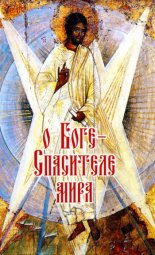Здесь мертвецы под сводом спят Брэдли Алан

Дитер Шранц – бывший военнопленный-немец с фермы «Голубятня», который с недавнего времени помолвлен с Фели.
– Не утруждайтесь, – сказала я миссис Мюллет. – Если он придет, ему придется удовольствоваться чаем. У нас есть печенье?
– В кладовой, – ответила она. – Такая симпатичная баночка с Виндзорским замком на крышке.
Я одарила ее идиотской улыбкой и направилась в кладовую. В задней части высокой полки, точно как я помнила, хранилась баночка молотого кофе «Максвелл Хаус». Несмотря на нормирование продуктов[4], его принес в качестве подарка с американской базы в Литкоте Карл Пендрака, еще один ухажер Фели, который, несмотря на веру отца, что Карл происходит от короля Артура, был выбит из седла в недавних матримониальных скачках.
Вознеся безмолвную благодарственную молитву за старомодную мешковатую одежду, я сунула банку с кофе сбоку под свитер, с другой стороны пристроила большой проволочный венчик, зажала в зубах парочку печений «Эмпайр» и скрылась.
– Благодарю, миссис Мюллет, – промямлила я с набитым ртом, держась к ней спиной.
Вернувшись в лабораторию, я высыпала кофе из банки в бумажный фильтр в виде конуса, поместила его в стеклянную воронку, зажгла бунзеновскую горелку и подождала, пока в чайнике закипит дистиллированная вода.
Химически говоря, насколько я помню, проявка пленки – это просто вопрос разложения содержащихся в ней кристаллов галогенида серебра путем раскисления в базовый элемент – серебро. Если метол мог это сделать, прикинула я, то и кофеин сгодится. А еще, если уж на то пошло, и экстракт ванили, хотя я знала, что если покушусь на ванильный экстракт миссис Мюллет, она кишки из меня вынет. Припрятанный кофе намного безопаснее.
Когда вода покипела две минуты, я отмерила три чашки и вылила их на кофе. Пахло настолько прилично, что это почти можно было пить.
Я помешала коричневую жидкость, чтобы избавиться от пузырьков и пены, и когда она достаточно остыла, вмешала семь чайных ложек карбоната натрия – старой доброй соды.
Поначалу приятный, аромат кофе теперь изменился: вонь усиливалась с каждой секундой. Честно говоря, теперь он пах, как могла бы пахнуть кофейня в трущобах ада, пораженная молнией. Я с радостью покинула комнату, хоть и всего на пару минут.
Сделав дело, я собрала свое оборудование и заперлась в темной комнате.
Я включила неактиничное освещение[5]. Лампочка вспыхнула красным и тут же погасла со щелчком.
О нет! Чертова лампа перегорела.
Я открыла дверь и отправилась на поиски новой.
Временами мы ворчим из-за того, что отец в целях экономии электроэнергии приказал Доггеру заменить большую часть лампочек в Букшоу на десятиваттные. Единственной, кто, по-видимому, не возражал, была Фели, которой хватает тусклого света, чтобы писать в дневнике и изучать свою прыщавую рожу в зеркале.
«Экономия электроэнергии помогает выиграть войну, – сказала она, хотя война закончилась шесть лет назад. – И кроме того, так намного романтичнее».
Так что у меня не было сложностей в поиске лампочки.
Не успели бы вы сосчитать до восьмидесяти семи – я это знаю наверняка, потому что считала про себя, – как я вернулась в лабораторию с лампочкой из прикроватного светильника Фели и бутылочкой лака для ногтей под названием «Пылающее пламя», которым она недавно обзавелась, чтобы уродовать свои руки.
Как по мне, если бы природа хотела, чтобы у нас были ярко-красные ногти, она бы сделала так, чтобы мы рождались с кровью наружу.
Я покрасила лампочку лаком и дула на нее изо всех сил, пока она не высохла, потом покрыла еще одним слоем краски, проверяя, чтобы вся поверхность стекла была закрашена.
С учетом сложнейшей работы, которую мне предстоит проделать, я не могу допустить ни малейшего лучика белого света.
Я снова заперлась в темной комнате. Включила лампу и была вознаграждена слабым красным светом.
Идеально!
Я слегка повернула ручку камеры и нажала кнопку. Когда находившаяся внутри пленка пришла в движение, послышалось тихое шуршание. Через десять секунд конец ленты полностью намотался на катушку.
Я открыла защелку, подняла крышку и вытащила пленку.
Теперь предстояла самая сложная часть дела.
Я медленно и аккуратно перемотала пленку с катушки на кухонный венчик, скрепив оба конца скрепкой.
К этому времени я уже до середины наполнила подкладное судно кофейным проявителем и теперь погрузила туда венчик, медленно… очень медленно… поворачивая его вокруг оси, словно цыпленка на вертеле.
Термометр в кофейной ванне показывал шестьдесят восемь градусов по Фаренгейту[6].
Двенадцать минут, рекомендованные руководством по фотографии, тянулись целую вечность. В ожидании поглядывая одним глазом на часы, я вспомнила, что в ранние дни фотографии пленку проявляли галловой кислотой – C7H6O5, которую получали в небольших количествах из чернильных орешков-галлов – наростов на ветках красильного дуба, которые возникают из-за поражения орехотворкой, откладывающей яйца.
Странно, но те же самые чернильные орешки, растворенные в воде, использовались как противоядие при отравлении стрихнином.
Как приятно думать, что без орехотворки мы не имели бы ни фотографии, ни удобного способа спасти чьего-нибудь богатого дядюшку от рук убийцы.
Однако сохранила ли найденная мной пленка скрытые изображения? Интересно, не так ли, но одно и то же слово «скрытый» используется для описания непроявленных форм и фигур на фотопленке и для невидимых отпечатков пальцев.
Эта пленка вообще что-нибудь покажет? Или я увижу только влажный серый разочаровывающий туман – результат многих иссушающих лет и ледяных зим на чердаке?
Я завороженно смотрела, как под кончиками моих пальцев начали формироваться сотни негативов, проступающих в реальность словно из ниоткуда – будто по волшебству.
Каждый отдельный кадр фильма был слишком мал, чтобы угадать, что на нем изображено. Только когда пленка будет полностью проявлена, она покажет свои секреты – если они там есть.
Двенадцать минут уже прошли, но изображения все еще проявились не до конца. Кофейный проявитель действовал явно медленнее, чем метол. Я продолжала крутить венчиком, ожидая, чтобы картинки приобрели нормальный темный цвет негативов.
Прошло еще двенадцать минут, и я приуныла.
Когда дело касается химии, нетерпение не является моим достоинством. Полчаса – слишком много для любого вида деятельности, даже приятного.
К тому моменту, когда изображения приобрели удовлетворительный вид, я уже была готова кричать.
Но дело еще не было окончено. Отнюдь. Это только первый шаг.
Теперь надо было первый раз промыть – пять минут под проточной водой.
Ожидание было настоящей пыткой, я едва сдерживалась, чтобы не поставить наполовину проявленную пленку в проектор – и плевать на последствия.
А теперь отбеливание: я уже растворила четверть чайной ложки перманганата калия в кварте воды и добавила раствор серной кислоты в небольшом количестве воды.
Еще пять минут ожидания, пока я медленно вращаю пленку в жидкости.
Еще одна промывка, и я медленно считаю до шестидесяти, чтобы выдержать минуту.
Теперь промывающий раствор: пять чайных ложек метабисульфита калия в кварте воды.
На этом этапе можно без опасений включить нормальный свет.
Полупрозрачный галогенид серебра – элемент пленки, который должен в итоге стать черным, – приобрел кремово-желтый оттенок, как будто изображения были нарисованы на прозрачном стекле омерзительной горчицей миссис Мюллет.
В отраженном свете эти изображения казались негативом, но когда я вынесла их на белый свет, они внезапно обрели вид позитива.
Я уже могла различить что-то вроде отдаленного вида Букшоу: желтый старый дом будто проступал из сна.
Теперь обращение.
Я отодвинула венчик на расстояние вытянутой руки и начала медленно вращать, считая до шестидесяти, на этот раз используя разновидность метода, который я узнала, когда изучала искусственное дыхание в организации девочек-скаутов, перед тем как меня исключили (совершенно несправедливо).
– Раз цианид, два цианид, три цианид, – и так далее.
Минута пронеслась с удивительной скоростью.
Потом я сняла пленку с венчика, перевернула ее и аналогичным образом проявила другую сторону.
Теперь снова время для кофе: того, что руководство именует второй проявкой. Желтые предметы в каждом квадратике теперь станут черными.
Еще шесть минут маканий, замачиваний, переворачивания венчика, чтобы убедиться, что все части пленки одинаково подверглись воздействию вонючей жидкости.
Четвертая промывка, пусть она и заняла всего лишь шестьдесят секунд, показалась вечностью. Мои руки начали неметь от постоянного верчения венчика, и ладони пахли, будто… ладно, промолчу.
В фиксаже нужды не было: отбеливающий и промывающий растворы уже удалили незасвеченное серебро при первой проявке, и если какое-то количество галогенида серебра и осталось, оно восстановилось до металлического серебра при второй проявке и теперь образовало черные части изображения.
Легче легкого.
Я оставила пленку на несколько минут на подносе с водой, куда я добавила квасцы в целях затвердения, чтобы пленка не подвергалась царапинам.
Мое сердце пропустило удар.
Изображения оказались душераздирающе простыми: квадратик за квадратиком показывали, как Харриет и отец сидят на одеяле для пикника перед Причудой на острове посреди декоративного озера в Букшоу.
Я выключила лампу и погрузила пленку в воду, оставив только безопасный красный свет – не по необходимости, но потому что мне казалось, это проявление уважения.
Как я уже сказала, я написала их инициалы на воде:
ХДЛ
Харриет и Хэвиленд де Люс. Я была не в состоянии, во всяком случае сейчас, смотреть на их лица в любом другом свете, за исключением кровавого.
Это все равно что подглядывать за ними.
Наконец я с почтением, почти неохотно извлекла пленку из воды и вытерла ее насухо губкой. Я отнесла ее в лабораторию и развесила сушиться огромными фестонами от периодической таблицы на западной стене до фотографии Уинстона Черчилля с автографом на восточной.
В спальне, ожидая, пока пленка высохнет, я выкопала из кучи под кроватью нужный диск: Рахманинов, «Восемнадцатая вариация рапсодии Паганини» – прекраснейшее музыкальное произведение, которое, по моему мнению, может сопровождать великую историю любви.
Я завела граммофон и поставила иголку в бороздку. Когда зазвучала мелодия, я уселась, подобрав колени, на подоконник, выходивший на Висто – заросшую травой лужайку, где Харриет когда-то сажала свой биплан «де Хэвиленд Джипси Мот».
Я представляла, будто слышу шум ее двигателя, когда она поднимается над завитками тумана, над каминами Букшоу, над декоративным озером с Причудой и исчезает в будущем, откуда больше не вернется.
С тех пор как Харриет исчезла, погибла, как нам сказали, во время несчастного случая в горах Тибета, прошло больше десяти лет: длинных трудных лет, почти половину из которых отец провел в японском лагере военнопленных. Наконец он вернулся домой – только для того, чтобы обнаружить, что он без жены, без денег и в серьезной опасности лишиться Букшоу.
Поместье принадлежало Харриет, унаследовавшей его от дядюшки Тара, но поскольку она умерла, не оставив завещания, «Силы тьмы» (как отец однажды нарек седых мужчин из департамента, ведающего налогами ее величества) преследовали его, будто он не герой, вернувшийся с войны, а беглец из Бродмура[7].
А теперь Букшоу рушился. Десять лет небрежения, печали и нехватки средств взяли свое. Фамильное серебро отослано в Лондон для продажи на аукционе, бюджеты урезаются и пояса затягиваются. Но тщетно, и на Пасху наш дом в итоге выставили на продажу.
Отец всегда предупреждал, что нас могут выставить из Букшоу.
А теперь, лишь несколько дней назад, получив загадочный телефонный звонок, он собрал нас троих – Фели, Даффи и меня – в гостиной.
Он медленно обвел каждую из нас взглядом, перед тем как обрушить на нас новости.
– Обнаружили, – сказал он наконец, – вашу мать.
И более того: она возвращается домой.
4
Я осознала, что с того самого момента, как отец сделал свое шокирующее объявление, я отстранялась от реальности: засовывала факты в какой-то вещевой мешок в отдаленном углу своего сознания и затягивала веревку – очень похоже на то, как если попытаться поймать тигра мешком.
Стыдно признаться, но я понимала, что цепляюсь за прошлое, пытаясь вернуть к жизни мой старый мир, в котором Харриет просто исчезла, в котором я хотя бы понимала, где я и кто я.
Хваталась за любую возможность избегать перемен, как тонущий человек хватается за струйку выпускаемых им пузырей.
Не то чтобы я не хотела, чтобы Харриет вернулась домой: разумеется, хотела.
Но что это привнесет в мою жизнь?
То, что я нашла этот фильм, было даром божьим. Может быть, он окажется новым окном в прошлое: окном, которое поможет мне более ясно видеть будущее.
Мной овладела одна из тех беспокойных дум, которые стали изводить меня в последнее время: новая, недодуманная и до сих пор не внушающая особого доверия. Это все равно что думать мозгами другого человека. Дело явно связано с тем, что мне скоро двенадцать, и я не уверена, что мне это нравится.
Я затемнила спальню, закрыв окна одеялами и прикрепив их к рамам канцелярскими кнопками. Ветхие и потертые занавески Букшоу недостаточно плотны, чтобы перекрыть солнечный свет.
В лаборатории я сильно щелкнула по пленке ногтем. Приятный резкий звук дал мне понять, что пленка полностью высохла на солнце. Я снова намотала ее на катушку и унесла в спальню.
Я вставила пленку в проектор, установленный на туалетном столике, и направила его на камин. Стены моей спальни покрыты отвратительными викторианскими обоями – красные пятна на желтушно-голубом фоне, – и на их фоне нет ни единой однотонной поверхности, на которой можно было бы показывать проявленную кинопленку.
К счастью, мистер Митчелл, эксперт в делах такого рода, однажды сказал мне во время вечера кино в приходском зале, что на самом деле белый экран необязателен.
«Все думают, что он нужен, – поведал он, – но только потому, что они никогда не видели черного».
Он продолжил объяснять, что проектор привносит те оттенки, которых нет на экране: что на самом деле, когда мы смотрим в кино последнюю комедию «Илинг»[8], те части экрана, которые кажутся нашему глазу черными, на самом деле белые.
«Да, белые, но неосвещенные», – уточнил он.
Что ж, в этом есть здравое зерно, и мне показалось логичным, что обширная плоская кирпичная стена в задней части камина, почерневшая от копоти, станет прекрасным экраном.
И я оказалась права!
Я включила проектор и покрутила линзу, чтобы сфокусировать ее, и из роскошных бархатистых черных оттенков на стенке камина явилось изображение.
Вот вид на Букшоу со стороны ворот Малфорда, и картинка движется вдоль аллеи каштанов в сторону дома. Следующий кадр: «роллс-ройс» «Фантом II», принадлежащий Харриет, стоит на гравиевой дорожке у парадного входа.
Потом возник кадр с Харриет в кабине «Веселого призрака». Я узнала несколько статуй на заднем плане, сейчас, спустя десять с лишним лет, они лежат в руинах посреди неухоженных изгородей на Висто. Харриет улыбается в камеру и, держась двумя руками за боковые стенки кабины, поднимается и ставит ногу на длинное крыло биплана.
Харриет! Моя мать. Двигающаяся и дышащая – как будто она до сих пор жива! И она еще более прекрасна, чем я могла себе представить. Казалось, она светится изнутри и озаряет своей улыбкой мир и все в пределах досягаемости.
Короткие взъерошенные волосы, стрижка боб – она напомнила мне одну из тех знаменитых женщин-авиаторов в старых новостных лентах, но без ощущения злого рока, нависавшего над многими из них.
Она помахала, и камера отодвинулась, чтобы сфокусироваться на двух маленьких девочках, изо всех сил махавших в ответ и поднимавших ладони, видимо, прикрывая глаза от солнца.
Фели и Даффи – в возрасте примерно семи и двух лет.
Когда Харриет осторожно спустилась с крыла, я в первый раз увидела ее выступающий живот. Хотя он был частично скрыт ее летной амуницией, довольно легко было заметить, что она беременна.
Эта выпуклость под ее брюками – это я!
Как удивительно – одновременно присутствовать при этой сцене и не присутствовать, будто ассистент на шоу фокусника.
Что я почувствовала? Замешательство? Гордость? Счастье?
Ничего подобного. Лишь осознание горького факта, что Фели и Даффи разделили тот далекий солнечный день вместе с Харриет, а я нет.
Теперь крупный кадр, как приближается отец, видимо, он вышел из дома. Он бросает застенчивый взгляд и чем-то поигрывает в кармане жилета, а потом улыбается в камеру. Эту сцену, по-видимому, снимала Харриет.
Быстрая перемена места действия: теперь на заднем плане Фели и Даффи барахтаются, словно уточки, у берега декоративного озера, а отец и Харриет, которых снимает кто-то еще, устраивают пикник на ковре перед Причудой. Это сцена, которую я рассматривала в лаборатории.
Они улыбаются друг другу. Он отворачивается, чтобы что-то достать из плетеной ивовой корзины, и в этот самый момент она становится смертельно серьезной, поворачивается к камере и произносит пару слов, артикулируя их с преувеличенной старательностью, как будто дает кому-то инструкции сквозь оконное стекло.
Я оказалась застигнута врасплох. Что сказала Харриет?
Вообще я первоклассный чтец по губам. Я обучилась этому искусству самостоятельно, сидя за завтраками и обедами и затыкая уши пальцами, а потом используя ту же технику в кино. Я сиживала на единственной в Бишоп-Лейси автобусной остановке, заткнув уши ватой («Доктор Дарби говорит, что у меня ужасная инфекция, миссис Белфилд») и расшифровывая разговоры ранних пташек, отправлявшихся за покупками на рынок в Мальден-Фенвике.
Если только я не ошибаюсь, Харриет произносит: «Сэндвичи с фазаном».
Сэндвичи с фазаном?
Я остановила проектор, нажала кнопку перемотки и снова посмотрела эту сцену. Причуда и ковер. Харриет и отец.
Она снова произносит эти слова.
«Сэндвичи с фазаном».
Она выговаривает слова так четко, что я почти слышу звук ее голоса.
Но к кому она обращается? Она и отец явно перед камерой, а кто же за ней?
Что за невидимый третий участник присутствовал на этом давнем пикнике?
Мои возможности узнать ограничены. Фели и Даффи – Даффи уж точно – были слишком малы, чтобы помнить.
И вряд ли я могу спросить у отца, не рассказав, что нашла и проявила забытую пленку.
Я предоставлена сама себе.
Как обычно.
– Фели, – сказала я, остановив ее посреди второй части Патетической сонаты Бетховена, Andante cantabile.
Когда Фели играет, любое вмешательство приводит ее в бешенство, что автоматически дает мне преимущество, пока я сохраняю абсолютное спокойствие и сдержанность.
– Что? – рявкнула она, вскакивая на ноги и захлопывая крышку рояля. Раздался приятный звук: что-то вроде гармоничного мычания, довольно долго отдававшегося эхом в струнах рояля, – будто Эолова арфа, на чьих струнах, по словам Даффи, играл ветер.
– Ничего, – ответила я, делая такое выражение лица, будто меня обидели, но я смирилась. – Просто я подумала, что ты можешь захотеть чашечку чаю.
– Ладно, – продолжила Фели. – К чему ты клонишь?
Она знала меня так, как волшебное зеркало знает злую королеву.
– Ни к чему не клоню, – сказала я. – Просто пытаюсь быть милой.
Я вывела ее из равновесия. Видно по ее глазам.
– Ну, хорошо, – неожиданно сказала она, воспользовавшись возможностью. – Я не откажусь от чашечки чаю.
Ха! Она думает, что победила, но игра только началась.
– Ее величество желает чашку чаю, – сказала я миссис Мюллет. – Если бы вы были так любезны приготовить его, то я бы отнесла сама.
– Конечно, – ответила миссис Мюллет. – Я в два счета сделаю.
Миссис М. всегда говорит «в два счета», когда она раздражена, но не хочет этого показывать.
Фели уже опять вернулась к сонате Бетховена. Я молча поставила чайник на стол и села прямо, вся внимание, сдвинув колени и скромно сложив руки – копируя жену викария Синтию Ричардсон.
Я даже несколько чопорно поджала губы.
Когда Фели закончила, некоторое время я сохраняла почтительное молчание, считая до одиннадцати, – отчасти потому, что это мой возраст, а отчасти потому, что одиннадцать секунд кажутся мне идеальным соотношением между восхищением и нахальством.
– Фели, мне в голову пришла мысль… – начала я.
– Как оригинально, – перебила она меня. – Надеюсь, ты ничего не сломала.
Я пропустила ее слова мимо ушей.
– Ты когда-нибудь думала о том, чтобы играть для кино? Вроде «Краткой встречи» или Варшавский концерт в «Опасном лунном свете»?
– Возможно, – ответила она с некоторой мечтательностью, забыв свой недавний сарказм. – Возможно, однажды меня пригласят.
Единственным профессиональным выступлением Фели во время фильма были бестелесные руки в так и не законченном фильме Филлис Уиверн, несколько сцен из которого были сняты в Букшоу, перед тем как звезда, так сказать, плохо кончила.
Я знала, как разочарована тогда была Фели.
– Некоторым людям везет настолько, что их снимают в кино еще детьми. Они говорят, что так у них вырабатывается намного больше уверенности в себе. Эйлин Джойс[9] говорила об этом на «Би-би-си».
Низкая ложь. Эйлин Джойс не говорила ничего подобного, но я знала, что поскольку она музыкальный идол Фели, одно лишь упоминание ее имени придаст правдоподобие моей выдумке.
– Очень жаль, что тебя не снимали на пленку, когда ты была ребенком, – добавила я. – Может, это помогло бы тебе.
Задумавшаяся Фели смотрела из окна гостиной на декоративное озеро.
Вспоминала ли она тот далекий день, когда ей было семь лет? Я не могла пустить ситуацию на самотек.
– Странно, не так ли, – поднажала я, – что у Харриет не было камеры? Мне казалось, что у человека вроде нее должна быть…
– О, у нее ведь была! – воскликнула Фели. – Еще до твоего рождения. Но когда появилась ты, она ее отложила – по очевидным причинам.
Обычно я бы сказала какую-нибудь грубость, но необходимость, как кто-то заметил, – мать сдержанности.
– По очевидным причинам? – переспросила я, готовая снести любое пренебрежение, лишь бы этот разговор продолжался.
– Не хотела сломать ее.
Я рассмеялась слишком громко, ненавидя себя.
– Готова поспорить, она извела на тебя километры пленки, – заметила я.
– Километры, – подтвердила Фели. – Километры, и километры, и километры.
– Где же она тогда? Никогда ее не видела.
Фели пожала плечами.
– Кто знает? Почему ты вдруг заинтересовалась?
– Из любопытства, – ответила я. – Хотя я тебе верю. Это так похоже на Харриет – истратить всю пленку на других. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь снимал ее саму?
Вряд ли я могла подойти к вопросу более прямо.
– Не помню, – ответила Фели и снова отдалась Бетховену.
Я стояла за ее спиной, заглядывая через плечо в ноты, – вторжение в личное пространство, которое, как я отлично знала, заставляет ее чувствовать себя неловко.
Однако она продолжала игнорировать меня и играть дальше.
– Что такое Tempo rubato? – спросила я, тыкая в карандашную надпись на полях.
– Украденное время[10], – ответила она, не сбиваясь ни на миг.
Украденное время!
Ее слова поразили меня в самое сердце, словно молотком.
Чем я занимаюсь, проявляя пленку, отснятую до моего рождения? Краду время из прошлого других и пытаюсь присвоить его?
По каким-то идиотским причинам мои глаза внезапно наполнились теплой водицей, которая вот-вот грозила пролиться.
Я постояла еще немного за спиной у сестры, купаясь в звуках Патетической сонаты.
Некоторое время спустя я протянула руку и положила ей ладонь на плечо.
Мы обе притворились, что ничего не происходит.
Но обе знали, в чем дело.
Харриет возвращается домой.
5
Теперь, уютно свернувшись на сиденье «роллс-ройса», я вынырнула из воспоминаний. Мы еще не достигли Букшоу. В окна машины было видно, что по обе стороны узкой дороги стоят зрители, выстроившись на поросшей травой обочине и наблюдая за тем, как Харриет возвращается домой. «Так много милых знакомых лиц, – подумала я, – застывших при виде смерти одной из них».
Большинство из них будут помнить эту сцену до конца своей жизни.
Тулли Стокер, его дочь Мэри и Нед Кроппер, помощник трактирщика в «Тринадцати селезнях», сидели на ступеньках перехода и соскочили на землю, когда мы приблизились, и подошли поближе.
Нед согнул шею, пытаясь рассмотреть Фели на заднем сиденье «роллс-ройса», рядом со мной, и тишина окутала нас всех – отца, Даффи, тетушку Фелисити.
Я сидела за Доггером, который вел машину, и ясно видела лицо Фели в зеркале заднего вида. Она смотрела четко вперед.
Никто не говорил.
Сейчас мы проезжали мимо обеих мисс Паддок, Лавинии и Аурелии, владелиц чайной Святого Николая в Бишоп-Лейси. Они обе были облачены в древний бомбазин, который когда-то был черным, а теперь приобрел коричневатый оттенок; обе сжимали в руках одинаковые викторианские вечерние сумочки[11], выглядевшие неуместными на сельской дороге. Я не могла удержаться от мысли, что же в них лежит. Мисс Аурелия подбадривающе нам помахала, но сестра тут же схватила ее за руку и грубо опустила ее вниз.
Дитер стоял чуть в стороне, чуть ли не в канаве, рядом со своим нанимателем, Гордоном Ингльби с фермы «Голубятня». Хотя отец пригласил Дитера присоединиться к нам по этому печальному поводу, он вежливо отказался. Поскольку он бывший немецкий военнопленный, его присутствие может быть воспринято неодобрительно, сказал он, хотя и очень хочет быть рядом с Фели, ему кажется, лучше держаться на почтительном расстоянии – по крайней мере, сейчас.
На эту тему в Букшоу был спор, обильно сопровождавшийся хлопаньем дверями, разговорами на повышенных тонах, красными лицами, а что касается некоей персоны, имя которой мы не будем называть, – были слезы, пинок мусорной корзины, с последующим лежанием на кровати лицом вниз.
Теперь, когда мы медленно проезжали мимо, Фели не одарила Дитера даже взглядом сквозь окно.
Впереди на узкой дороге под солнцем нервирующе посверкивал катафалк Харриет, казалось, он выпадает из этого мира в другой и снова возвращается в этот, и его блестящая краска отражала пробегающие поля, деревья над головой, изгороди и небо.
Небо.
Харриет.
Небеса – это место, где теперь Харриет, по крайней мере, так говорит наш викарий Денвин Ричардсон.
«Думаю, не ошибусь, если скажу тебе, Флавия, что она попивает чай со своими предками в тот самый момент, когда мы с тобой разговариваем», – сказал он мне.
Я знала, что он очень старается утешить меня, но часть меня знала слишком хорошо и по собственному опыту, что предки Харриет – и мои, если подумать, – гниют в обветшалых гробах в крипте Святого Танкреда, и маловероятно, чтобы они попивали чай или что-нибудь еще – разве что просачивающуюся воду из прогнившей церковной канализации.