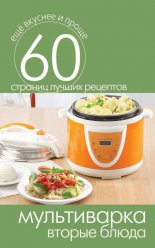Собрание сочинений в одной книге Лондон Джек

Но только три дня дал капитан коку на поправку от нанесенных побоев. На четвертый день его, хромающего и слабого, стащили за шиворот с койки и заставили приступить к своим обязанностям. Глаза у Мэгриджа так распухли, что он почти не видел. Он хныкал и вздыхал, но Вольф Ларсен был неумолим.
– Смотри, не подавай больше помоев, – напутствовал он его. – Чтобы не было больше грязи! И хоть изредка надевай чистую рубашку, а то я тебя выкупаю. Понял?
Томас Мэгридж с трудом двигался по камбузу, и первый же крен «Призрака» заставил его пошатнуться. Стараясь удержать равновесие, он протянул руку к железным перилам, окружавшим плиту и не дававшим кастрюлям соскочить на пол. Но он промахнулся, и его рука тяжело шлепнулась на раскаленную поверхность. Раздалось шипение, потянуло запахом горелого мяса, а кок взвыл от боли.
– Боже мой! Боже мой! Что я наделал! – причитал он, усевшись на угольный ящик и размахивая своей злополучной рукой. – И почему это все на меня валится? Прямо тошно становится. А между тем я ведь стараюсь прожить жизнь, никого не обижая.
Слезы бежали по его дряблым, бледным щекам, и на лице отражалась боль. Но сквозь нее проглядывала затаенная злоба.
– О, как я ненавижу его! Как я ненавижу его! – прошипел он.
– Кого это? – спросил я, но бедняга уже опять начал оплакивать свои несчастья. Впрочем, угадать, кого он ненавидит, было нетрудно; труднее было бы угадать, кого он любит. В этом человеке сидел какой-то бес, заставлявший его ненавидеть весь мир. Иногда мне казалось, что он ненавидит даже самого себя – так нелепо и бессмысленно сложилась его жизнь. В такие минуты у меня пробуждалось горячее сочувствие к нему и мне становилось стыдно, что я мог радоваться его неприятностям и страданиям. Жизнь подло обошлась с ним. Она сыграла с ним скверную шутку, сделала его тем, чем он был, и не переставала издеваться над ним. Как мог он быть иным? И как будто в ответ на мои невысказанные мысли он прохныкал:
– Мне всегда, всегда не везло. Некому было послать меня в школу, некому было наполнить мой голодный желудок или вытереть мой расквашенный нос, когда я был малым мальчонкой! Кто когда-либо заботился обо мне? Кто, спрашиваю я?
– Не огорчайтесь, Томми, – сказал я, успокаивающе кладя руку ему на плечо. – Подбодритесь. Все придет в порядок. У вас еще долгие годы впереди, и вы успеете чего-нибудь достигнуть.
– Это ложь! Гнусная ложь! – заорал он мне в лицо, стряхивая мою руку. – Это ложь, и вы сами это знаете. Я уже достиг всего, чего мог. Такие рассуждения хороши для вас, Горб. Вы родились джентльменом. Вы никогда не знали, что значит быть голодным и засыпать голодным в слезах, когда ваш пустой желудок грызет вас, словно забравшаяся внутрь крыса. Мне уж не выплыть. И если я завтра проснусь президентом Соединенных Штатов, то разве это насытит меня за то время, когда я бегал голодным щенком? И разве может быть иначе? Я родился для страдания. Я перенес их столько, что хватило бы на десятерых. Половину своей злосчастной жизни я провалялся по больницам. Я хворал лихорадкой в Аспинвале, в Гаванне, в Нью-Орлеане. Я чуть не умер от цинги и полгода мучился ею в Барбадосе. Оспа в Гонолулу. Перелом обеих ног в Шанхае. Воспаление легких в Уналаше. Три сломанных ребра во Фриско. А теперь! Взгляните на меня! Взгляните на меня! Мне снова поломали все ребра. И наверное, я буду харкать кровью. Кто же мне возместит все это, спрашиваю я. Кто это сделает? Бог, что ли? Видно, Бог здорово ненавидел меня, если послал гулять по этому проклятому миру.
Это возмущение против судьбы продолжалось больше часа, а потом он снова взялся за работу, хромая, охая и дыша ненавистью против всего живущего. Его диагноз оказался правильным, так как время от времени ему становилось дурно, у него начиналась кровавая рвота, и он очень страдал. И видно, Бог действительно сильно возненавидел его, так как не дал ему умереть. Понемногу Мэгриджу стало лучше, он оправился и с тех пор стал еще злее прежнего.
Прошло несколько дней, прежде чем Джонсон выполз на палубу и кое-как взялся за работу. Он все еще был болен, и я нередко украдкой наблюдал, как он с трудом взбирается по вантам или устало наклоняется над штурвалом. Но хуже всего было то, что он совсем пал духом. Он пресмыкался перед Вольфом Ларсеном и перед штурманом. Но совсем иначе держал себя Лич. Он ходил по палубе с видом молодого тигренка и не скрывал своей ненависти к Вольфу Ларсену и Иогансену.
– Я еще разделаюсь с тобой, косолапый швед, – услыхал я как-то ночью на палубе его слова, обращенные к Иогансену.
Штурман послал ему ругательство в темноту, и в следующий миг что-то с силой ударилось о стенку камбуза. Новая ругань, насмешливый хохот, и, когда все стихло, я, выйдя на палубу, нашел тяжелый нож, на дюйм вонзившийся в плотную переборку. Через несколько минут к этому месту приблизился штурман, ощупью искавший нож, но я тайком вернул его Личу на следующее утро. Он только осклабился при этом, но в его улыбке было больше искренней благодарности, чем в многословных речах, свойственных представителям моего класса.
В противоположность остальным обитателям корабля, я ни с кем не был в ссоре и со всеми отлично ладил. Охотники относились ко мне равнодушно, во всяком случае, невраждебно. Поправлявшиеся Смок и Гендерсон, качаясь весь день в своих гамаках под тентом, уверяли меня, что я лучше всякой больничной сиделки ухаживаю за ними и что они не забудут меня, когда в конце плавания получат свои деньги. (Как будто мне нужны были их деньги! Я мог купить их со всеми их пожитками, мог купить всю шхуну, даже двадцать таких шхун!) Но мне выпала задача ухаживать за их ранами и лечить их, и я делал все, что мог.
У Вольфа Ларсена снова был припадок головной боли, продолжавшийся два дня. Должно быть, он жестоко страдал, так как позвал меня и подчинялся моим указаниям, как больной ребенок. Но ничто не помогало ему. По моему совету он бросил курить и пить. Я не понимал, как это великолепное животное могло страдать такими головными болями.
– Это божья кара, уверяю вас, – высказался по этому поводу Луи. – Кара за его черные дела. И это еще не все, а то…
– А то что? – торопил его я.
– А то я скажу, что Бог клюет носом и не исполняет своего дела. Только помните, я ничего не сказал.
Я ошибался, говоря, что я в хороших отношениях со всеми. Томас Мэгридж не только по-прежнему ненавидит меня, но и нашел для своей ненависти новый повод. Я долго не знал, в чем дело, но наконец догадался: он не мог простить мне, что я родился в более счастливых условиях, родился «джентльменом», как он говорил.
– А покойников-то все еще нет, – поддразнивал я Луи, когда Смок и Гендерсон, дружески беседуя и держа друг друга под руку, в первый раз прогуливались по палубе.
Луи хитро поглядел на меня своими серыми глазками и зловеще покачал головой.
– Шквал налетит, говорю вам, и тогда берите все рифы и держитесь обеими руками. Я предчувствую это уже давно, шторм близок, и я ощущаю его так же ясно, как оснастку над своей головой в темную ночь. Шторм близок, близок!
– Кто же будет первым? – спросил я.
– Только не старый толстый Луи, обещаю вам, – рассмеялся он. – Я знаю, что через год в это время я буду глядеть в глаза моей старой матушке, уставшей ждать своих пятерых сыновей, которых она отдала морю.
– Что он говорил вам? – осведомился минутой позже Томас Мэгридж.
– Что он когда-нибудь съездит домой повидаться с матерью, – дипломатично ответил я.
– У меня никогда не было матери, – заявил кок, уставившись на меня своими унылыми, бесцветными глазами.
Глава XIV
Мне пришло в голову, что я никогда должным образом не ценил женское общество. Должен сказать, что хотя я вообще и не влюбчив, тем не менее до сих пор проводил много времени среди женщин. Я жил с матерью и сестрами и всегда мечтал о том, чтобы расстаться с ними. Они докучали мне своими заботами о моем здоровье и своими вторжениями в мою комнату, где переворачивали кверху дном тот хаос, которым я гордился, и учиняли, с моей точки зрения, еще больший беспорядок, хотя комната и приобретала более приветливый вид. После их ухода я никогда не мог найти нужных мне вещей. Но как я был бы рад теперь ощутить возле себя их присутствие и шелест их юбок, который так искренно ненавидел! Я уверен, что, если мне удастся попасть домой, никогда больше не буду ссориться с ними. Пусть они с утра до ночи пичкают меня чем хотят, пусть они весь день вытирают пыль в моем кабинете и подметают его, – я буду спокойно смотреть на все это и благодарить судьбу за то, что у меня есть мать и столько сестер.
Все это заставило меня теперь задуматься. Где матери всех этих людей, плавающих на «Призраке»? Мне представляется неестественным, что эти люди совершенно оторваны от женщин и одни скитаются по свету. Грубость и дикость – неизбежные результаты этого. Окружающим меня людям следовало бы иметь жен, сестер, дочерей. Тогда они были бы мягче, человечнее и были бы способны на сочувствие. А ведь никто из них не женат. Годами никто из них не испытывал на себе влияния хорошей женщины. В их жизни нет равновесия. Их мужественность, которая сама по себе есть нечто животное, чрезмерно развилась в них за счет духовной стороны природы, сократившейся и почти атрофированной.
Это компания холостяков, постоянно грубо сталкивающихся между собой и черствеющих от этих столкновений. Иногда мне даже начинает казаться, что у них и вовсе не было матерей. Может быть, они какой-нибудь полузвериной, получеловеческой породы, особый вид живых существ, не имеющих пола; может быть, они вывелись, как черепахи, из согретых солнцем яиц, или получили жизнь каким-нибудь другим, необычным способом. Свои дни они проводят в грубых драках и в конце концов умирают так же скверно, как жили.
Это новое направление мыслей побудило меня заговорить вчера вечером с Иогансеном. Это была первая частная беседа, которой он удостоил меня с начала путешествия. Он покинул Швецию, когда ему было восемнадцать лет, теперь же ему тридцать восемь, и за все это время он ни разу не был дома. Года два назад он встретил в Чили земляка и от него узнал, что его мать все еще жива.
– Теперь она, вероятно, уже порядком стара, – сказал он, задумчиво глядя на компас, и затем метнул колючий взор на Гаррисона, отклонившегося на один румб от курса.
– Когда вы в последний раз писали ей? Он принялся высчитывать вслух.
– В восемьдесят первом… нет, в восемьдесят втором, кажется. Или в восемьдесят третьем? Да, в восемьдесят третьем. Десять лет тому назад. Писал из какого-то маленького порта на Мадагаскаре. Я служил тогда на торговом судне. Видите ли, – продолжал он, как будто обращаясь через океан к своей забытой матери, – каждый год я собирался домой. Так стоило ли писать? Год – это ведь только год. Но каждый год что-нибудь мешало мне поехать. Теперь же я стал штурманом, и дело изменилось. Когда я получу расчет во Фриско и соберу около пятисот долларов, я наймусь на какую-нибудь шхуну, идущую вокруг мыса Горна в Ливерпуль, и по дороге зашибу еще денег. Это окупит мне проезд оттуда домой. Тогда моей старушке не придется больше работать.
– Но неужели она еще работает? Сколько же ей лет?
– Под семьдесят, – ответил он. Затем с гордостью добавил: – У нас на родине работают со дня рождения и до самой смерти, поэтому мы и живем так долго. Я дотяну до ста.
Никогда не забуду я этого разговора. Это были последние слова, которые я от него слышал, и, может быть, последние, вообще произнесенные им.
Спустившись в каюту, чтобы улечься, я решил, что там душно спать. Ночь была тихая. Мы вышли из полосы пассатов, и «Призрак» еле полз вперед, со скоростью не больше одного узла. Захватив под мышку одеяло и подушку, я поднялся на палубу.
Проходя между Гаррисоном и компасом, вделанным в крышу каюты, я заметил, что на этот раз рулевой отклонился на целых три румба. Думая, что он заснул, и желая спасти его от наказания, я заговорил с ним. Но он не спал, глаза его были широко раскрыты. У него был настолько растерянный вид, что он не мог даже ответить мне.
– В чем дело? – спросил я. – Вы больны? Он покачал головой и глубоко вздохнул, как будто очнувшись от глубокого сна.
– Так вы бы держали курс получше, – посоветовал я.
Он повернул штурвал, и стрелка компаса, медленно повернувшись, установилась после нескольких колебаний на NNW.
Я снова поднял свои вещи и приготовился уйти, как вдруг что-то необычное за кормой привлекло мой взгляд. Чья-то жилистая мокрая рука ухватилась за перила. Потом другая появилась из темноты рядом с ней. С изумлением смотрел я на это. Что это за гость из морской глубины? Кто бы он ни был, я знал, что он взбирается на борт по лаглиню. Обрисовалась голова с мокрыми и взъерошенными волосами, и передо мной появилось лицо Вольфа Ларсена. Его правая щека была в крови, струившейся из раны на голове.
Энергичным усилием он втянул себя на борт и, очутившись на палубе, быстро огляделся, не видит ли его рулевой и не угрожает ли ему со стороны последнего опасность. Вода ручьями стекала с него, и я невольно прислушивался к ее журчанию. Когда он двинулся ко мне, я невольно отступил, так как прочел смерть в его глазах.
– Постойте, Горб, – тихо сказал он. – Где штурман? Я покачал головой.
– Иогансен! – осторожно позвал он. – Иогансен!
– Где он? – осведомился он у Гаррисона.
Молодой матрос успел уже прийти в себя и довольно спокойно ответил:
– Не знаю, сэр. Недавно он прошел по палубе вперед.
– Я тоже шел вперед, но вы, очевидно, заметили, что вернулся я с обратной стороны. Вы можете объяснить это?
– Вы, наверное, были за бортом, сэр.
– Поискать его на кубрике, сэр? – предложил я.
Вольф Ларсен покачал головой.
– Вы не найдете его, Горб. Но вы мне нужны. Пойдем. Оставьте ваши вещи здесь.
Я последовал за ним. На шканцах было все тихо.
– Проклятые охотники, – проворчал он. – Так разленились, что не могут выстоять четыре часа на вахте.
Но на носу мы нашли трех спавших матросов. Капитан перевернул их и заглянул им в лицо. Они составляли вахту на палубе и, по корабельным обычаям, в хорошую погоду имели право спать, за исключением начальника, рулевого и дозорного.
– Кто дозорный? – спросил капитан.
– Я, сэр, – с легкой дрожью в голосе ответил Холиок, один из моряков. – Я только на минуту задремал, сэр. Простите, сэр. Больше этого не будет.
– Вы ничего не заметили на палубе?
– Нет, сэр, я…
Но Вольф Ларсен уже отвернулся, сердито буркнув что-то и оставив матроса протирать глаза от изумления, что он так дешево отделался.
– Теперь тише, – шепотом предупредил меня Вольф Ларсен, протискиваясь через люк, чтобы спуститься на бак.
Я с бьющимся сердцем последовал за ним. Я не знал, что нас ожидает, как не знал и того, что уже произошло. Но я знал, что была пролита кровь и что не по своей воле Вольф Ларсен очутился за бортом. Знаменательно было и отсутствие Иогансена.
Я впервые спускался на бак и нескоро забуду то зрелище, которое представилось мне, когда я остановился у подножия лестницы. Бак занимал треугольное помещение на самом носу шхуны, и вдоль трех его стен в два яруса тянулись койки. Их было всего двенадцать. Моя спальня дома была невелика, но все же она могла вместить двенадцать таких баков, а если принять во внимание высоту потолка, то и все двадцать. В этом помещении ютилось двенадцать человек, которые здесь и спали, и ели.
Тут пахло плесенью и чем-то кислым, и при свете качавшейся лампы я разглядел стены, сплошь увешанные морскими сапогами, дождевыми плащами и всевозможным тряпьем, грязным и чистым. Все эти предметы раскачивались взад и вперед с шуршащим звуком, напоминавшим шелест деревьев. Какой-то сапог глухо ударял через равные промежутки об стену. И хотя погода была тихая, балки и доски скрипели неумолчным хором и какие-то странные звуки неслись из бездны под полом.
Спящих все это нисколько не смущало. Их было восемь человек – две свободные от вахты смены, и спертый воздух был согрет их дыханием; слышались храп, вздохи, невнятное бормотанье – звуки, неизменно сопутствующие отдыху этих полулюдей, полузверей. Но действительно ли все они спали? И давно ли спали? Вот что, по-видимому, интересовало Вольфа Ларсена. Для решения этого вопроса он воспользовался приемом, напомнившим мне один из рассказов Боккаччо.
Он вынул лампу из ее качающейся оправы и подал мне. Свой обход он начал с первой койки от носа по штирборту. Наверху лежал канак Уфти-Уфти, великолепный матрос. Он спал лежа на спине и дышал тихо, как женщина. Одну руку он заложил под голову, другая лежала поверх одеяла. Вольф Ларсен двумя пальцами взял его за пульс и начал считать. Это разбудило канака. Он проснулся так же спокойно, как спал, и даже не пошевельнулся при этом. Он только широко открыл свои огромные черные глаза и, не мигая, уставился на нас. Вольф Ларсен приложил палец к губам, требуя молчания, и глаза снова закрылись.
На нижней койке лежал Луи, толстый и распаренный. Он спал непритворным и тяжелым сном. Когда Вольф Ларсен взял его за пульс, он беспокойно заерзал и на миг вывернулся так, что его тело опиралось только на плечи и пятки. Губы его зашевелились, и он изрек следующую загадочную фразу:
– Кварта стоит шиллинг. Но гляди в оба за своими трехпенсовиками, а то трактирщик мигом вклеит тебе лишних шесть.
Потом он повернулся на бок и с тяжелым вздохом произнес:
– Шесть пенсов – это «теннер», а шиллинг – «боб». Но что такое «пони», я не знаю[2].
Удостоверившись в непритворности сна Луи и канака, Вольф Ларсен перешел к следующим двум койкам штирборта, занятым Личем и Джонсоном.
Когда капитан нагнулся к нижней койке, чтобы взять Джонсона за пульс, я, стоя с лампой в руках, увидел, как над бортом верхней койки осторожно показалась голова Лича, который хотел посмотреть, что происходит. Должно быть, он разгадал хитрость Вольфа Ларсена и понял неизбежность своего разоблачения, так как лампа вдруг исчезла из моих рук и бак погрузился в темноту. В тот же миг он спрыгнул прямо на Вольфа Ларсена.
Первые секунды столкновения напоминали борьбу между быком и волком. Я слышал громкий взбешенный рев Вольфа Ларсена и неистовое кровожадное рычание Лича. Джонсон немедленно вмешался в драку. Его униженное поведение за последние дни было только хорошо обдуманным обманом.
Это ночное сражение поразило меня таким ужасом, что я, весь дрожа, прислонился к лестнице и не мог подняться по ней. Меня снова охватила знакомая боль под ложечкой, всегда вызываемая во мне зрелищем физического насилия. В этот миг я ничего не видел, но до меня долетал звук ударов, глухой стук тела, ударяющегося о тело. Кругом шел треск, слышались учащенное дыхание и возгласы внезапной боли.
Должно быть, в заговоре на убийство капитана и штурмана участвовало несколько человек, так как по звукам я догадался, что Лич и Джонсон быстро получили подкрепление со стороны своих товарищей.
– Дайте мне нож, кто-нибудь! – кричал Лич.
– Двинь его по башке! Вышиби из него мозги! – вопил Джонсон.
Но Вольф Ларсен после своего первого рева не издал больше ни звука. Он молча и свирепо боролся за свою жизнь. Ему приходилось туго. Сразу же сбитый с ног, он не мог подняться, и я понимал, что, несмотря на чудовищную силу, положение было бы для него безнадежно. О ярости их борьбы я получил весьма наглядное представление, так как был сбит с ног их сцепившимися телами и при этом больно ушибся. Однако посреди суматохи мне удалось заползти в одну из нижних коек и таким образом убраться с дороги.
– Все сюда! Мы его держим! Попался! – слышал я выкрики Лича.
– Кто? – спрашивали проснувшиеся, не понимая, что происходит.
– Кровопийца штурман! – хитро ответил Лич, с трудом произнося слова.
Его сообщение было встречено возгласами радости, и с этой минуты Вольфу Ларсену пришлось отбиваться от семерых дюжих матросов, наседавших на него. Луи, я полагаю, не принимал участия в борьбе. Бак гудел, как улей, потревоженный вором.
– Эй, вы, что там у вас внизу? – крикнул через люк Лэтимер, слишком осторожный, чтобы спуститься в этот ад кипевших во мраке страстей.
– Неужели ни у кого нет ножа? Дайте мне нож! – умолял Лич в минуту временного затишья.
Многочисленность нападавших повредила им. Они мешали друг другу, а Вольф Ларсен, имевший перед собою лишь одну цель, в конце концов достиг ее. Цель его была – пробраться по полу к лестнице. Несмотря на полный мрак, я по звукам следил за его передвижением. Только такой силач мог сделать то, что сделал он, когда добрался до лестницы. Шаг за шагом, перебирая по ступенькам руками, он поднял свое тело от пола и встал во весь рост, преодолевая усилия тащивших его вниз людей. Потом он с героическими усилиями начал взбираться по лестнице. Конец этой сцены я не только слышал, но и видел, так как Лэтимер принес наконец фонарь и опустил его над люком. Вольф Ларсен, кажется, уже почти добрался до верха, его закрывали от меня облепившие его матросы. Эта кишевшая масса напоминала огромного, многоногого паука и раскачивалась взад и вперед в такт ровной качке шхуны. Мало-помалу, шаг за шагом, с большими остановками вся эта масса ползла кверху. Раз она дрогнула и чуть не упала вниз, но равновесие восстановилось, и движение кверху началось снова.
– Кто это? – крикнул Лэтимер.
При свете фонаря я увидел его склоненное над люком изумленное лицо.
– Я, Ларсен, – донесся из середины кучи приглушенный голос.
Лэтимер протянул вниз свободную руку. Снизу протянулась рука и ухватилась за нее. Лэтимер потянул, и следующие две ступеньки были пройдены быстро. Тогда показалась другая рука Ларсена и ухватилась за край люка. Качавшаяся внизу масса отделилась от лестницы, но матросы все еще цеплялись за своего ускользавшего врага. Постепенно они начали отваливаться, по мере того как Ларсен сметал их, ударяя об острый край трапа, и отбивал их ногами. Последним был Лич, свалившийся с самого верха лестницы на распростертых внизу матросов. Вольф Ларсен и фонарь исчезли, и мы остались в темноте.
Глава XV
Со стонами и ругательствами матросы стали подниматься на ноги.
– Зажгите спичку, я вывихнул себе большой палец, – сказал один из матросов, Парсонс, смуглый и мрачный человек, служивший рулевым в лодке Стэндиша, в которой Гаррисон был гребцом.
– Пощупай на бимсах, они там, – сказал Лич, присаживаясь на край койки, где я притаился.
Послышались шорох и чирканье спичек, потом тускло вспыхнула коптящая лампа, и при ее мрачном свете босоногие матросы принялись рассматривать свои ушибы и раны. Уфти-Уфти захватил палец Парсонса, сильно дернул его и вправил на место. В то же время я заметил, что у самого канака пальцы разодраны до кости. Он показывал их, скаля свои великолепные белые зубы и объясняя, что получил эти раны, когда ударил Вольфа Ларсена в зубы.
– Так это ты, черное пугало? – воинственно обратился к нему Келли, бывший грузчик, первый раз выходивший в море и состоявший гребцом при Керфуте.
При этих словах он выплюнул изо рта несколько зубов и приблизил к Уфти-Уфти свое разъяренное лицо. Канак отпрыгнул к своей койке и вернулся, размахивая длинным ножом.
– А, брось! Надоели вы мне! – вмешался Лич.
Очевидно, несмотря на свою молодость и неопытность, он был коноводом на баке.
– Ступай прочь, Келли, оставь Уфти в покое. Как мог он узнать тебя в темноте, черт возьми!
Келли нехотя повиновался, а канак благодарно сверкнул своими белыми зубами. Он был красив. Линии его фигуры были женственны, а в больших глазах таилась мечтательность, казалось бы противоречащая его вполне заслуженной репутации драчуна и забияки.
– Как ему удалось уйти? – спросил Джонсон.
Он сидел на краю своей койки, и вся его фигура выражала крайнее разочарование и уныние. Он все еще тяжело дышал от сделанных усилий. Во время борьбы с него сорвали рубашку; кровь из раны на щеке текла на обнаженную грудь и красной струйкой сбегала по ноге на пол.
– Удалось, потому что он дьявол. Говорил ведь я вам, – ответил Лич; он вскочил, и слезы отчаяния стояли у него в глазах. – И ни у кого из вас вовремя не оказалось ножа! – жаловался он.
Но в остальных проснулся страх ожидавшихся последствий, и они не слушали его.
– Как он может узнать, кто с ним дрался? – спросил Келли и, свирепо оглянувшись кругом, добавил: – Если никто из нас не донесет.
– Для этого ему стоит только взглянуть на нас, – ответил Парсонс. – Одного взгляда на тебя будет достаточно.
– Скажи ему, что палуба поднялась и дала тебе по зубам, – усмехнулся Луи.
Он был единственный не слезавший с койки и торжествовал, что на нем нет следов ранений, которые свидетельствовали бы о его участии в ночном побоище.
– Ужо будет вам завтра, когда он увидит ваши рожи, – захлебывался он.
– Мы скажем, что приняли его за штурмана, – сказал кто-то. А другой добавил: – Ну а я скажу, что услышал шум, соскочил с койки и сразу же получил по морде за свое беспокойство. Но понятно, я не остался в долгу, а кто и что – не знаю, темно было.
– А попал-то ты в меня, конечно, – закончил за него Келли, просияв на миг.
Лич и Джонсон не принимали участия в этом разговоре, и было ясно, что товарищи смотрят на них как на людей обреченных, у которых больше нет надежды. Лич некоторое время терпеливо слушал их, но потом взорвался.
– Надоели вы мне! Растяпы! Если бы вы поменьше мололи языком да больше работали руками, ему был бы уже конец. Почему ни один из вас не подал мне ножа, когда я кричал? Черт бы вас взял! И чего вы нюни разводите, как будто он вас может убить? Вы ведь сами отлично знаете, что он этого не сделает. Он не может себе это позволить. Здесь нет корабельных агентов, и ему некем заменить вас. Вы нужны ему для дела. Кто без вас стал бы грести и править на лодках и обслуживать шхуну? Вот меня и Джонсона ждет музыка. Ступайте по койкам и заткнитесь. Я хочу поспать.
– Что верно, то верно, – отозвался Парсонс. – Пожалуй, убить-то он нас не убьет, но, помяните мое слово, жарко нам придется. Ад покажется нам холодным местом после этой шхуны.
Все это время я с тревогой думал о том, что будет, когда они заметят меня. Я не сумел бы пробиться наверх, как Вольф Ларсен. В этот миг Лэтимер крикнул через люк:
– Горб, капитан зовет вас!
– Его здесь нет! – отозвался Парсонс.
– Нет, я здесь! – крикнул я, появляясь на свет и стараясь придать своему голосу твердость.
Матросы глядели на меня в замешательстве. На их лицах отражался страх и злоба, им порождаемая.
– Иду! – крикнул я Лэтимеру.
– Нет, врешь! – крикнул Келли, становясь между мной и лестницей и протягивая руку к моему горлу. – Ах ты, подлая гадина! Я тебе заткну глотку!
– Пусти его, – приказал Лич.
– Ни за что на свете, – последовал сердитый ответ.
Лич, сидевший на краю койки, даже не пошевельнулся.
– Пусти его, говорю я, – повторил он, и на этот раз в его голосе зазвенел металл.
Ирландец колебался: я шагнул к нему, и он отступил в сторону. Достигнув лестницы, я повернулся и обвел глазами круг зверских и озлобленных лиц, глядевших на меня из полумрака. Внезапное и глубокое сочувствие проснулось во мне. Я вспомнил слова кока. Как Бог, должно быть, ненавидит их, если подвергает их таким мукам!
– Поверьте мне, я ничего не видел и не слышал, – спокойно произнес я.
– Говорю вам, что он не выдаст, – услышал я за собой слова Лича. – Он любит капитана не больше, чем мы с вами.
Я нашел Вольфа Ларсена в его каюте. Исцарапанный, весь в крови, он ждал меня и приветствовал своей иронической усмешкой:
– Ну, приступайте к работе, доктор! По-видимому, в этом плавании вам предстоит обширная практика. Не знаю, как «Призрак» обошелся бы без вас. И если бы я был способен на высокие чувства, то я бы сказал, что его хозяин глубоко признателен вам.
Я уже был хорошо знаком с устройством простой судовой аптечки «Призрака», и, пока я кипятил на печке воду и приготовлял все нужное для перевязки, капитан, смеясь и болтая, расхаживал по каюте и хладнокровно рассматривал свои раны. Я никогда не видал его обнаженным и был поражен. Физическая красота никогда не приводила меня в экстаз, но я был слишком художником, чтобы не оценить это чудо.
Должен признаться, что я был очарован совершенством линий фигуры Вольфа Ларсена и его жуткой красотой. Я видел людей на баке. Многие из них обладали могучими мускулами, но у всех имелся какой-нибудь недостаток: слишком сильное или слабое развитие какой-нибудь части тела, нарушавшее симметрию, искривление, чересчур длинные или очень короткие ноги, излишняя жилистость или костлявость. Только у Уфти-Уфти была хорошая фигура, да и то слишком женственная.
Но Вольф Ларсен был идеальным типом мужчины, достигшим почти божественного совершенства. Когда он ходил или поднимал руки, огромные мускулы вздувались и двигались под его атласной кожей. Я забыл сказать, что его бронзовый загар спускался только до шеи. Его тело благодаря скандинавскому происхождению было белым, как у женщины. Я помню, как он поднял руку, чтобы ощупать рану на голове, и мышцы, как живые, заходили под своим белым покровом. Это были те же мышцы, которые недавно чуть не лишили меня жизни и которые на моих глазах наносили столько страшных ударов. Я не мог оторвать от него глаз, стоял и смотрел, а антисептический бинт выпал у меня из рук и, разматываясь, покатился по полу.
Капитан заметил, что я смотрю на него.
– Бог дал вам красивое сложение, – сказал я.
– Вы находите? – отозвался он. – Я сам часто об этом думал и недоумевал, к чему это.
– Высшая цель… – начал я.
– Польза! – прервал он меня. – Все в этом теле приспособлено для пользы. Эти мускулы созданы для того, чтобы хватать и рвать, уничтожать то живое, что станет между мною и жизнью. Но подумали ли вы о других живых существах? У них тоже как-никак есть мускулы, также предназначенные для того, чтобы хватать, рвать и уничтожать. И когда они становятся между мною и жизнью, я хватаю их, рву на части, уничтожаю. Этого нельзя объяснить высшей целью, а пользой – можно.
– Это некрасиво, – протестовал я.
– Вы хотите сказать, что жизнь некрасива, – улыбнулся он. – Но вы говорите, что я сложен хорошо. Видите вы это?
Он широко расставил ноги, как будто прирос к полу каюты. Узлы, хребты и возвышения его мускулов задвигались под кожей.
– Пощупайте! – приказал он.
Они были тверды, как железо, и я заметил, что все его тело как-то подобралось и напряглось. Мускулы волнисто круглились на бедрах, вдоль спины и между плеч. Руки слегка приподнялись, их мышцы сократились, пальцы скривились, как когти. Даже глаза изменили свое выражение, в них появилась настороженность, расчет и боевой огонек.
– Устойчивость, равновесие, – сказал он, на миг принимая более спокойную позу. – Ноги для того, чтобы упираться в землю, а руки, зубы и ногти для того, чтобы бороться и убивать, стараясь не быть убитым. Цель? Польза – более точное слово.
Я не спорил. Передо мной был механизм первобытного зверя, и это произвело на меня такое же сильное впечатление, как если бы я видел машины огромного броненосца или огромного трансатлантического парохода.
Помня жестокую схватку на баке, я был поражен незначительностью повреждений, полученных Вольфом Ларсеном. Могу похвалиться, что неплохо перевязал их. Кроме немногих более серьезных ран, остальные оказались простыми царапинами. Удар, полученный им перед тем, как он упал за борт, разорвал ему на несколько сантиметров кожные покровы головы. Эту рану я промыл по его указаниям и зашил, предварительно обрив ее края. Кроме того, одна нога его была сильно разодрана, словно ее искусал бульдог. Он объяснил мне, что один из матросов вцепился в нее зубами в начале схватки, и он так и втащил его до верхушки лестницы. Лишь там матрос выпустил ногу.
– Кстати, Горб, я заметил, что вы толковый малый, – заговорил Вольф Ларсен, когда я закончил свою работу. – Как вы знаете, я остался без штурмана. Отныне вы будете стоять на вахте, получать семьдесят пять долларов в месяц и всем будет приказано называть вас «мистер ван Вейден».
– Вы ведь знаете, я… я… и понятия не имею о навигации, – испугался я.
– Этого и не требуется.
– Право, я не стремлюсь к высоким постам, – протестовал я. – Жизнь и так нелегко дается мне в моем теперешнем скромном положении. У меня нет опыта. Как вы видите, посредственность тоже имеет свои преимущества.
Он улыбнулся так, как будто мы с ним отлично поладили.
– Я не хочу быть штурманом на этом дьявольском корабле! – с негодованием вскричал я.
Его лицо сразу стало жестоким, и в глазах появился безжалостный блеск. Он подошел к двери каюты и сказал:
– А теперь, мистер ван Вейден, доброй ночи!
– Доброй ночи, мистер Ларсен, – чуть слышно ответил я.
Глава XVI
Не могу сказать, чтобы положение штурмана доставляло мне много удовольствия, если не считать того, что я был избавлен от мытья посуды. Я не знал самых простых штурманских обязанностей, и мне пришлось бы плохо, если бы матросы не сочувствовали мне. Я не умел обращаться со снастями и ничего не смыслил в работе с парусами. Но матросы старались учить меня – особенно хорошим наставником оказался Луи, – и у меня не было неприятностей с моими подчиненными.
Другое дело – охотники. Все они более или менее были знакомы с морем и смотрели на мое штурманство как на шутку. Действительно, это было смешно, что я, сухопутная крыса, исполнял обязанности штурмана, хотя быть предметом насмешек мне совсем не хотелось. Я не жаловался, но Вольф Ларсен сам требовал в отношении меня самого строгого соблюдения этикета, какого никогда не удостаивался бедный Иогансен.
Ценою неоднократных стычек, угроз и воркотни он привел охотников к повиновению. От носа до кормы меня титуловали «мистер ван Вейден», и только в неофициальных случаях Вольф Ларсен называл меня Горбом.
Это было забавно. Иногда во время обеда ветер крепчал на несколько баллов, и, когда я вставал из-за стола, капитан говорил мне: «Мистер ван Вейден, будьте добры поворотить оверштаг на левый галс». Я выходил на палубу, подзывал Луи и осведомлялся у него, что нужно сделать. Через несколько минут, усвоив его указания и вполне овладев маневром, я начинал распоряжаться. Помню случай в самом начале, когда Вольф Ларсен появился на сцене, как раз когда я начал командовать. Он покуривал сигару и спокойно смотрел, пока все не было исполнено. Потом остановился около меня на юте.
– Горб, – сказал он, – впрочем, простите, мистер ван Вейден. Я поздравляю вас. Мне кажется, что теперь вы можете отправить отцовские ноги обратно в могилу. Вы нашли свои собственные и уже научились стоять на них. Немного упражнения со снастями и парусами, немного опыта с бурями, и к концу плавания вы сумеете командовать любой каботажной шхуной.
Этот период между смертью Иогансена и прибытием к месту промыслов был для меня самым приятным временем на «Призраке». Вольф Ларсен был не слишком строг, матросы помогали мне, и у меня больше не было столкновений с Томасом Мэгриджем. Должен признать, что, по мере того как проходили дни, я начал испытывать некоторую тайную гордость. Как ни фантастично было мое положение – сухопутного жителя, очутившегося вторым по рангу на корабле, – я справлялся с делом хорошо. Я гордился собой и полюбил плавное покачивание под ногами палубы «Призрака», направлявшегося по тропическому морю на северо-запад, к тому острову, где мы должны были пополнить запас пресной воды.
Но мое счастье было непрочно. Это было лишь время сравнительного благополучия между большими несчастьями в прошлом и такими же в будущем, ибо «Призрак» был и оставался ужасным сатанинским кораблем. На нем не было ни минуты покоя. Вольф Ларсен припоминал матросам покушение на его жизнь и трепку, которую они задали ему на баке. Утром, днем и даже ночью он старался всячески донимать их.
Он хорошо понимал психологическое значение мелочей и умел мелочами доводить свой экипаж до бешенства. При мне он, вызвав Гаррисона, приказал ему убрать с койки положенную не на место малярную кисть и разбудил двух подвахтенных только для того, чтобы они пошли за Гаррисоном и проверили, исполнил ли он приказание. Это, конечно, пустяк, но его изобретательный ум придумывал их тысячи, и можно себе представить, какое настроение это вызывало на баке.
Ропот продолжался, и отдельные вспышки повторялись неоднократно. Сыпались удары, и двое или трое матросов постоянно возились с повреждениями, нанесенными им их хозяином-зверем. Общее выступление было невозможно ввиду большого запаса оружия на кубрике и в кают-компании. От дьявольского темперамента Вольфа Ларсена особенно страдали Лич и Джонсон, и глубокая грусть в глазах последнего заставляла сжиматься мое сердце.
Лич относился к своему положению иначе. В нем самом было много зверя. Он весь горел неукротимой яростью, не оставлявшей места для горя. На его губах застыла злобная усмешка, и при виде Вольфа Ларсена с них срывалось угрожающее рычание. Он следил глазами за Вольфом Ларсеном, как зверь за своим сторожем, и злоба клокотала в его горле.
Помню, как однажды в ясный день я дотронулся на палубе до его плеча, желая отдать ему какое-то приказание. Он стоял ко мне спиной и при первом же прикосновении моей руки отскочил от меня с диким криком. Он на миг принял меня за ненавистного капитана.
Он и Джонсон убили бы Вольфа Ларсена при первой же возможности, но только такая возможность все не представлялась. Вольф Ларсен был слишком хитер, а кроме того, у них не было подходящего оружия. Одними кулаками они ничего не могли достигнуть. Время от времени капитан показывал свою силу Личу, который всегда давал сдачи и кидался на него, как дикая кошка, пуская в ход и зубы, и ногти, но в конце концов падал на палубу без сил и часто даже без сознания. И все же он никогда не отказывался от новой схватки. Дьявол в нем бросал вызов дьяволу, сидевшему в Вольфе Ларсене. Стоило им обоим одновременно появиться на палубе, как начинались проклятия, рычания, драка. Один раз я видел, что Лич кинулся на Вольфа Ларсена без всякого предупреждения или видимого повода. Однажды он швырнул в капитана свой тяжелый кинжал, пролетевший всего в дюйме от его горла. Другой раз он бросил в него с реи стальной драек. Сложно было попасть в цель при качке, но острие инструмента, просвистав по воздуху с высоты семидесяти футов, мелькнуло мимо самой головы Вольфа Ларсена, когда тот показался из люка, и вонзилось за целых пять сантиметров в твердую палубную обшивку. Потом он пробрался на кубрик, завладел заряженным дробовиком и собирался выскочить с ним на палубу, когда его перехватил и обезоружил Керфут.
Я часто задавал себе вопрос, почему Вольф Ларсен не убьет его и не положит всему этому конец. Но он только смеялся и, казалось, наслаждался опасностью. В этой игре была для него какая-то прелесть, подобная тому удовольствию, которое доставляет укротителям диких зверей их работа.
– Жизнь приобретает остроту, – объяснял он мне, – когда ее держит в своих руках другой. Человек по природе игрок, а жизнь – самая крупная его ставка. Чем больше риск, тем острее ощущение. Зачем я стал бы отказывать себе в удовольствии взвинчивать Лича до последних пределов? Этим я ему же оказываю услугу. Мы оба переживаем сильнейшие ощущения. Его жизнь богаче, чем у любого другого матроса на баке, хотя он и не сознает этого. Он имеет то, чего нет у них, – цель, поглощающую его всего: желание убить меня и надежду, что это ему удастся. Право, Горб, он живет богатой и высокой жизнью. Я сомневаюсь, чтобы он когда-либо жил такой полной и острой жизнью, и иногда искренно завидую ему, когда вижу его на вершине страсти и исступления.
– Но ведь это трусость! трусость! – воскликнул я. – Все преимущества на вашей стороне.
– Кто из нас двоих, вы или я, больший трус? – серьезным тоном спросил он. – Попадая в неприятное положение, вы вступаете в компромисс с вашей совестью. Если бы вы действительно были на высоте и оставались верны себе, вы должны были бы взять сторону Лича и Джонсона. Но вы боитесь, боитесь! Вы хотите жить. Жизнь в вас кричит, что она хочет жить, чего бы это ни стоило. Вы влачите презренную жизнь, изменяете вашим идеалам, грешите против своей морали и, если есть ад, прямым путем ведете туда свою душу. Ба! Я выбрал себе более достойную роль. Я не грешу, так как остаюсь верен велениям жизни во мне. Я искренен, по крайней мере, со своей совестью, чего вы не можете сказать о себе.
В том, что он говорил, была своя правда. Быть может, я в самом деле праздновал труса. Чем больше я размышлял об этом, тем яснее сознавал, что должен поступить так, как он подсказывал мне, то есть примкнуть к Джонсону и Личу и вместе с ними постараться убить его. В этом, мне кажется, сказалось наследие моих суровых предков пуритан, оправдывавших даже убийство, если оно делается для благой цели. Я не мог отделаться от этих мыслей. Освободить мир от такого чудовища казалось мне актом высшей морали. Человечество станет от этого только счастливее, а жизнь – лучше и приятнее.
Я раздумывал об этом, ворочаясь на своей койке в долгие бессонные ночи, и перебирал в уме все факты. Во время ночных вахт, когда Вольф Ларсен был внизу, я беседовал с Джонсоном и Личем. Оба они потеряли всякую надежду: Джонсон из-за мрачного склада своего характера, а Лич – потому, что истощил свои силы в тщетной борьбе. Однажды он взволнованно схватил мою руку и сказал:
– Вы честный человек, мистер ван Вейден! Но оставайтесь на своем месте и помалкивайте. Мы мертвые люди, я знаю. И все-таки в трудную минуту вы, может быть, сумеете помочь нам.
На следующий день, когда с подветренной стороны перед нами вырос остров Уэйнрайта, атакованный Личем, Вольф Ларсен набросился и на Джонсона и только что поколотил их обоих. Тут он и изрек пророческие слова:
– Лич, – сказал он, – вы знаете, что я когда-нибудь убью вас?
Матрос в ответ только зарычал.
– А что касается вас, Джонсон, то вам так надоест жизнь, что вы сами броситесь за борт, не ожидая, пока я прикончу вас. Вот увидите.
– Это внушение, – обратился он ко мне. – Держу пари на ваше месячное жалованье, что он это сделает.
Я питал надежду, что его жертвы найдут случай спастись, когда мы будем наполнять водой наши бочонки, но Вольф Ларсен слишком удачно выбрал для этого место: «Призрак» лег в дрейф в полумиле за линией прибоя, окаймлявшей пустынный берег. Здесь открывалось глубокое ущелье с обрывистыми, каменистыми стенами, по которым никто не мог бы вскарабкаться наверх. И здесь, под непосредственным наблюдением съехавшего на берег капитана, Лич и Джонсон наполняли бочонки и скатывали их к берегу. Бедняги не имели шансов вырваться ни на одной из шлюпок.
Но Гаррисон и Келли сделали такую попытку. Они составляли экипаж одной из лодок, и их задача была курсировать между шхуной и берегом и каждый раз перевозить по одному бочонку. Перед самым обедом, двинувшись с пустым бочонком к берегу, они внезапно изменили курс и отклонились влево, стремясь обогнуть мыс, далеко выступавший в море и отделявший их от свободы. За ним были расположены живописные деревушки японских колонистов и веселые долины, глубоко вдававшиеся в середину острова. Попав туда, оба матроса могли бы посмеяться над Вольфом Ларсеном.
Гендерсон и Смок все утро бродили по палубе, и теперь я понял, в чем дело. Достав свои ружья, они неторопливо открыли огонь по дезертирам. Это была хладнокровная демонстрация искусства стрельбы в цель. Сначала их пули безвредно шлепались в воду с обеих сторон лодки, но потом они начали ложиться все ближе и ближе. Люди в лодке гребли изо всех сил.
– Смотрите, я прострелю правое весло Келли, – сказал Смок и прицелился более тщательно.
Я увидел в бинокль, как после выстрела весло разлетелось в щепы. То же самое Гендерсон проделал с правым веслом Гаррисона. Лодка завертелась на месте. Быстро были перебиты и два других весла. Матросы пытались грести обломками, но и те были выбиты у них из рук. Тогда Келли оторвал доску от дна лодки, начал работать ею, но с криком боли выронил ее, когда и она сломалась, поранив ему руку. Тогда беглецы покорились своей участи и предоставили лодку волнам, пока ее не взяла на буксир посланная Вольфом Ларсеном вторая лодка, которая и доставила их на борт.
К вечеру мы подняли якорь и ушли. Теперь нам предстояли три или четыре месяца охоты. Мрачная перспектива, и я с тяжелым сердцем занимался своим делом. На «Призраке» установилось почти похоронное настроение. Вольф Ларсен валялся на своей койке в одном из своих странных и ужасных припадков головной боли. Гаррисон беспечно стоял у руля, опираясь на штурвал, как будто был утомлен весом собственного тела. Остальные хранили угрюмое молчание. Я наткнулся на Келли, который скорчился у переднего люка, спрятав голову в колени и охватив ее руками, в позе безысходного отчаяния.
Джонсон лежал, растянувшись, на самом носу и следил, как пена вздымается у форштевня шхуны. Я с ужасом вспомнил пророческие слова Вольфа Ларсена. Мне казалось, что его внушение начинало действовать. Я попытался изменить направление мыслей Джонсона и позвал его, но он только грустно улыбнулся мне и не тронулся с места.
Когда я вернулся на корму, ко мне подошел Лич.
– Я хочу попросить вас кое о чем, мистер ван Вейден, – сказал он. – Если вам когда-нибудь удастся вернуться в Фриско, то не откажите отыскать Матта Мак-Карти. Это мой старик. Он живет на Холме, за пекарней Мэйфера. У него сапожная лавочка. Его знают все, и вам нетрудно будет его найти. Скажите ему, что я сожалею о том горе, которое доставил ему, и… и скажите ему еще за меня: «Да хранит тебя Бог».
Я кивнул, ответив:
– Мы все вернемся в Сан-Франциско, Лич, и я вместе с вами пойду повидать Матта Мак-Карти.
– Хотелось бы верить в это, – ответил он, пожимая мне руку. – Но не могу. Вольф Ларсен покончит со мной, я знаю. Я только хочу, чтобы это было поскорее.
Когда он ушел, я почувствовал в своей душе такое же желание. Неизбежное пусть случится поскорее. Общая подавленность покрыла своим плащом и меня. Гибель казалась неотвратимой. Час за часом шагая по палубе, я чувствовал все яснее, что начинаю поддаваться отвратительным идеям Вольфа Ларсена. К чему все на свете? Где величие жизни, раз она допускает такое опустошение человеческих душ? Жизнь – дешевая и скверная штука, и чем скорее ей конец, тем лучше. Покончить с ней, и баста! Как Джонсон, я нагнулся через перила и не отрывал глаз от моря, с уверенностью, что рано или поздно я буду опускаться вниз, вниз, в холодные зеленые пучины забвения.
Глава XVII
Странно, но, несмотря на мрачные предчувствия, на «Призраке» все еще не произошло ничего особенного. Мы плыли на северо-запад, пока не достигли берегов Японии и не наткнулись на большое стадо котиков. Явившись сюда из неведомых просторов Тихого океана, они направлялись на север, к пустынным островкам Берингова моря. Повернули и мы за ними к северу, свирепствуя и разрушая, бросая ободранные туши акулам и засаливая шкуры, которым впоследствии предстояло украшать гордые плечи женщин больших городов.
Это было безумное избиение, производившееся во славу женщин. Мяса и жира никто не ел. После дня успешной охоты наши палубы были завалены шкурами и телами, скользкими от жира и крови, и по доскам текли красные ручейки. Мачты, снасти и перила – все было забрызгано кровью. А люди, с обнаженными и окровавленными руками, словно мясники, делали свое дело, сдирая свежевальными ножами шкуры с убитых ими красивых морских животных.