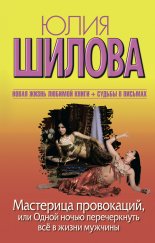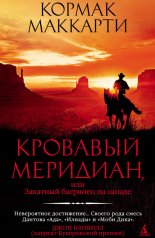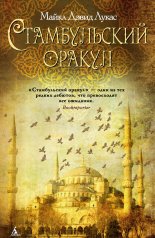Избранное Герт Юрий

– Ты оскорбляешь всю редакцию! – вскочил Рожицын. – Думай, что говоришь! – Голос его содрогался от ярости.
– Да и потом еще неизвестно, какая у «Памяти» программа! – поддержал его сидевший рядом Виктор Мироглов. Его басок звучал добродушно-насмешливо. – А что газеты пишут… Знаем сами, как они делаются!..
Я не произнес больше ни слова. Все, что связывало меня с этими людьми, было рассечено, лопнуло, как не выдержавший напряжения канат. И уже не имело значения, что говорил, проборматывал скороговоркой Толмачев, заключая планерку, – в том роде, что нужно сделать купюры, а когда их сделают, мне покажут материал… Это уже ничего не значило. Поскольку теперь был «я» и были «они»…
Планерка закончилась. Я вернулся в свой отдел – узкую комнатку, тесно заставленную четырьмя столами. В распахнутую дверь Мироглов крикнул мне:
– Идем кофе пить!
Вся честная компания шумно направилась в бар. Кто-то поддержал его, позвал меня…
– Спасибо, – сказал я. – Что-то не хочется.
В отделе толклись авторы, Рожицын с кем-то разговаривал по телефону…
Я взял со стола первый попавшийся лист бумаги, написал заявление. Написал, почему я ухожу из редакции, почему прошу освободить меня от членства в редколлегии. Написал об интернационалистических традициях, за долгие годы сложившихся в журнале, упомянул о «Памяти»… Видно, Рожицын понимал, о чем я пишу, и, когда я поднялся, рванулся было меня остановить:
– Юра, не делай этого!
Я вошел в кабинет к Толмачеву, положил заявление на стол. Вид у него был растерянный.
– Так я и знал… – пробормотал он. – Знал, что ты это сделаешь.
– Кажется, по КЗОТу после подачи заявления полагается отработать двухмесячный срок? – сказал я.
В тот день по дороге домой – был декабрь, небо как серый войлок, мокреть под ногами – мне вспомнилось майское утро 1965 года, белая, вся в цвету, яблоня под нашими окнами, подрулившая к подъезду машина, из которой вышли – оба в белых, с короткими рукавами рубашках – Морис Симашко и Николай Ровенский, молодые, энергичные, слегка загадочные… Они поднялись к нам, на верхний этаж еще не обжитого, пахнущего краской, недавно заселенного дома.
– Поехали, одевайся… Зачем?.. Потом узнаешь.
Всю дорогу до редакции оба смеялись, болтали о том и о сем, подшучивали над моим недоумением… В кабинете редактора журнала, куда меня почти насильно втолкнули, навстречу мне поднялся из-за стола Иван Петрович Шухов, маленький, губастый, подслеповатый. Обнял, усадил, посопел, поправил очки с толстыми стеклами на широком, картошкой, носу.
– Вот какое дело, Юра, – сказал он, – мы тут подумали– подумали и решили предложить вам поработать у нас в редакции… Как вы на это смотрите?
«Поработать…» Что это значит?.. Я не верил своим ушам – неужели меня и вправду в журнал приглашают? Это имел в виду Иван Петрович – или я не так его понял?..
Но так оно и было – меня приглашали в журнал. Полгода назад я приехал в Алма-Ату из Караганды, где работал в молодежной газете, потом литконсультантом в отделении Союза писателей. У меня вышли две книги – одна в Петрозаводске, там я служил в армии, другая – роман «Кто, если не ты?..» – в Алма-Ате. О нем много писали в газетах, от читателей шли в издательство пачками письма… Но все равно – работать в журнале, который возглавлял Иван Петрович Шухов, где работали Ровенский, Симашко, Щеголихин… Где печатали Платонова, Паустовского, Мандельштама… Это было вряд ли осуществимым счастьем!
Я попросил месячную отсрочку – закончить роман «Лабиринт»… И спустя месяц приступил к работе – в отделе прозы. Просыпаясь по утрам и вспомнив о редакции, я встречал каждый новый день как праздник, незаслуженный подарок судьбы. Когда через год или два мы приняли на работу молодого журналиста из комсомольской газеты и в его жаргонистой речи замелькало словечко «контора» в применении к нашей редакции, оно звучало для меня святотатственно: журнал был содружеством, братством, соединявшим всех нас духовно, а никак не «конторой», «службой». Случалось всякое – и обиды, и ссоры, но они забывались, таяли, как дымок, уносимый ветром. Дело, которое для нас было священным – Двадцатый съезд и обновление литературы, всей нашей жизни, – перекрывало все остальное.
Домбровский, Казаков, Марк Поповский и его «1000 дней академика Вавилова»… Таким до того, как отстранен был – то ли Сусловым, то ли Кунаевым – Иван Петрович от редакторства, сложился и навсегда остался в сердце моем журнал. Да и – в моем ли только? С ним связаны были особой, трепетной связью Галина Васильевна Черноголовина – отважная наша «Черноголовка», как ласково называл ее Домбровский, и уже упомянутые мной Симашко и критик Ровенский, и покойный ныне Алексей Белянинов, и Павел Косенко, и Владилен Берденников, и Иван Щеголихин, и Ростислав Петров, и Валерий Антонов… «Лучшие годы нашей жизни» – вот чем для каждого был журнал, по крайней мере – для большинства из нас… Потом наступили годы безвременья, застоя – долгие и пустые, о которых почти нечего вспоминать… Но коллектив редакции в чем-то главном, казалось, сохранил, сберег себя… И вдруг…
И вдруг… – подумалось мне. – И вдруг… И вдруг… А вдруг я все осложняю? Вдруг раздуваю из мухи слона? Воображение, взвинченные нервы – и легкие, для других, да и для тебя самого в прошлом незаметные внешние импульсы вдруг оказываются способны изменить настроение, перевернуть мир вверх тормашками, рассорить с людьми, которые не думали ни о чем плохом… А потом уже не остается ничего другого, как упорствовать в своей ошибке, своем никчемном озлоблении, яриться на всех вокруг, а наделе – на самого себя… Где, в чем гарантия того, что прав я, а они, вся редакция – неправы?..
Я ехал домой на автобусе, положив на колени дипломат, и смотрел на серое небо, серые дома, серую дорогу… И нечаянно, словно по какой-то инерции, под напором, идущим извне, представился мне какой-то такой же серый, незнакомый мне город, автобус, только слякоти поменьше на ухоженных тротуарах… Но тоже едет, положив – ну, не дипломат, а портфель к себе на колени – какой-то человек, и пасмурно, гадко у него на душе, поскольку поссорился он у себя в редакции, где старый и добрый его друг Фриц Мюллер или там Густав Кригер сказал ему, что как еврею ему не дано постичь подлинное величие Гете… Или, к примеру, что если бы не евреи, шпионившие в пользу Антанты, Германия наверняка бы выиграла Первую мировую войну… Что же, – сказал бы себе тот человек, с портфелем на коленях, – может быть, я напрасно кипятился?.. Да, мой отец не был шпионом, он был солдатом и погиб в сражении на Марне за свое немецкое отечество, но кто знает? – может, были в самом деле евреи-шпионы?.. Фриц и Густав – мои добрые друзья, мы вместе учились в гимназии, какое у меня право пятнать их честные имена гнусными подозрениями? Обобщать?.. Связывать их с лозунгами, которые как-то раз я видел из окна этого же автобуса, – их несли какие-то молодые люди, одетые в черные рубашки, прикидываясь бывалыми солдатами, и печатали шаг – очень четко и очень громко, и что-то такое пели – «Хорст…» или – «Ферст…» И, кажется, «Вессель…» – что-то в этом роде… Стоит ли придавать значение тому, что сказали – и, по– моему, сами почувствовали себя неловко – мои друзья Фриц Мюллер и Густав Кригер… И стоит ли обращать внимание на этих молодчиков – кстати, не в черных, а коричневых, я спутал – рубашках… Ведь у нас на дворе не время крестовых походов с их погромами и резней, а – слава богу, 192-такой-то год, и мы живем в демократической Германии, Версальский договор гарантирует нам спокойствие и порядок… Нам – то есть и нам, евреям…
Так, вполне возможно, – думал я, – рассуждал тот человек – и откуда ему было знать, что случится вскоре с его милой Германией, с его добрыми друзьями Фрицем и Густавом, с ним самим?..
«Россия, Отчизна наша, переживает судьбоносную пору. После долгих лет лжи, насилия и лицемерия она постепенно становится более открытым и честным государством. Благодаря этому мы наконец-то узнали о бедственном положении страны: наша экономика топчется на месте, спрут бюрократии душит все живое, русская нация вымирает, наука отстала, образование неэффективно, коррупция стала вездесущей. С ужасом мы узнали и о другом – о чудовищном истреблении нашего народа, который после революции потерял от рук опричников власти 40 миллионов человек, в четыре раза больше, чем за все войны с петровских времен, не считая последней.
Особенно пострадал русский народ и родственные ему украинский и белорусский народы. Наш триединый народ, отдав все для победы в самой кровопролитной войне, сегодня сделан самым обездоленным, униженным и нищим. Попав в Прибалтику, Закавказье или Среднюю Азию, любой русский сразу чувствует, как не уважает и презирает его коренной тамошний житель. Русский видит также, сколь зажиточнее и лучше живут они, и в удивлении спрашивает: как и когда все это произошло? Почему Россия, некогда богатая и жизнеспособная страна, ныне плетется не только в хвосте народов мира, но и в хвосте народов СССР? Ответ известен – окраины долгими десятилетиями пользовались льготами и денежными дотациями, которых сознательно лишали Россию и которые давались в основном за ее счет!
Все ли, однако, помнят, что издавна Отечество наше именовалось Россией? Многие ли из нас чувствуют гордость при одном звуке этого имени? Все ли из вас ощущают себя потомками русских, создавших великую державу и ее мировую культуру? Ведь сейчас достаточно произнести "я – русский", чтобы в ответ услышать нагло-циничный вопрос: вы шовинист? Слово же "Россия" у некоторых вообще вызывает приступ яростной злобы и ругани. Вот он – зримый итог насильственного интернационализма, стремящегося все народы слить в серую и безликую массу. Более полувека нас заставляли и заставляют забыть, кто мы и кто наши великие предки!
…Опустошить, увести вас в сторону от решения национальных проблем хочет сегодня "малый народ", точнее, его весьма обширная националистическая элита, которая вот уже целое столетие силится подмять под себя славянские народы нашей Родины и прежде всего великий русский народ. Крайние шовинисты по существу, ура-интернационалисты на словах – еврейские националисты составляли большинство в первом советском правительстве (в нем на 22 человека было лишь двое русских)[4] и в аппарате насилия (ВЧК, ОГПУ, НКВД), на страшном счету которого десятки миллионов человеческих жертв. Они были большинством среди крупных функционеров власти, которые, не дрогнув, приказывали взрывать наши храмы, расстреливать и гноить в лагерях как "классового врага" цвет нации. Ведь это был не их, а чужой и ненавидимый ими русский народ!
Сегодня националистическая еврейская элита оккупировала русскую культуру, науку и прессу. Люди еврейской национальности, которая насчитывает только 0,69 % в общем составе населения (без учета лиц, которые маскируются русской фамилией и национальностью), заняли до 30 % ведущих должностей.
Из этого народа – 45 % всех докторов и кандидатов наук, но рабочих из него – лишь горстка. Высшее образование имеет 70 % евреев, втрое больше, чем русские. В стране, причем достаточно давно, образовалась очень влиятельная, спаянная мафия, которой чуждо или ненавистно все русское, все близкое и дорогое нам.
Активно участвуя в изничтожении русского народа, сегодня еврейские шовинисты преданно служат системе и бюрократии. Членов партии среди евреев пропорционально вдвое больше, чем среди русских! Ныне они сумели стать главными "прорабами перестройки", которую вполне сознательно направляют в тупик, чтобы вызвать народное недовольство и ради своей выгоды разжечь новую братоубийственную смуту. Для этого они ретиво действуют и на другом фланге – среди левых неформальных объединений, "Демократического союза", "Народного фронта" и разных клубов. Ловко спекулируя на законных требованиях людей, еврейские националисты опять лезут в революционные вожди с целью растлить и расшатать общество. Но нам не нужна новая братоубийственная смута!
Нам нужна Россия – великая, свободная, нравственная держава!
…Сегодня "Память" бьет в набат – МЕДЛИТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ! Отечество и народ – в великой беде и опасности! Ему грозят великий кризис и крах! Пришло время действовать сообща, смело, по-суворовски, вместе с ВАМИ – русскими студентами и всеми, кто понимает и сочувствует нашим бедам. Не дадим врагам лишить Россию ее величия, самобытности и достойного места в мире! Родина у нас – одна и мы несем ответственность за ее судьбу.
Разъясняйте для спасения Родины цели "Памяти", обличайте, устно и письменно, ложь и клевету на нее, давайте отпор хулителям, создавайте группы "Памяти" в своих вузах! Бойкотируйте преподавателей-сионистов, выдвигайте и поддерживайте русских преподавателей и ученых, стоящих на патриотических позициях! ЗНАЙТЕ – НИКТО кроме "Памяти" не выступает в наши дни за подлинное возрождение и спасение русского народа и братских славянских народов. Если вы любите Родину и верно понимаете ее трагедию – ваше место в рядах национально-патриотического фронта "Память"!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ! ДА СГИНУТ ЕЕ ВРАГИ!
Ленинградский совет НПФ "Память"»
Эта листовка – одна из многих – распространялась между ленинградскими студентами, ее принес мне сосед, чей сын учится в Ленинграде. Слово «листовка» не случайно произведено от слова «лист»: нужно иметь семя, нужно иметь плодородную почву, нужно позаботиться о том, чтобы почву эту взрыхлить, посадить в нее семя, засыпать сверху землей, поливать, ухаживать, растить, дожидаться терпеливо, упорно, пока деревце подрастет, раскинет ветки, покроется почками, потом густой листвой – только тогда ветер сорвет и разнесет по городу, по улицам и подворотням листья-листовки, подобные этой… Кто-то подготавливал почву, закладывал семена, растил-взращивал поначалу робкий, слабый стебелек… Кто? Зачем?..
Собственно, я давно собирался уйти из журнала. Нездоровье, постоянная редакционная нервотрепка, чтение и подготовка к печати рукописей, не оставляющие ни сил, ни времени для собственной работы… Собирался уйти при прежнем нашем редакторе, потом появился Толмачев, развернулась перестройка – возникли условия для живого, настоящего дела… Но последнее время я начал все острее чувствовать расхождение с Толмачевым, с теми, кого принимал он в редакцию. И все же никак не думал, что уходить придется в подобной ситуации. Жена, если я заговаривал об уходе, возражала: разве ты сможешь без редакции? Без общения с людьми? В одиночестве?.. Мне тяжело было признаться ей, что я подал заявление. И, чтобы не тянуть, я сделал это, едва переступив порог.
Даже в полутемной прихожей я, казалось, увидел, как она побледнела. Но тут же услышал:
– Ты поступил правильно. Другого выхода у тебя не было.
Под утро мы оба встали, подошли к постели маленького нашего внучонка – Сашеньки, проверить – не раскрылся ли, не мокрый ли… Обоим не спалось в ту ночь.
– Я все лежу, думаю, – сказала жена, – как же так? Что произошло? Ведь тебя всегда так уважали…
Что я мог ей ответить?
- О, черная гора,
- Затмившая весь свет!
- Пора – пора – пора —
- Творцу вернуть билет.
- Отказываюсь – быть.
- В Бедламе нелюдей
- Отказываюсь – жить.
- С волками площадей
- Отказываюсь быть…
В те дни мне часто вспоминались – да и сейчас вспоминаются – эти цветаевские строки…
Больнее всего в этой истории ударили меня слова Антонова. Даже не слова – нацеленный в упор взгляд, в котором, как осколок стекла, так и сверкала ненависть…
Вот где заключался мучительный, до сих пор саднящий мне душу вопрос: что же произошло?..
Ведь Валерий Антонов… Как бы это сказать… Ум, талант, красноречие – да, все это я всегда ценил в нем, однако – не только это… И, может быть, вовсе не это было в нем для меня главным. А редкостный дар – уловить малейшие оттенки настроения другого человека, выслушать его, дослушать до конца – и разделить гнев, смятение, тоску, переполнявшие всех нас многие годы. Разделить – и облегчить сердце – когда словом, когда обоюдным молчанием. Порой ведь важнее, значительней любых слов такое молчание с переплетающимся в воздухе дымком двух сигарет. А иногда, помолчав, с какой– то виноватой улыбкой в глазах – разноцветных, один – голубой – посветлее, другой потемнее – он говорил, тронув ладонью лохматую рыже-русую шевелюру на лобастой голове: «Хочешь, тебе почитаю?.. Сам не пойму, что у меня на этот раз получилось…» Он читал стихи, я слушал. Мы не были друзьями в расхожем смысле слова и не так-то много времени проводили вместе, но соприкосновение душ – что может быть выше в мужской дружбе?..
Мало того. Много лет назад, в ответ на антисемитский выпад в адрес журнала, исходивший от сановного литературного чиновника, мы с Валерием не смолчали, а вдвоем потребовали разбора этого дела на русской секции… Чем вызвали немалый переполох с последующим вызовом в идеологический отдел ЦК КП Казахстана и грозной накачкой – за «потакание вражеской пропаганде», твердящей о существовании антисемитизма в СССР… Помню, как потом, по дороге из ЦК в редакцию, мы завернули в скверик, чтобы прийти в себя, и, сидя на лавочке, то хохотали, то матерились, но было так горько, так тоскливо обоим – дальше некуда…
И в то же примерно время, в начале семидесятых, покончил с собой автор нашего журнала, филолог, преподаватель пединститута Ефим Иосифович Ландау. Ему было около пятидесяти, жил он одиноко, погруженный в докторскую диссертацию, посвященную творчеству Эренбурга, и – едва ли не единственный в Союзе написал и успел опубликовать рецензию на «Теркина на том свете» Александра Твардовского, – сатиру, напечатанную по высочайшему капризу, но вскоре же фактически запрещенную… Твардовский прислал ему растроганное письмо. А через недолгое время Ландау объявили не то еврейским националистом, не то прямым сионистом, к тому же поползли, зазмеились неясного происхождения слухи о золоте, якобы посланном Ландау в Израиль (опять – золото!.. Золотые слитки!..), и о каких-то чуть ли не агентурных связях его с иностранной разведкой. Трижды являлись к нему из органов, переворошили всю квартиру, всю огромную, уникальную библиотеку, на которую Ландау тратил две трети зарплаты, что-то искали, вчитывались в дневник, допрашивали, писали протокол за протоколом – в заключение, когда однажды рано утром снова позвонили или постучали к нему в дверь, он выскочил на балкон и прыгнул вниз с четвертого этажа…
Он бывал у нас дома и всякий раз приносил Марише, нашей дочке, только начавшей ходить в школу, по шоколадке… Два опера явились ко мне на работу в день его гибели, повезли в машине, с решеткой на крохотном оконце, к нему домой – я еще ни о чем не догадывался, не знал, куда и зачем меня везут, воображение рисовало мне разные варианты, в соответствии с временем, наступившим после суда над Синявским и Даниэлем, одного лишь не мог я предположить – того, о чем услышал, когда передо мной распахнули дверь квартиры Ландау и, увидев за нею незнакомых людей, я вдруг почуял в воздухе отчетливый запах смерти…
Так вот, тогда, когда за демонстрации подобного рода в лучшем случае можно было лишиться работы, оказаться исключенным из плана в издательстве и т. п., Валерий Антонов, как и еще несколько человек, из тех, кто был куда ближе, чем он, знаком с Ландау, явился на похороны, и мы все вместе поехали на кладбище, вместе – впятером или вшестером – возвращались затемно домой, возле торговавшего водкой киоска чокались полными до краев граненными стаканами, пили, поминая Ефима Иосифовича – и пожимали друг другу руки, кого-то проклинали, кому-то грозились отомстить… Господи, да скажи кто-нибудь, придай кто-нибудь тогда особенное значение тому, что тот из нас – еврей, а этот – русский, – да его бы попросту не поняли – как если бы он заговорил на каком-нибудь тарабарском языке! А поняв – испепелили презрением!..
Однажды мы отправились в командировку на Мангышлак. Меня тянули те места – каменистая пустыня, такыры на берегах обжигающе-холодного Каспия, нефтяные вышки, маслянистая, черная земля… Фантастический, молодой, многоэтажный город – заключительная глава многоглавой, многотомной истории, в которую я пытался вникнуть, замыслив роман о Зигмунте Сераковском, поляке, революционере, сосланном в эти края в середине прошлого века…
Среди очень разных, но удивительно светлых, прямых, открытых людей, на встречи с которыми нам везло, была журналистка с телевидения: после передачи, в которой мы участвовали, она привезла нас домой: собралась дружная, настроенная на вольный разговор компания – толковали о Солженицыне, «Новом мире», Кочетове, пели, читали стихи. Все было так чисто, раскованно и знакомо, как будто воскресла Караганда моей молодости. Я вспомнил и тоже прочел стихи, написанные то ли в шестнадцать, то ли в семнадцать лет: оставалось еще три-четыре года до «дела врачей», но полным ходом шла травля «космополитов», газеты пестрели фельетонами с подчеркнуто еврейскими фамилиями, именами…
Горько все это было, да еще и в сочетании с радостным чувством победы в Отечественной войне, не успевшем остыть за два-три года.
- Еговой изгнанный из рая,
- Утратив жизни смысл и цель,
- Бредет беспутицей Израиль
- С тоской на каменном лице…
- Где гордость ты свою развеял?
- Где ум, паривший высоко?
- Ты позабыл о Маккавеях,
- Ты не рождаешь больше Кохб!..
- Бессилен сердцем и бесплоден
- В улыбке судорожной рот,
- И ни народа нет, ни Родины,
- Что ж есть?.. Еврейский анекдот.
Помню, я прочел эти стихи – и в меня ударили молнии! Как это так?.. Откуда я взял?.. Я пытался объяснить, в какую пору стихотворение было написано, – где там! Меня и слушать никто не хотел. Разве все мы – не братья, которых давит один и тот же пресс, душит одна и та же петля? Разве не одна и та же многострадальная, израненная земля у нас под ногами?.. Мне и стыдно, и сладко было от этих упреков. Антонов петушился, укорял меня яростней всех. А потом, возвратясь в Алма-Ату, прочел мне стихотворение, которое сложилось там же, на Мангышлаке. Были в нем, помимо прочего, такие строки:
- Юра, Юра!
- Шевелюра,
- Юра, Юра – голова,
- Что глядишь, дружище, хмуро?
- Все на свете —
- Трын-трава.
- Как мне дорог этот профиль,
- Этот на сторону нос
- И над чистым глазом брови
- Грустно вскинутый вопрос.
- Как добрею я от фаса,
- Где ни грана суеты,
- Где одна святая фраза только:
- «Кто, если не ты?..»
- Юра, Юра!
- Где бандура,
- Ссылка, каторга, тюрьма?
- Как бы жить, не зная чура,
- И, сходя, сводить с ума.
- Как вот этот Каспий синий,
- Что от зубьев белых скал
- До Кавказа,
- До России
- Плес покатый расплескал —
- И волнуется, зверея,
- И бросается, скорбя,
- На чалдона и еврея.
- На меня и на тебя.
Стихи эти были впоследствии напечатаны в сборнике Антонова, в посвящении значилось мое имя. Цензура, правда, покалечила кое-какие строки, но не в том суть… Стихи Валерия, и эти, и многие другие, он сам – небольшого, как и я, роста, плечистый, надежно-устойчивый, несмотря на давнюю, с детства, хромоту, – год за годом помогали двигаться в серых сумерках, надеяться, не изменять себе, и не так-то много было таких родившихся у меня на глазах стихов, таких людей…
Так было… Что случилось потом?..
Так было… Однако ведь свою книгу, вышедшую недавно, я отчего-то не подарил Валерию. Собирался подарить, как случалось раньше, да так и не подарил. Отчего?.. И последняя моя повесть «Приговор» вызвала у него явное раздражение. Прямого разговора о ней не было, мы оба его избегали… А полгода назад Валерий написал поэму «Анти» и попросил меня прочесть, предупредив:
– Если тебе не понравится – скажи, и я не стану предлагать ее в журнал.
Я прочел. Меня увлек замысел – осмыслить ошеломившую нас всех бурю декабря 1986 года, осмыслить необходимость мира и взаимопонимания, ради которых предлагалось каждому народу постичь свою вину, точнее – вины перед другими народами… Я сказал Валерию, что поэма – рывок в необходимую и до сих пор запретную тему, я – за публикацию, хотя иные места мне и непонятны, и неприятны. К примеру, где говорится чуть ли не о русофобстве, которое присуще евреям… Или – отсекается возможность их равноправного участия в литературном процессе, поскольку русский язык – не язык их предков… Или такие строки:
- Разумному, честному учат.
- Высокому, вечному – нет…
Не слишком ли категорично? Библия – это что: «разумное, честное» или «высокое, вечное»? Или то и другое сразу?.. И тогда – как быть с пятым пунктом у ее авторов?.. Да и можно ли так – по составу крови – квалифицировать и классифицировать творчество Твардовского и Слуцкого, Светлова и Вознесенского, Багрицкого и Куняева? Как-то сомнительно выглядит расовый принцип в искусстве…
Кое-что в поэме заставило меня вспомнить переписку Астафьева с Эйдельманом. Но вместо того чтобы спорить, я принес Антонову несколько книг. Среди них – пламенно антисемитскую книгу А. В. Романенко «О классовой сущности сионизма» и – контраста ради – стихи и поэмы Бялика, в том числе «Поэму о погроме». Валерий прочел и вернул, не сказав ни слова. Что-то мешало нам продолжить разговор о его поэме…
И вот – теперь…
Выходит – было в нем и раньше нечто такое, чего я не замечал – или предпочитал не замечать?.. Было – или появилось только в последнее время?..
А что же Виктор Мироглов? – думал я.
Мы были дружны лет десять. Но еще до того, в 1975 году, когда на меня в очередной раз обрушился с погромной статьей всемогущий в Казахстане критик Владислав Владимиров, умело совмещавший занятия литературой с должностью помощника первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева, отозвав меня в конец редакционного коридора, Виктор сказал:
– Если захочешь что-то предпринять против Владимирова, можешь во всем на меня рассчитывать.
Я не знал тогда, почему он это сказал, но в негромком голосе Виктора, в сдержанной, бытовой интонации ощущалась такая решительность, что невозможно было усомниться в его искренности. Мне навсегда запомнилась та минута: заступиться за меня, выступить против любимца Первого значило – рискнуть всем…
Отчаянная эта акция совершилась позже – в 1983 году, когда Галина Васильевна Черноголовина, Мироглов и я добились приема у Кунаева. Обратить его самодержавное внимание на жалкое положение русских писателей в республике, попытаться прекратить не встречающий никаких преград террор Владимирова в литературе – такова была цель. И мы удостоились. И в огромном, скромно-торжественном, украшенном невероятных размеров глобусом (ох уж эти глобусы!..) кабинете высказали все, что полагали нужным. А на другой же день против каждого из нас начали применяться репрессивные меры. Мироглову досталось в особенности: ему пришлось уйти из издательства, где он в ту пору работал, затем из нашего журнала, где главный редактор был ставленником все того же Владимирова, которого в виде компенсации за причиненный нами моральный ущерб теперь титуловали не просто «помощником», а «ответственным работником ЦК»…
Однако уже близились иные времена. Виктор ездил в Москву, к Горбачеву – он тогда ведал в ЦК КПСС идеологией, о нем шли добрые слухи… Встречи с Горбачевым он, разумеется, не добился, но в приемной на площади Ногина оставил на его имя письмо. Через некоторое время в Алма-Ату прибыла комиссия – два пожилых, деловых, видавших виды партработника. Они расположились в пустующем цековском кабинете, переговорили с немалым числом деятелей «идеологического фронта», как правило, посаженных в кресла и до полусмерти запуганных все тем же Владимировым, и в результате обнаруженных фактов Первый лишился своего помощника, Мироглов смог вернуться в журнал, а в Союзе писателей вдруг потянуло сквознячком… Что-то вроде бы кончалось, что– то вроде бы начиналось… Тогда это еще не называли Перестройкой.
Вот чем был для меня Мироглов.
И вдруг…
Ну, да, водились за ним вещи, о которых не хотелось мне думать раньше, не хотелось вспоминать сейчас… Как-то раз в нашем писательском баре, подвыпив, он кричал одному молодому литератору: «Убирайся в свой Израиль!..» Литератор этот, родом из Одессы, был нагловат, но вполне безобиден; что послужило причиной скандала, я не знал, да и знать не хотел, посчитал все случившееся мелочью. И когда возмущались Виктором, защищал его: у кого из нас не бывает срывов?.. Да и сам он, похоже, чувствовал себя виноватым.
И еще: в одной его повести меня остановила двусмысленная фраза… Неловко спрашивать было, но в конце концов я спросил напрямик: «Как ты относишься к евреям?» Язык у меня жгло от этих слов. «Я – как все, – ухмыльнулся Виктор. – Хороших евреев – люблю, плохих – нет. Против Райкина, к примеру, ничего не имею!» Что ж, ответ вполне достоин вопроса… Я постарался его забыть, выкинуть из головы.
Потом доносило до меня кое-какие слушки: «А Виктор-то – черный…» Я не допытывался до подробностей, а говорившие так стеснялись уточнять: все знали, что мы дружим.
Все это мне и теперь казалось пустяком. Виктор нравился мне прямотой, непоказным мужеством, способностью к поступку – редкостной там, где холуйство, трусость и благоразумие оплетают, как повилика, людей с головы до ног, не дают вольно ступить, свободно вздохнуть… Это примиряло меня с остальным. А остальное… Разрозненные факты сбегались, притягивались один к другому, складывались…. Кучка росла…
Полгода назад к нам в город приехал Юрий Афанасьев, ректор Московского историко-архивного института. Он выступил в конференц-зале Союза писателей, сильный, звучный голос его прокатывался над затихшими рядами подобно трубному гласу, от которого, дрогнув, пали стены Иерихона. Дерзкими были его мысли, необычны слова, уверенность, с которой он держался, звала каждого – разогнуться, подняться с четверенек, двинуться вперед. Он хотел встретиться с алма-атинской интеллигенцией – ему не дали: не оказалось свободного зала… Я полагал, Афанасьева все мы восприняли однозначно, и не поверил своим ушам, когда Мироглов и Антонов назвали его «политическим спекулянтом». Почему?.. Этого я не мог понять, но – странная история – расспрашивать как-то не хотелось. Афанасьев ярко, точными, беспощадными словами характеризовал российское черносотенство, тянул от него нить к «Памяти». Может быть, в неприятии Афанасьева почуялся мне тогда какой-то эдакий привкус?..
После планерки я ждал – Антонов или Мироглов, самые близкие для меня в редакции люди, сразу же позвонят мне – и недоразумение (да, да, всего лишь недоразумение!) будет исчерпано…
Однако никто не позвонил.
Нет-нет да и вспоминалась мне фраза Киктенко – насчет квадратных скобок и традиций русской литературы… Чуть что – сейчас же у нас начинают толковать о традициях, продолжении традиций. Только каких?.. Неважно. Важно чувствовать себя «наследниками великих традиций», «продолжателями», «развивателями». Душа при этом воспаряет, гордость распирает, хотя порой всего-навсего речь идет о таких вот квадратных скобках… Да ведь были еще и другие традиции, почему о них-то не вспомнить?
«Ввиду систематических и постоянно возрастающих нападений и оскорблений, которым подвергается еврейство в русской печати, мы, нижеподписавшиеся, считаем нужным заявить:
1) Признавая, что требования правды и человеколюбия одинаково применимы ко всем людям, мы не можем допустить, чтобы принадлежность к еврейской народности и Моисееву закону составляла сама по себе что-нибудь предосудительное (чем, конечно, не предрешается вопрос о желательности привлечения евреев к христианству чисто духовными средствами) и чтобы относительно евреев не имел силы тот общий принцип справедливости, по которому евреи, неся равные с прочим населением обязанности, должны иметь таковые же права.
2) Если бы даже и было верно, что тысячелетние жестокие преследования еврейства и те ненормальные условия, в которые оно было поставлено, породили известные нежелательные явления в еврейской жизни, то это не может служить основанием для продолжения таких преследований и для увековечивания такого ненормального положения, а напротив, должно побуждать нас к большей снисходительности относительно евреев и к заботам об исцелении тех язв, которые нанесены еврейству нашими предками.
3) Усиленное возбуждение национальной и религиозной вражды, столь противной духу истинного христианства, подавляя чувства справедливости и человеколюбия, в корне развращает общество и может привести его к нравственному одичанию, особенно при ныне уже заметном упадке гуманных чувств и при слабости юридического начала в нашей жизни.
На основании всего этого мы самым решительным образом осуждаем антисемитическое движение в печати, перешедшее к нам из Германии, как безнравственное по существу и крайне опасное для будущности России»[5].
Это обращение было написано философом Владимиром Соловьевым в 1890 году, его подписали Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, профессор Герье, профессор Тимирязев, профессор Ф. Фортунатов, П. Н. Милюков, профессор Столетов, профессор Всеволод Миллер, профессор граф Камаровский, профессор А. Н. Веселовский, профессор Грот и другие деятели литературы и науки, в том числе, разумеется, и сам Владимир Соловьев.
Перед тем Владимир Соловьев обратился к Льву Толстому: «…ходят слухи, в достоверности которых мы имели возможность убедиться, – о новых правилах для евреев в России… В настоящее время всякий у нас, кто не соглашается с этой травлей и находит, что евреи такие же люди, как и все, признается изменником, сумасшедшим или купленным жидами. Вас это, конечно не испугает. Очень желательно было бы, чтобы вы подняли свой голос против этого безобразия». Толстой ответил: «Я всей душой рад участвовать в этом деле… Основа нашего отвращения от мер угнетения еврейской национальности одна и та же – сознание братской связи со всеми народами и тем более с евреями, среди которых родился Христос и которые так много страдали и страдают от языческого невежества так называемых христиан».
Такой была одна из традиций, присущих России…
К сожалению, впрочем, лишь одна из традиций. Письмо, составленное Соловьевым, опубликовано не было. «Пока Соловьев хлопотал и собирал подписи, толки об его затее широко распространялись в литературной среде, – писал впоследствии Короленко. – Тревогу подхватила по всей линии антисемитская и ретроградная пресса. К сожалению, я не могу в настоящее время привести здесь лучшие перлы этой односторонней полемики. Самая, впрочем, выдающаяся черта ее состояла в том, что эти господа обрушились не на высказанное мнение, а на самое намерение его высказать… Шумная трескотня возымела обычное действие».
Еще одна традиция российской жизни, находящая продолжение в куда более близкие нам времена.
Что же правительство? Какую позицию занимает оно в противоборстве общественных начал?.. А вот какую.
«В последнее время дошло до моего сведения, что Соловьев сочинил протест против какого-то мнимого угнетения евреев в России… Не сомневаясь, что подобная демонстрация может причинить только вред и послужить на пользу нашим недоброжелателям в Европе, старающимся искусственно возбуждать еврейский вопрос, я распорядился, чтобы означенный документ не появлялся на страницах наших периодических изданий». Так писал министр внутренних дел Дурново в докладе Александру III. Тоже в каком-то смысле традиция… Вплоть до изложения мотивов и даже словаря…
Кстати, «Письмо» Соловьева (Короленко называет его «Декларацией») было-таки напечатано. И в том же 1890 году. Правда – в Лондоне, на английском языке…
Таковы традиции, оформившиеся ровно сто лет назад.
«Хочется думать сейчас о России, об одной России, и больше ни о чем, ни о ком. Вопрос о бытии всех племен и языков, сущих в России (по слову Пушкина: "всяк сущий в ней язык"), – есть вопрос о бытии самой России. Хочется спросить все эти племена и языки: как вы желаете быть, с Россией или помимо нея? Если помимо, то забудьте в эту страшную минуту о себе, только о России думайте, потому что не будет ее – не будет и вас всех: ее спасенье – ваше, ее погибель – ваша. Хочется сказать, что нет вопроса еврейского, польского, армянского и проч., и проч., а есть только русский вопрос.
Хочется это сказать, но нельзя. Трагедия русского общества в том и заключается, что оно сейчас не имеет права это сказать… Весь идеализм русского общества в вопросах национальных бессилен, безвластен и потому безответствен.
В еврейском вопросе это особенно ясно.
Чего от нас хотят евреи? Возмущения нравственного, признания того, что антисемитизм гнусен? Но это признание давно уже сделано. Это возмущение так сильно и просто, что о нем почти нельзя говорить спокойно и разумно; можно только кричать вместе с евреями. Мы и кричим.
Но одного крика мало. И вот это сознание, что крика мало, а больше у нас нет ничего – изнуряет, обессиливает. Тяжело, больно, стыдно…
Но и сквозь боль и стыд мы кричим, твердим, клянемся, уверяем людей, не знающих таблицы умножения, что 2x2 = 4, что евреи – такие же люди, как и мы, – не враги отечества, не изменники, а честные русские граждане, любящие Россию не менее нашего, что антисемитизм – позорное клеймо на лице России…
– Что вы все с евреями возитесь? – говорят нам националисты.
Но как же нам не возиться с евреями и не только с ними, но и с поляками, украинцами, армянами, грузинами и проч. и проч.? Когда на наших глазах кого-нибудь обижают, – ? "по человечеству" нельзя пройти мимо, надо помочь или, по крайней мере, надо кричать вместе с тем, кого обижают. Это мы и делаем, и горе нам, если перестанем это делать, перестанем быть людьми, чтобы сделаться русскими.
Целый дремучий лес национальных вопросов встал вокруг нас и заслонил русское небо. Голоса всех сущих в России языков заглушил русский язык. И неизбежно, и праведно. Нам плохо, а им еще хуже: у нас болит, а у них еще сильнее. И мы должны забывать себя для них.
И вот почему мы говорим националистам:
– Перестаньте угнетать чужие национальности, чтобы мы имели право быть русскими, чтобы мы могли показать свое национальное лицо с достоинством, как лицо человеческое, а не звериное…
Почему сейчас, во время войны, так заболел еврейский вопрос? Потому же, почему заболели и все вопросы национальные.
"Освободительной" назвали мы эту войну. Мы начали ее, чтобы освободить дальних. Почему же, освобождая дальних, мы угнетали близких? Вне России освобождаем, а внутри – угнетаем. Жалеем всех, а к евреям безжалостны. За что?
Вот они умирают за нас на полях сражений, любят нас, ненавидящих, а мы их ненавидим, любящих нас.
Если мы будем так поступать, нам перестанут верить все; нам скажут народы:
– Вы умеете любить только издали. Вы лжете…
Но пусть не забывают народы угнетенные, что свободу может им дать только свободный русский народ.
Пусть не забывают евреи, что вопрос еврейский есть русский вопрос».
Так писал Дмитрий Мережковский в статье «Еврейский вопрос как русский вопрос» в 1915 году.
«Ненависть к евреям часто бывает исканием козла отпущения. Когда люди чувствуют себя несчастными и связывают свои личные несчастья с несчастьями историческими, то они ищут виновника, на которого можно было бы все несчастья свалить. Это не делает чести человеческой природе, но человек чувствует успокоение и испытывает удовлетворение, когда виновник найден и его можно ненавидеть и ему мстить. Нет ничего легче, как убедить людей низкого уровня сознательности, что во всем виноваты евреи. Эмоциональная почва всегда готова для создания мифа о мировом еврейском заговоре, о тайных силах "жидомасонства" и пр. Я считаю ниже своего достоинства опровергать "Протоколы сионских мудрецов". Для всякого не потерявшего элементарного психологического чутья ясно при чтении этого низкопробного документа, что он представляет наглую фальсификацию ненавистников еврейства. К тому же можно считать доказанным, что документ этот сфабрикован в департаменте полиции. Он предназначен для уровня чайных "союза русского народа", этих отбросов русского народа. К стыду нашему, нужно сказать, что в эмиграции, которая почитает себя культурным слоем, "союз русского народа" подымает голову, мыслит и судит о всякого рода мировых вопросах. Когда мне приходится встречаться с людьми, которые ищут виновника всех несчастий и готовы видеть их в евреях, масонах и пр., то на вопрос, кто же виноват, я даю простой ответ: как кто виноват, ясно кто, ты и я, мы и есть главные виновники… Есть что-то унизительное в том, что в страхе и ненависти к евреям их считают очень сильными, себя же очень слабыми, не способными выдержать свободной борьбы с евреями. Русские склонны были считать себя очень слабыми и бессильными в борьбе, когда за нами стояло огромное государство с войском, жандармерией и полицией, евреев же считали очень сильными и непобедимыми в борьбе, когда они лишены были элементарных человеческих прав и преследовались. Еврейский погром не только греховен и бесчеловечен, но он есть показатель страшной слабости и неспособности. В основе антисемитизма лежит бездарность…
Обвинения против евреев в конце концов упираются в одно главное: евреи стремятся к мировому могуществу, к мировому царству. Это обвинение имело бы нравственный смысл в устах тех, которые сами не стремятся к могуществу и не хотят могущественного царства. Но "арийцы" и арийцы-христиане, исповедовавшие религию, которая призывала к царству не от мира сего, всегда стремились к могуществу и создавали мировые царства. Евреи не имели царства не только мирового, но и самого малого, христиане же имели могущественные царства и стремились к экспансии и владычеству.
Неверно и то, что Россией правят евреи. Главные правители не евреи, видные евреи-коммунисты расстреляны или сидят в тюрьмах. Троцкий есть главный предмет ненависти. Евреи играли немалую роль в революции, они составляли существенный элемент в революционной интеллигенции, это совершенно естественно и определялось их угнетенным положением. Что евреи боролись за свободу, я считаю не специфической особенностью евреев, а специфической и отвратительной особенностью революции на известной стадии ее развития. В терроре якобинцев евреи ведь не играли никакой роли. Евреи же наполняют собой и эмиграцию. Я вспоминаю, что в годы моего пребывания в Советской России, в годы коммунистической революции еврей, хозяин дома, в котором я жил, при встрече со мной часто говорил: "Какая несправедливость, вы не будете отвечать за то, что Ленин русский, я же буду отвечать за то, что Троцкий еврей…". Печальнее всего, что реальности и факты не существуют для тех, мышление которых определяется… аффектами и маниакальными идеями. Более всего тут нужно духовное излечение».
Так писал Николай Бердяев в статье «Христианство и антисемитизм» в 1938 году.
Традиции, традиции… С одной стороны – традиция Соловьева, Толстого, Короленко, Бердяева. С другой – графа Дурново, «Союза русского народа», Лидии Тимашук. Которая из них возобладает в наши дни?..
Под Новый год обычно трещал телефон, звонили друзья, знакомые, сотрудники по редакции. На сей раз из работников журнала позвонили только Мироглов и Петров. Наши взаимные поздравления, пожелания были какими-то неловкими, принужденными. Никто ни словом не коснулся происшедшего. Петров спросил, стану ли я дежурить по номеру, я ответил, что возьмусь за читку листов, уже принесенных из типографии, сразу же после Нового года. И взялся. В первые дни января наступившего 1988-го приходил в журнал только для того, чтобы отдать прочитанное и запастись новой порцией. По-прежнему думалось: дойдет… дошло… не могло не дойти… Ведь все читают газеты, следят за происходящим в стране… Да и может ли быть, что в редакции не почувствовали – хотя бы через мое отношение, как его ни расценивай, – до чего все это серьезно…
Тем не менее в чем-то я понимал своих товарищей по редакции (я по-прежнему считал их своими товарищами): никому из них не пришлось пережить, скажем, ночи с 13 на 14 января 1953 года, то есть – пережить такой ночи…
Был холод, мороз – середина студеной вологодской зимы, снег скрипел под подошвами, казалось, на весь мертвым сном почивший город-городок. Мы с Феликсом Мароном, моим другом, студентом-однокурсником, ходили вдоль набережной – пустынной, безлюдной, слабо освещенной огнями редких фонарей. Смутно мерцала между пологих берегов закованная в лед, засыпанная снегом река. Кое-где, среди приземистых домиков, дремали похожие на нищенок заколоченные или превращенные в склады церквушки, угрюмо высилась громада собора, нависая над казарменного вида зданием нашего пединститута и деревянным, примыкающим к нему домом – студенческим общежитием…
Мы говорили о сообщении, опубликованном в тот день в газетах: арестованы врачи-отравители, в большинстве – с еврейскими фамилиями, упоминалось об иностранной разведке, международной еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», об известном буржуазном националисте Михоэлсе… Верить или не верить тому, что написано? Тому, что врачи, профессора, цвет нашей медицины – отравили Жданова, Щербакова, хотели убить маршалов и генералов, у них лечившихся?.. Верить или не верить?..
Тут содержалось, как матрешка в матрешке, по крайней мере три вопроса: виновны ли врачи? Если виновны, то ложится ли груз их вины на весь еврейский народ? И если ложится, то что делать, как жить дальше – нам с Феликсом? Ведь выходит, и мы виновны в смертях и отравлениях? Виновны, поскольку – «тоже евреи». А значит уже потому – не такие, как все остальные наши студенты. Какие же мы?..
Сумбур у нас в головах был полнейший. Но не в нем было дело. Мы чувствовали себя раздавленными, отторженными. Заживо вмороженными в лед одиночества. Испакощенными. Облепленными вонючей грязью. Завтра придем в институт – и нас будут обходить стороной, думать: «Эти – тоже… Как те…» Но мы-то здесь при чем? Разве мы кого-то убили? Но кому это важно, убили или нет. Важно другое – мы тоже…
На другое утро, чуть не всю ночь прошагав по набережной – отчаянье жгло, клокотало в нас, не давая замерзнуть, – мы понуро волоклись в институт. Глаза мои были слепы от стыда, я не мог смотреть в лицо своим однокурсникам. Кем был я для них? Любые мои слова, независимо от их сути, могли выглядеть как маскировка… В любых словах, обращенных ко мне, чудился скрытый намек, упрек… И хотя не было случая, чтобы кто-то в самом деле в чем-нибудь меня осудил, упрекнул, хотя, напротив, я замечал и на всю жизнь запомнил скорее сочувственные, соболезнующие взгляды, – все равно: то отчаяние, бессилие отвергнуть вину без вины – оставило на душе шрам навсегда. Прикосновение к нему вызывает боль, которую трудно представить, не испытавши… Ее не испытывали мои товарищи по редакции. И не дай им Бог ее испытать…
Спустя годы именно впечатления той морозной январской ночи легли в основание романа «Лабиринт». Он пролежал в моем столе 20 лет. Год назад я дал его прочесть Толмачеву. Он отверг публикацию романа в журнале, ничем не мотивировав отказ, хотя впоследствии, в порядке компенсации, что ли, согласился поддержать выход «Лабиринта» в издательстве: здесь он уже не нес за него особой ответственности, выступал одним из рецензентов… Что ж, и его я мог понять: ему тоже не доводилось пережить такой ночи…
С давней поры работы над романом у меня сохранились выписки, вырезки из газет. Близилось 13 января – славный юбилей: со времени «дела врачей» минуло ровно тридцать пять лет. Я отыскал в «архиве», сложенном на антресолях, старую папку, смахнул пыль, развязал шнурки…
«…Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Мингер и др.) были связаны с международной еврейской, буржуазно-националистической организацией "Джойнт", созданной американской разведкой якобы для оказания международной помощи евреям в других странах. На самом же деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву "об истреблении руководящих кадров СССР" из США от организации "Джойнт" через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы (Виноградов, М. Б. Коган, Егоров) оказались давнишними агентами английской разведки».
Это выписка из сообщения ТАСС, опубликованного в газетах 13 января 1953 года. «Известия» в передовой за то же число писали:
«Действия извергов направлялись иностранными разведками. Большинство продали тело и душу филиалу американской разведки – международной еврейской буржуазно-националистической организации "Джойнт". Полностью разоблачено отвратительное лицо этой грязной шпионской сионистской организации. Установлено, что профессиональные шпионы и убийцы из "Джойнт" использовали в качестве своих агентов растленных еврейских буржуазных националистов, которые проводят под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе…»
Я читал, перечитывал содержимое снятой с антресолей папки. Коричневый туман обволакивал меня, застилал глаза. Так чувствуешь себя, когда самолет входит в полосу густых облаков, где ни верха, ни низа, нет ориентиров, не видно ничего, кроме белесой мути, и несмотря на вибрацию корпуса, на гудения мотора, начинает казаться, что самолет завяз и висит в пространстве без движения, время замерло, застыло, перестало существовать…
В середине января Толмачев снова вручил мне «Вольный проезд» – с купюрами:
– Посмотри, мы тут кое-что подсократили.
– Зачем?.. Ты ведь знаешь мое мнение…
– Все равно посмотри.
– Я принес рукопись домой, перечитал – и снова почувствовал недоумение: неужели Толмачев, Петров, Мироглов, Антонов на самом деле хотят это опубликовать?.. Не может быть! Или я сбрендил, перестал понимать азбучные истины…
Я решил показать «Вольный проезд» профессору Жовтису Позвонил, договорились о встрече.
Все, что я знал об Александре Лазаревиче, характеризовало его как щепетильно честного, порой до излишних мелочей принципиального человека. Он с уважением относился к Толмачеву, в прошлом студенту, слушавшему его лекции по русскому фольклору в университете. Что же до меня, то мы с женой много лет были знакомы с Жовтисами – близко, домами. Но – «Платон мне друг, а истина…» Казалось, это изречение придумано как бы нарочно для Александра Лазаревича, и потому не на ком-то другом, а именно на нем я остановил свой выбор.
Но тут имелись еще кое-какие причины. Пока Александр Лазаревич читал привезенную мной рукопись, расположившись за столом, заваленном книгами и типографской версткой, я вспоминал, как выглядела этаже комната с аквариумом и мирно пасущимися между зеленых водорослей рыбками, с картинами, беспорядочно, по-студийному развешенными по стенам, с вырезанной из дерева головой смеющегося старика-казаха в углу – подарком Исаака Иткинда, дружившего с Жовтисом, – как выглядела эта комната после обыска в 1971 году… Что искали те, кому была поручена забота о безопасности народа и государства? Пулеметы? Холодное оружие? Радиостанцию, заброшенную ЦРУ?.. Искали «Раковый корпус» Солженицына и пленки с песнями Галича. «Раковый корпус» обнаружить не удалось, его у Жовтиса не было, а Галич отыскался, Жовтис его и не прятал, поскольку Александр Аркадьевич, заезжая в Алма-Ату в конце шестидесятых, до и во время уже начавшихся гонений хаживал к Жовтисам, как делали это и Юрий Осипович Домбровский, и московский переводчик Анатолий Сендык, и многие другие столь же подозрительные с точки зрения КГБ люди… Галич же не только хаживал, но и пел, а Жовтис записывал на магнитофон его хрипловатый голос, записывал неумело, по-любительски, и потом, как бы сохраняя живое тепло и радость, и острую грусть дружеских тех вечеров, голос Галича звучал иногда здесь для тесного дружеского круга… Искали «самиздатовского» Солженицына, искали пленки с Галичем, а в Павлодаре готовилось шоу в стиле блаженной памяти пятидесятых годов: находился под следствием, а затем предстал перед судом Шафер, преподаватель местного пединститута, за ужасающее злодеяние – обнаруженный при обыске румынский журнал со статьей об Израиле («сионистская пропаганда!»), за ходившего по рукам Солженицына («антисоветская агитация!»)… Шафера я никогда не видел, но по рассказам рисовался он мне типичным идеалистом-шестидесятником, романтиком-книгочеем, из тех говорунов, которые до смерти любили за полночь ораторствовать на кухне, а при случае и в более широкой аудитории, порою же, оглядевшись по сторонам и не обнаружив на ту минуту поблизости явного сексота, бросить вольное крамольное словцо… Все мы, «дети Двадцатого съезда», в большей или меньшей степени были такими. Но не всех КГБ, возглавляемый в ту пору Андроповым, приглашал на первые роли. Шафер занял место в цепочке, начатой Даниэлем и Синявским. На следствии, будучи отнюдь не заговорщиком и конспиратором, а обыкновенным размазней-интеллигентом (опять-таки – как все мы!..), он что-то сболтнул в растерянности о том, откуда у него взялся отпечатанный под копирку Солженицын и у кого находится второй или третий экземпляр… Дальнейшие розыски привели «компетентные органы» к Ефиму Иосифовичу Ландау и уже описанному финалу, другие нити тянулись к столь же грозной «агентуре», в том числе – к Жовтису Я помнил эту комнату после обыска: так же, как сейчас, плавали в аквариуме рыбки, блаженно улыбался иткиндовский аксакал, а в ящике, из которого шел дурной запах, резвились хомячки – тогдашнее увлечение Жовтиса, но все остальное было как бы сдвинуто с привычного места, среди книг, на стеллажах и в шкафах царил полнейший раскардаш, и мы с женой, приехав по звонку Александра Лазаревича, удалясь подальше от телефона, туда, где всего безопасней – на кухню, обсуждали с Жовтисами ситуацию: как вести себя и что отвечать на допросах, как разговаривать с университетской администрацией, которая, разумеется, обязана выразить свое отношение к преподавателю, воспитателю студенчества и т. д. и т. п., оказавшемуся… Надо заметить, и Александр Лазаревич, маленький, сердитый, стремительный в движениях, похожий в своих круглых очках и с реденькими, дыбом стоящими волосами на взъерошенного птенца, и Галина Евгеньевна, его жена, статная, картинно-красивая, с классическими чертами холодноватого, спокойного лица, держались безукоризненно. Деловито. Было решено, что моя жена, которая вот-вот уезжала в командировку в Москву, встретится с Галичем, расскажет, как у нас преследуют за его песни, формально никем не объявленные противозаконными… Это во-первых. А во-вторых – обратится в приемную ЦК КПСС… Мы выглядели – в собственных глазах – многоопытными, знающими толк в правозащитных делах людьми. Но Галич, с которым неделю спустя встретилась моя жена (на улице, где-то поблизости от Площади Революции: «Дома у меня все прослушивается», – объяснил он), сообщил ей, что недавно одна из почитательниц его песен получила за них в Одессе три года, что происходящее в Алма-Ате – в порядке вещей, а ЦК КПСС… Навряд ли стоит туда обращаться… Ландау покончил с собой. Шаферу дали срок – по-моему, он отбыл в заключении полтора года, Жовтиса выставили из университета, к преподавательской работе он вернулся только спустя восемь лет… И вот теперь, на третьем году перестройки, я сидел у него дома, дожидаясь, когда он прочтет рукопись и выскажет свое мнение.
Теперь уже не у него – у меня возникла «ситуация». Совершенно не похожая на ту, пятнадцатилетней давности… Но тоже по-своему сложная. И вопрос, проклятый и неизбежный вопрос «что делать?» – стоял теперь передо мной.
Именно этот вопрос привел меня к Жовтису Что до «мнения», то в нем я не сомневался. Поскольку, будучи душеприказчиком А. Б. Никольской, это он предложил нашему журналу ее не опубликованную при жизни повесть «Передай дальше!», имевшую затем серьезный, на всю страну, успех – и не только по причине «лагерной темы»… И это он глубоко возмущен был антисемитскими мыслями прежде высоко ценимого им Астафьева – в переписке с Эйдельманом. И это он обратился с письмом к Даниилу Гранину, доказывая, что никакими нравственными доводами нельзя оправдать пребывание Зубра – Тимофеева-Ресовского в фашистской Германии, его работу в научном, далеко не безразличном для Гитлера институте. И он же наконец за день или два до того, позвонил мне по поводу статьи в «Комсомольской правде», где мимоходом, среди прочих неформалов, помянуты были «наци»:
– Что это такое? «Наци»! – гремел Жовтис, и телефонная трубка в моей руке вот-вот, казалось, не выдержит – и лопнет, рассыпется на мелкие осколки. – «Наци»! Фашисты! Где?.. У нас! И так бесстрастно, перечислительно сообщать об этом в молодежной газете?.. До чего мы дошли!
Короче, я полностью доверял Жовтису, отчего и решился нарушить редакционную этику и попросить его прочесть рукопись. Да и – не самый ли близкий он журналу человек?..
… И я дождался. Жовтис прочел.
– Что же вас не устраивает? – спросил он, помолчав, пожевав губами.
Я объяснил.
– Пожалуй, вы правы, – сказал Жовтис, но как-то вяловато. – И что вы предлагаете?
Я объяснил.
– Так чего хочет, по-вашему, Толмачев? Добиваться популярности любой ценой? Что же, теперь печатать все подряд, если у нас гласность и демократия? Но во имя чего? В чем позиция самого журнала?..
Мало-помалу он разогревался.
– Купюры?.. Но позвольте, «Современные записки» за 1924 год имеются в Ленинской библиотеке, где, кстати, я в свое время их и читал. Доступ к ним довольно свободный. И если кто– то сравнит их с намечаемой публикацией… Получится скандал: кто дает журналу право произвольным образом уродовать текст умершего автора? Это противоречит элементарным нормам! Так и передайте Толмачеву – противоречит!
Надеялся ли я, что Александр Лазаревич сам сообщит Толмачеву свое мнение? Где-то подспудно такая мысль у меня бродила. Когда ты оказываешься в единственном числе против всех, подтверждение твоей точки зрения даже одним человеком увеличивает твои силы вдвое. А главное – доказывает, что ты не окончательно спятил, твои мысли разделяет кто-то еще…
– И кстати: при всем, так сказать, своеобразии аргументации Марины Цветаевой ее нельзя упрекнуть в антисемитизме. Здесь говорится, что евреи бывают разные: одни за революцию, это плохие, а другие хорошие – те, что стреляют в Ленина, то есть Фанни Каплан, и в Урицкого, то есть Каннегиссер… Но если, как можно понять по сделанным редакцией пометкам, «хорошие», то есть Фанни Каплан и Каннегиссер, вычеркиваются, то остаются только «плохие» – и вся внутренняя логика очерка ломается!.. Вы скажите, скажите об этом Толмачеву!..
Он повторил несколько раз, и с нарастающей настойчивостью: «Скажите Толмачеву!..»
– Может быть, вы сами об этом ему скажете? – предложил я.
– Ну, нет, – осекся Жовтис. И поморщился, пожевал губами: – Видите ли, это выглядело бы не вполне этично. Ведь он о моем мнении не спрашивает… – В самом деле, тут ему трудно было бы возразить. Да я и не собирался. – Но если он спросит, – уже более уверенно продолжал Александр Лазаревич, – тогда я изложу ему свою точку зрения. Если спросит…
Я был рад хотя бы тому, что наши мнения совпали в главном…
Я был рад этому, но по дороге домой, трясясь в автобусе, идущем по мерзлым серым улицам в сторону моего микрорайона (зима выдалась бесснежная, с липким, сырым морозцем по утрам и вечерам), я вдруг ощутил страшную усталость. Может быть, усталость эта, образуя неведомое науке поле, исходила от унылых, ссутулившихся людей, наполнявших автобус, от их понурых лиц, тусклых, без единой живой искорки глаз, от их портфелей, сумок и авосек, в которых болталась жалкая, случайная добыча, выхваченная в толчее очередей, куда торопились они после работы, – не знаю, но усталость навалилась на меня и проникла внутрь. Как нелепо выглядел я со своими претензиями, своими проблемами-вопросами – среди людей, поглощенных каждодневными заботами о хлебе насущном! Я мотаюсь, треплю нервы – и тем, и другим, и себе, и жене, и Жовтису, который восемь лет был без работы из-за пленок с песнями Галича… Да пропади все пропадом! Что, мне больше всех это нужно?.. И мои «еврейские амбиции»… Ведь и это – игра, не больше! Какой я, к дьяволу, еврей? Ни слова не знаю, кроме «азохен вей», слышал когда-то в детстве от бабушки с дедушкой. Ну, читал и любил – но не так чтобы до беспамятства – Шолом-Алейхема, два года назад впервые познакомился с поэзией Бялика… Что еще? Палестина, Израиль?.. Да если разобраться, мне куда ближе та же Англия: сколько мне о ней известно – книги, театр, Шекспир, «ай эм вери сор ри»… Что я мог, то и сделал: высказал свою точку зрения. Она в редакции известна всем. А остальное зависит не от меня.
Тем не менее, чтобы избежать любых кривотолков и внести полную ясность, я, вернувшись домой, сел за машинку и написал:
«Уважаемый Геннадий Иванович!
Я вновь перечитал – теперь уже с обозначенными в тексте купюрами – "Вольный проезд" Марины Цветаевой. И по-прежнему полагаю, что печатать это произведение в журнале сейчас не следует.
1. "Вольный проезд", написанный Мариной Цветаевой в тяжелейший для нее период, имеет явно антиреволюционный, антисоветский настрой, соединенный с изрядной долей антисемитизма. Очевидно, и Вы – хотя бы отчасти – со мной согласны в этом, поскольку намерены сделать купюры.
2. Если иметь в виду биографию Марины Цветаевой, то можно понять, почему в 1918 году "Вольный проезд" был ею написан. Однако почему, с какой целью необходимо печатать эту вещь в массовом литературном журнале в настоящее время?
3. Мне кажется, что "Вольный проезд" вполне уместно было бы опубликовать в собрании сочинений Марины Цветаевой с комментарием,[6] в нашем журнале вряд ли возможном.
4. "Вольный проезд" был напечатан в 1924 году в Париже, в "Современных записках" – издании, вполне доступном для чтения и в Ленинской библиотеке, и за рубежом. Вполне вероятно, что публикация "Вольного проезда" в нашем журнале, вызывающем всюду немалый интерес, будет иметь определенный резонанс. И тогда простое сопоставление полного текста в "Современных записках" и усеченного в журнале приведут к упрекам в прямом искажении существа материала, к утверждению, что путем обширных купюр Марина Цветаева эмигрантского периода стараниями редакции превращена из врага советской власти в чуть ли не ее друга… И это, по-вашему, будет торжеством истины? Гласности? Демократии?..
5. Как известно, ни одно изменение в тексте, принятом к публикации, не может быть внесено без предварительного согласования с автором. А если автора нет в живых? Тогда его тексты можно препарировать как угодно – так получается?..
6. Думаю, что гласность и демократия предполагают и ясность позиции, и чувство ответственности. Чем руководствуетесь Вы, намереваясь опубликовать "Вольный проезд"? Ведь и Вам, и мне, и всей редакции горько памятна история с резкой критикой журнала в связи с "вредом, наносимым делу интернационального воспитания". Если после публикации "Вольного проезда" журнал обвинят в потакании антисемитизму, в разжигании национальной розни, то обвинение это будет вполне заслуженным.
7. Если бы мной руководило намерение причинить зло журналу и Вам, Геннадий Иванович, лично, я бы поддержал намерение напечатать "Вольный проезд". Но и Вам, и своим коллегам по редакции я предпочитаю говорить резкие и неприятные вещи, исходя из добрых чувств, желая предотвратить в лучшем случае необдуманное, в худшем же – злое дело, противоречащее духу перестройки, как я ее понимаю.
8. Если Вы все-таки решите, что "Вольный проезд" должен быть напечатан, то я считаю, что при этом следовало бы проконсультироваться по этому вопросу со специалистами по творчеству Марины Цветаевой (например, А. А. Саакянц) и обсудить намерение редакции с членами редколлегии журнала, поставив их в известность и об этом письме, которое носит, как Вы понимаете, отнюдь не частный характер».
Член редколлегии, заведующий отделом прозы
Юрий Герт
– Ты правильно представляешь дело, – сказал Толмачев, пробежав два моих листочка. – Пускай решает редколлегия.
– И на этом – точка, – сказал я. – Свое мнение я выразил, остальное не от меня зависит.
Выйдя из кабинета главного редактора, я и вправду испытывал облегчение, уверенный, что точка в самом деле поставлена. Я сделал, что мог, и упрекать себя мне не в чем.
Сейчас, перечитывая свое письмо, адресованное Толмачеву два года назад, я, в сущности, готов был бы подписаться сызнова почти под любым его словом. Два вопроса, в нем поставленные, кажутся мне узловыми. Первый обозначен в самом начале, там сказано: «антиреволюционный, антисоветский настрой». Злость, досада, ощущение банкротства владеют нами, требуют найти причину долговременных наших бедствий – и во всем винят Октябрьскую революцию. Ругать революцию, поносить Ленина, большевиков сделалось модой, своего рода бонтоном. Однако если недавние молитвы сменяются площадной бранью, она, эта площадная брань, представляется мне зародышем новых молитв. И в самом деле: было бы желание согнуться, хлопнуться на колени, хряснуть об пол привычным к тому лбом – а уж кумиры, идолы всегда появятся. Не новые, так старые: царь-батюшка (кстати, отрекшийся от престола без всякой помощи Ленина и большевиков), великодержавность, триединая формула Уварова, истинные спасители Отечества – Корнилов, Краснов, Колчак. И смешанные с молитвами проклятия Октябрю, сочиненному Лениным и шайкой заговорщиков-экстремистов, узурпировавших власть в процветающей, торжественно шествующей впереди человечества России, полной мира и согласия… Не думаю, что монархизм, неприятие Октября Мариной Цветаевой дают основание уподобить ее какому-нибудь унтер-офицеру-корниловцу готовому положить (а может быть – и положившему!) голову за вполне реального (хотя – вполне ли реального?..) государя– императора… Политика, этика, поэзия – все в ней причудливо соединялось, и чего было больше?.. Ее влек Наполеон. И герцог Рейхштадтский – «Орленок», сын Наполеона, воспетый Эдмондом Ростаном. Их портреты висели над ее девической постелью… Каким рисовался ей Николай II, какого покроя носил одежды, какие слова (скорее – стихи!..) слышались ей излетевшими из его уст?.. Пошлость всегда ее страшила, обязательное для всех – склоняло к бунту. В начале Первой мировой войны, в ура-патриотическом угаре, охватившем Россию (да только ли ее?..), она дерзко, вызывающе бросает:
- Ты миру отдана на травлю,
- И счета нет твоим врагам!
- Ну как же я тебя оставлю,
- Ну как же я тебя предам?
- И где возьму благоразумье:
- «За око – око, кровь – за кровь»,
- Германия – мое безумье!
- Германия – моя любовь!
О какой Германии она писала, кто был ей мил – Людендорф, кайзер Вильгельм, Крупп, германский милитаризм?.. Да нет же – Кант и Гете, Гейне и Лорелея… Можно ли, по законам военного времени, судить ее за предательство, измену, переход на сторону врага («Германия – моя любовь!..»)?.. Законы поэзии не совпадают с положениями Уголовного кодекса.
Монархизм, антиреволюционность Марины Цветаевой требуют понимания, расшифровки. Без этого в коричневом тумане, энергично, с ведома высоких покровителей распространяемом «Памятью», можно перепутать «Современник» Некрасова и «Наш современник» Викулова, как и Марину Цветаеву с какой-нибудь Глушковой…
Мне странно было тогда, два года назад, почему столь простые мысли не приходят в голову самому Толмачеву? И почему я, никогда не бывший членом партии, неоднократно порицаемый не столько изустно, сколько печатно за «идеологические ошибки», «идейные пороки», «огульное охаивание» и «отсутствие положительного идеала» (было даже специальное постановление ЦК КП Казахстана, в котором, среди «порочных», фигурировало и мое имя – рядом с именем Анатолия Ананьева…), – почему я, выходит, защищаю Октябрьскую революцию, я – а не Толмачев?.. Ведь это он носит партийный билет с профилем Ленина, он с младых ногтей – доверенное лицо этой партии, то главный редактор издательства, то редактор газеты, член – то горкома, то обкома, то есть борец за чистоту партийной идеологии, еще недавно пресекавший самые малые отступления от нее, – отчего же вдруг наши роли вроде бы поменялись?.. Хотя ведь кто, как не он, руководит журналом, занимает редакторское кресло, которого мне никогда не занять, и кресло это, за которое он держится, напрягая все мышцы, предоставила ему та же партия, она усадила его за редакторский стол, занесла пожизненно в списки номенклатуры, она его выручит, не даст пропасть в любой ситуации, в крайности – пересадит с одного кресла на другое… Тут уж если не искренняя преданность, так хотя бы долг, порядочность велят служить, платить по таксе своему благодетелю…
Вот что было мне странно. И я – в своем письме – думал все еще раз расставить по своим местам, сделать явным, очевидным. И – антисемитские интонации: да нужно было заткнуть уши, залить их воском, чтобы не расслышать хорошо знакомые голоса…
Указывать на них редакции, Толмачеву?.. Тоже странность. И странность, далеко выходящая за пределы «еврейского вопроса». Ведь все мы были здесь, в Алма-Ате, в декабре 1986 года, то есть год назад, в памяти у каждого хранился еще не поблекший, не стершийся снимок тех событий…
Помню, утром 17 декабря я заглянул в больницу скорой помощи, к профессору Головачеву, моему «куратору» по медицинской части, и он, чрезвычайно встревоженный, рассказал мне: ночью состоялся городской партактив, ситуация сложная, возможны беспорядки, что же до больницы, то есть распоряжение – на всякий случай готовиться к приему раненых…
Накануне было объявлено, что Кунаев отстранен от должности Первого, вместо него выбран прилетевший из Москвы Колбин, в прошлом секретарь обкома в Ульяновске, а до того – второй секретарь в Грузии, когда во главе ЦК там стоял Шеварнадзе… Говорили, «пересмена» произошла ночью, скоротечное заседание бюро длилось пятнадцать минут… Александр Лазаревич Жовтис, с которым мы встретились 16-го вечером в театре, задумчиво сказал: «Это может плохо кончиться…» Я не понял его. Ухода Кунаева ждали, считали предрешенным, огромный его портрет, с тремя звездами Героя, висел в центре города рядом с таким же огромным портретом Брежнева, для Казахстана оба олицетворяли эпоху застоя… Как же так? Почему – «плохо кончиться»?.. По пути из больницы в редакцию я думал об этом, сопоставляя прогноз Жовтиса, партактив, растерянность Головачева…
В редакции, находящейся в помпезном здании Союза писателей Казахстана, я услышал, что с утра и здесь, в актовом зале, проходил актив. А часа в три за окнами нашей комнаты, выходящими на главный в городе Коммунистический проспект, возникло невиданное зрелище. Окна располагались на первом этаже, но достаточно высоко над тротуаром, до проезжей части улицы было метров двадцать, ее было хорошо видно – со стороны вокзала по проспекту двигалась довольно длинная колонна, человек на 400–500 состоявшая из молодых людей, лет по 18–20, юношей и девушек, сплошь казахов. Перед колонной несли портрет Ленина и транспарант: «Каждому народу – своего вождя». Демонстранты были возбуждены, у многих в руках – палки с гвоздями на концах, у одного парня я заметил насаженные на длинную ручку вилы. Палки и вилы вскинуты были вверх, как острия штыков…
Колонна остановилась перед Союзом писателей, слышались крики, группа юношей отделилась от основной массы и кинулась к входным дверям. Стоявшие в колонне кричали, и кого-то вызывая к себе, я разобрал только «Олжас! Олжас!..»
В двери ломились, колотили кулаками, но то ли двери, защелкнутые на ключ вахтером, оказались крепкими, то ли не столь уж много усилий применяли рвавшиеся в Союз, – в здание никто не проник. Я ждал, что кто-нибудь из писателей-казахов, может быть, сам Олжас Сулейменов, откроет дверь, выйдет к мол од ежи… Никто не вышел. Было несколько мгновений, когда ледяной ручеек страха заструился у меня между лопаток. Так начинаются революции, – подумал я, стоя у подоконника и вглядываясь через мутные двойные стекла в молодые лица, румяные от возбуждения и холода. – Если они ворвутся в вестибюль, все будет сломано, разгромлено, сокрушено… Выросший с революционными песнями на устах («Мы – молодая гвардия рабочих и крестьян…»), я вдруг ощутил себя петербургским обывателем (дворянином?., буржуа?..), испуганным событиями, последовавшими за взятием Зимнего дворца. Не книжной романтикой – живым ветром бунта и мятежа дохнула на меня в тот миг улица сквозь двойные рамы…
Простояв под окнами Союза минут двадцать или тридцать (к молодым людям, как оказалось потом – студентам, никто так и не вышел), колонна тронулась вверх по проспекту, в сторону ЦК и простершейся перед ним площади имени Брежнева. Вечером стало известно, что там, на площади, собралось множество народа, шел митинг, руководство республики, привыкшее к торжественным заседаниям и праздничным докладам, казенными, мертвыми словами убеждало людей разойтись, толпы не расходились, напряжение нарастало… На другой день толпы рвались к зданию ЦК, которое охраняла милиция, затем прибыли войска особого назначения, с овчарками, на площадь вывели колонны рабочих, построили в шеренги. Я сам видел развороченную облицовку фонтанов, длинного здания Агропрома, вытянутого вдоль площади: куски гранита летели в милиционеров, солдат, те отвечали на камни дубинками, рабочие – обрезками свинцового троса… Знакомый врач-хирург рассказывал, каким потоком в его травматологическое отделение везли раненых казахов, многие из них были в состоянии исступления, не хотели, чтобы к ним прикасались русские врачи. Журналисты с телевидения передавали, как толпа раздавила инженера-телеоператора, отца троих детей, кажется, немца. Слухи, многократно преувеличенные – о сотнях жертв, о трупах, которые вывозили из города и хоронили втихаря, чтобы скрыть от родных, – слухи, один ужасней другого, распространялись по городу, как раздуваемый ветром степной пожар, однажды мне довелось его наблюдать… Русские, т. е. все не-казахи, передавали, будто бы казахи ворвались в детский сад и перерезали всех русских, казахи сообщали о том же, но с противоположным смыслом. 18 декабря – день рождения нашего внука, моя жена попыталась из микрорайона пробраться в центр, чтобы купить цветов, – там, в микрорайоне, трудно было поверить, что центральные улицы Алма-Аты, обычно спокойные, даже пустоватые, вышли из-под контроля. Часть пути она ехала, потом троллейбусы встали, она вышла. Возле стадиона, перегородив дорогу, лежал перевернутый автобус. Она свернула к второму по величине алма-атинскому рынку – Никольскому. Толпы людей, в основном молодежи, это район студенческих общежитий, возвращались с площади, как разбитые на поле брани полки, многие несли в руках палки с гвоздями, металлические совки, чугунные печные кочережки. Все-таки она купила цветов и кое-как добралась до дома… Сын одного из наших сотрудников, работавший на заводе учеником, сам просился на площадь, попеняв на молодость, его взяли – там, в шеренге, он отбивался от устремившихся к ЦК, волнами накатывавших толп… Помню, постоянный автор нашего журнала, вбежав в редакцию, с трясущейся от ярости челюстью рассказывал, как удалось ему вырвать из рук студентов-казахов женщину, торговавшую пирожками, и втолкнуть в двери «Детского мира»… «Мне бы автомат! Пулемет! Я бы их всех крошил – подряд!..» – кричал он. Тщетно пытались его успокоить…
Не стану скороговоркой давать оценку тому, что тогда произошло. Все сложнее, чем это может показаться. Если Кунаев – один из отцов застоя, то следовало, вероятно, в дальнейшем это доказать, чтобы социальные факторы, не обжигая национальных чувств, оказались на первом плане. Но этого не было сделано – несмотря на все обещания и Колбина, и центрального партийного руководства. Осталась боль, обида: отчего нужно было «привозить варяга»? Да еще – тайком, ночным рейсом? И под разговоры о демократии испытанным способом продиктовать самодержавную волю Москвы ходившей до того в фаворитах республике?..
Тогда, после потрясших всю республику декабрьских дней, перед самым Новым годом в Союз писателей Казахстана приехал Колбин, состоялся «дружеский, откровенный разговор» в зале, вместившем 600 человек, финалом были поцелуи, которыми обменялись новый Первый секретарь ЦК и первый секретарь Союза писателей Олжас Сулейменов… Но тягостная атмосфера взаимных национальных претензий, раздражения, противостояния, унаследованная от эпохи застоя, когда казахи были недовольны нашествием русских, губительным, как считали они, для казахского языка, культуры, традиционного образа жизни (распаханная целина вместо пастбищ и т. п.), русские же негодовали на разнообразные приоритеты и привилегии, которыми пользовалось коренное население, – тягостная эта атмосфера после декабрьской бури не очистилась, а насытилась электричеством. Национальный фактор перестал довольствоваться кухонным брюзжанием и маскировкой с помощью канцелярских, полных хитроумного политиканства циркуляров. Он вышел на улицу. Его зловещее неистовство продемонстрировало свою силу у всех на виду. Запах гари отравил воздух, стало трудно дышать… Худо ли, хорошо ли, но прежде существовала принятая всеми за реальность иллюзия: зло исходит от тоталитарного государства. Оказалось – оно рассыпано, растворено в душах людей. Не напечатанные в газетах призывы, не традиционное послушание – рванувшиеся из глухих подземелий страсти бросили людей на площадь, заставили хватать камни, палки, дубинки, ненавидеть, стремиться причинить боль друг другу – все вдруг оказались разбитыми по разным лагерям и помимо личных воль, привязанностей, желаний вовлеченными в состояние опаски, подозрительности, вражды. Что-то надломилось, рухнуло. Так надломилось, рухнуло внешнее благоденствие, гуманистическое единство Европы в 1914 году. В ее храмах молились уже не о мире на земле, а о победе и сохранении жизни – для своих, о поражении и смерти для тех, кого еще вчера считали своими «ближними»… Цветущие нивы превратились в кровавые поля сражений. На этих полях, покрытых обломками человеческих черепов и ржавыми осколками снарядов, на почве, удобренной растертыми в порошок иллюзиями, взошел новый, невиданный злак – фашизм.
…Казалось, вот он – декабрь 1986 года, первый подземный толчок, едва достигший Москвы, но качнувший твердь под нашими ногами. Он должен был насторожить каждого, предостеречь от того, чтобы ворошить угли, раздувать жар, плескать бензином в пламя, имя которому – национальный вопрос.
Тяжкая вещь – одиночество.
Возможно, какой-нибудь чистокровный британец в прошлом веке способен был, испытывая несокрушимое уважение к своей персоне, посиживать себе перед камином с трубкой а зубах, стаканом грога в руке и томиком Диккенса на коленях, и плевать ему было на все, что происходит за стенами его дома, и, в частности, на то, что думают о нем Джон Смит и Боб Чейнсток.
Я не британец, у меня нет ни камина, ни трубки, ни грога, и даже будь они – все равно ничто не заменило бы мне редакцию с круговоротом дел, трепом, дружеским сочувствием по разным поводам, ответственностью за чьи-то рукописи, а значит – судьбы… Я родился и прожил всю жизнь не в Британии, а в России, где быть как все, быть вместе со всеми – хорошо, порядочно, нравственно, а оказаться в одиночестве, выступить из общего ряда и повернуть против всех – значит навлечь на себя неодобрение, осуждение, подвергнуться благородному презрению и в конце концов – остракизму.
Я ничуть не сомневался в том, что до сих пор вел себя правильно, тем не менее на душе у меня было тоскливо, беспокойно. Связи с близкими мне людьми рвались, как гнилые нитки. Вакуум вокруг разрастался. Внешне все оставалось по– прежнему, я ходил в редакцию, читал и правил чистые листы, как положено дежурному редактору, спешил, чтобы не задерживать печатный цех… Но присущая нашему маленькому коллективу простота отношений, грубоватая их откровенность исчезли. Со мной разговаривали холодно, вежливо, с подчеркнутой учтивостью, я отвечал тем же. Почти неприкрытую ненависть к себе я чувствовал со стороны только одного человека. Не знаю, может быть, на его месте тоже испытывал бы неприязнь к тому, кто отклонил мою повесть от публикации… Но у Карпенко личная обида наложилась на ультрамодные идеи, усвоенные за год жизни в Москве, собственная судьба сопряглась в его сознании с судьбой России… Его я понимал, его поведение, не входя в мотивы, представлялось мне естественным. Другое дело – Валерий Антонов; каждый день я ожидал, что он подойдет ко мне или позвонит… Но он не звонил, не подходил. Иногда мне хотелось первому сделать шаг, поднять телефонную трубку, набрать номер… Но что-то меня останавливало.
Что до знакомых и друзей, не связанных с редакцией, то никто из них не читал рукопись Марины Цветаевой. В том, что они разделяют мои соображения, заключалась явная для меня натяжка. Слишком многое было против меня. Я никого не убеждал в своей правоте, убедить могло единственное – текст, которого я не мог им представить…
Так, хотя и в ином варианте, повторялась для меня ситуация пятилетней давности, когда мы с Галиной Васильевной Черноголовиной и Виктором Мирогловым выступили против Владимирова, помощника Кунаева. Многие разделяли наше отношение к этому всесильному ничтожеству. Но нас никто не поддержал. Никто не вышел к трибуне на писательском пленуме, чтобы подтвердить обвинения, высказанные нами перед Кунаевым, который один мог обуздать своего выкормыша… Все прятали глаза, толковали о погоде, об армянском коньяке, только что появившемся в баре, но продающемся с двойной наценкой… Ничего другого словно не существовало.
Помню, перед самым пленумом после моих настойчивых звонков ко мне заехал старый мой друг Владилен Берденников. Долгие годы мы были близки – еще с той давней поры, когда жили в Караганде, работали в одной редакции… Теперь он был писателем, автором нескольких хороших, честных книг. Мы ходили по скверику, рядом с моим домом, и я, не волнуя свою жену, рассказывал ему кое-какие подробности – о нашем походе к Кунаеву, о его заключительной фразе: «Пускай ваши товарищи выступят на пленуме, который у вас начнется на следующей неделе… Пускай выступают, критикуют, никого не боятся…» Берденников, дослушав, изложил свои хорошо продуманные аргументы, из которых следовало, что мы поступили крайне легкомысленно, что вреда от этого может быть больше, чем пользы, что… Короче, что кашу, заваренную нами, нам же и расхлебывать. Что ж, у него была своя логика… Я не спорил. Мы простились, и прошло довольно много времени, пока наши отношения вновь наладились, но какая-то трещина в них осталась надолго.
Потом я не раз думал: почему так получилось?.. У каждого были свои причины, своя логика поведения: один, исходя из печального опыта, не верил в успех, другой попросту трусил, третий когда-то с помощью того же Владимирова, многих державшего на крючке, получил квартиру и не хотел подводить своего патрона, что чисто по-человечески тоже можно понять. Все можно понять, все можно объяснить. И все-таки… Почему люди поступают по-разному? Потому что они разные люди? Или потому что наряду с одной логикой возможна другая? Ничуть не менее логичная?.. Но приводящая к иной линии поведения, иным поступкам?.. Выходит, не ошибки в цепочке суждений и выводов (а разве не о них, не об этих ошибках спорят?..), а исходные начала все решают, прочее – лишь следствия. Ведь имеется своя безукоризненная логика в том, что когда кто-нибудь тонет, а вы не умеете плавать, то не бросаетесь в воду, на помощь тонущему? Но есть и другая логика, согласно которой вы бросаетесь… Все-таки бросаетесь… Не можете не броситься… Поскольку вы любите этого человека. В первом случае тонущий вам безразличен, а, может быть, и враждебен, во втором же – вы его любите, он дорог вам… И это все решает и объясняет.
Всегда есть эта другая логика… Ее определяют – в одном случае любовь, в другом – нравственные постулаты, в третьем – самоуважение, понятие чести… Все так. Но раньше я жил в полной уверенности, что у меня и у тех, кто был рядом со мной, одна и та же логика, одни и те же исходные начала… И вот – мы перестали чувствовать, понимать друг друга.
Возмущение, злоба, ярость – что мною владело?.. Скорее всего – удивление…
Однако ни малейшего удивления не ощутил я, когда однажды мне позвонила Галина Васильевна Черноголовина и сказала, что, будучи членом партбюро Союза писателей Казахстана и готовясь к докладу о работе журнала, она познакомилась с «Вольным проездом» и считает, что его публикация в нынешних условиях может радовать только «Память» и будет способствовать разжиганию национальной вражды. Свою точку зрения она изложит редактору письменно и постарается отговорить его от ошибочного шага.