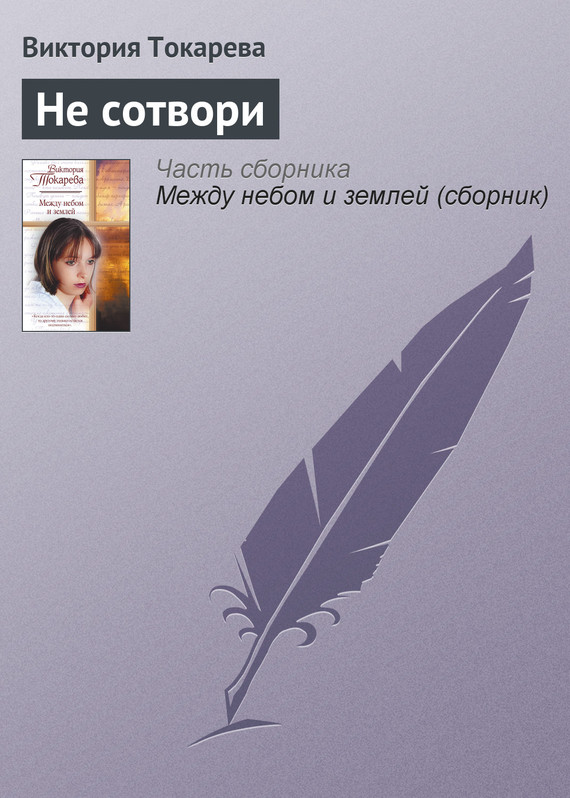Блудное художество Трускиновская Далия

– У лоха одного. Бежал с каторги, прибился к мазам, с шурами дружился, а толку от него – чуть. Баба права – дурак дураком, сущий фаля.
– Ну, ладно. Ступай.
Но это не значило, что архаровская подозрительность, встрепенувшись было, снова задремала. На остроносой Демкиной физиономии вранье было еще не крупными буквами прописано – так, карандашиком намечено. И неудивительно – ремесло у Демки такое, чтобы врать, не краснея.
– Постой! – вдруг приказал Архаров.
Подчиненный резко обернулся.
Тревога на Демкиной остроносой рожице была более красноречива, чем трагедия господина Сумарокова.
– Что Ершов?
– Прозванию соответствует, ваша милость. Ты ему слово, а он тебе десять.
– Выйдет из него толк?
Архаров, принимая новичка на службу, как всегда, исходил из имени. Евдоким – значит «славный». Так что была надежда воспитать хорошего полицейского. Опять же, не со стороны взяли, а из молодых десятских, кое-чему уже обучен.
Демка, польщенный тем, что обер-полицмейстер вроде как с ним советуется, тщательно обдумал ответ. Архаров же наблюдал за его лицом – уловил и беззвучный вздох облегчения, и движение плеч, вздернувшихся было, когда Демка услышал оклик, и исчезновение тревожной складочки между бровями.
– Выйдет, ваша милость.
– Ну, ступай, Клавароша ко мне позови. Он там, поди, в канцелярии дожидается.
Француз явился, поклонился с той самой грацией, которой Архарову так недоставало в его великосветских маневрах, и приступил к докладу, сверяясь с записями на мятой бумажке.
Все это время он суетился вокруг скромного домашнего учителя в семействе отставного гвардейского полковника Шитова, носившего подозрительное прозвание – де Берни. Клаварош отыскал двух человек из той дворни, что набрали шулера для особняка в Кожевниках. Обоим он втихомолку показал учителя, но они его не признали. Но один был истопник, другой – из кухонных мужиков, с господами встречались редко, опять же, прошло время. За это время худощавый господин мог наесть брюшко, а полный господин – отощать, кудрявый господин – облысеть, а молодящийся сорокалетний на вид господин – под воздействием хворобы вмиг обернуться шестидесятилетним.
– Это все? – спросил Архаров.
– Нет, ваша милость, я говорил с его товарищами, с танцевальным учителем Ла Раме, с музыкальным учителем Равальяком, он учит играть на скрипке и на виолончелях. Ла Раме после двух бутылок венгерского обещал дать мне рекомендацию, чтобы меня взяли фехтовальным учителем к мальчику. Ла Раме – парижанин, он хочет найти место у богатой дамы, вдовы, не очень старой, я обещал.
– К Марфе его пристроишь, что ли? – пошутил Архаров. Но шутки ему не давались – Клаварош усмехнулся и пожал плечами с видом человека светского, сглаживающего чужую неловкость.
Удивительно было, откуда во французском кучере с весьма подозрительным прошлым эти манеры не просто знатного человека, а даже человека, воспитанного для красивой жизни, для мира, где положено царить изяществу. Недаром Марфа, не имевшая вкуса, но имевшая острейший нюх, так сражалась за его благосклонность.
– Нет, ваша милость, я не стану искать для него богатую вдову. Я наймусь давать уроки шпажного боя мальчику и попытаюсь увидеть бумаги этого кавалера де Берни.
– Мусью Клаварош, я твой шпажный бой знаю, – уже не шутя сказал Архаров. – Ты дерешься не по-дворянски, я видел. Ты шпагу в руке для приличия держишь, а сам брыкаешься, как стоялый жеребец. Тут же тебя и раскусят.
– Нет, ваша милость, я сумею преподать правильные уроки.
– Верши мне…
– Некен, ваша милость, не облопаюсь.
Глаза у Архарова полезли на лоб.
Конечно, не было ничего удивительного в том, что Клаварош, пятый год служа в московской полиции, нахватался слов из байковского наречия. Однако до сих пор он при обер-полицмейстере так не выражался. Да еще интонация – не то чтобы вызов, а нечто весьма задиристое… Возможно, это был мелкий, пробный укол – за неуместное упоминание Марфы, примерно то же, что у кулачных бойцов – пытливый удар. И, главное, винить было некого – сам же Архаров первый начал.
Но обер-полицмейстер не стал подбивать француза на новые шалости.
– Как полагаешь, мусью, нужно ли приставить к этому твоему де Берни наружное наблюдение?
– Он из дому почитай что не выходит, – подумав, отвечал француз. – Но дом большой и… и…
Он произвел руками странное, но весьма выразительное движение, быстро проиграв беззвучный клавикордный пассаж длинными пальцами, – для Архарова оно олицетворяло разбегающихся в разные стороны тараканов.
– Бестолковый, что ли?
– Да, ваша милость, бестолковый. Много детей, много женщин… Вавилон!
– Думаешь, если туда кто-то к нему и приходит, этого могут попросту не заметить?
– У меня есть таковое подозрение.
– У меня тоже. Ну, приставим к этому дому дня на два, на три Макарку. Глядишь, чего и заприметит.
Тут явился человек с запиской от Елизаветы Васильевны. Княгиня Волконская, зная норов мужнина подчиненного, сама встретилась с отставным сенатором Захаровым и обо всем с ним договорилась. Человек сказал, что ответа ждать не велено. Это означало уже не заботу княгини об Архарове, а прямой приказ ехать за картинами. Но обер-полицмейстер сидел в кабинете, занимаясь делами, пока не пожаловал человек от Захарова с иной запиской. Милостивого государя Николая Петровича приглашали навестить болящего и потолковать касательно картин. Отступать было некуда – обер-полицмейстер собрался с духом и поехал наносить визит. Хотя ехать ему сильно не хотелось. Обер-полицмейстер был весьма признателен Захарову за помощь при поимке шулеров, но ощущал некоторую неловкость за то, что из ошибочных соображений заставил его целую ночь проблуждать где-то в Замоскворечье.
Господин Захаров проживал в Никитской улице, неподалеку от Никитских ворот. Привратник был предупрежден о приезде Архарова. Гостя со всем почтением отвели в хозяйский кабинет.
– Добро пожаловать, Николай Петрович, – сказал отставной сенатор. – Анисовой или травничка?
Анисового запаха Архаров не любил, а травничек – это еще какой попадется. Гаврила Павлович умел читать по лицу, даже неподвижному, не хуже, чем обер-полицмейстер, и тут же предложил померанцевой. От нее Архаров не отказался.
Сам хозяин водку пить не стал – сослался на болезнь. Выглядел он совершенно так, как положено сухопарому старцу с морщинистым лицом, беседовал бодро, и признаков хворобы Архаров вроде бы не обнаружил – впрочем, если хвороба давняя, привычная, то следует помнить: они знакомы недавно, и обер-полицмейстер никогда не видел отставного сенатора здоровым. Одет он также был, как положено человеку светскому, а не завернут в какой-нибудь стеганый полосатый архалук.
– Ее сиятельство просила поспособствовать в украшении вашего жилища, – сказал Гаврила Павлович. – А я тому и рад. Когда в доме картина пять лет висит – и то уж на нее глядеть тошно. Мои же тут лет десять пребывают – пора избавляться.
Прозвучало сие по-светски легкомысленно, как ежели б молодой петиметр в кругу таких же лоботрясов расуждал о надоевшей любовнице. И далее отставной сенатор заговорил о живописцах былых времен, заговорил с легчайшей грустью, как рассказывал бы изгнанник из рая много лет спустя о неземной красоте и прелести. Он называл имена, совершенно Архарову неизвестные, – и с особым французским прононсом упомянул неких гениев, которых звали Мишель-Анж Буонаротий и Леонард Винт.
Архарова мало интересовали художества, привозимые русскими вельможами из Франции и Италии, не понимал он также, как можно держать дома по шести и более десятков картин. Положив приобрести не более трех, подешевле, он с особливым интересом присматривался к Гаврилову. Бывший сенатор в душе уже расстался с любимыми полотнами, чтобы сохранить привязанность простой московской девки из Зарядья. Архарову вдруг сделалось безумно жаль старика, душа которого жила в этих вот древнегреческих храмах, выписанных искусной кистью, под оливами, среди босоногих бородатых пастухов в грубых плащах и полуобнаженных нимф, заманивающих в гроты.
– А вот, извольте видеть, мой Теньер, картина именуется «Прислужник, раскуривающий трубку». Вот сельский вид Ван-дер-Гюзена, вот мой Сальватор Роза… – Захаров указывал, сложив кисть с таким изяществом, что впору бы записной кокетке и щеголихе.
Странной они были парой, эти двое, бродящие вдоль стен захаровской гостиной: плотный и не желающий совершать лишних движений обер-полицмейстер – а рядом с ним грациозный, словно бы танцующий менуэт, быстрый в движениях Захаров. И коли бы кто близорукий смотрел на них издали, то уж точно ошибся бы, определяя, которому тут семьдесят, которому – тридцать три года.
– Вам именно живописные художества угодны? – вдруг забеспокоился Захаров. – А то имею камни с резьбой, из Италии – Тивериева голова, Орфей, животными окруженный, Минервина голова…
– Да мне бы, Гаврила Павлович, таких художеств, чтобы ее сиятельство поглядела и одобрила, – честно объяснил тогда обер-полицмейстер. – Выберите сами на ваш вкус три или четыре. А что за камни?
Тут-то наконец и проснулось его любопытство. Особливо когда была вынута из коробочки Минервина голова, резанная по слоистой яшме. Архаров принялся задавать вопросы, и отставной сенатор много чего припомнил про античные камеи. Наконец обер-полицмейстер вспомнил кое-что важное.
– А нет ли у вас, Гаврила Павлович, простой красной яшмы?
– Яшмы мясной? – уточнил Захаров. – На что вам? Вид у нее скучный, для камей не подходит.
– Поглядеть, какова из себя…
И тут Архаров, желая хоть как-то отблагодарить хозяина за увлекательную беседу, рассказал про письмо де Сартена и похищенный золотой сервиз.
Захаров выслушал и сделал рукой элегантное движение, призывающее к вниманию.
– Господин де Сартин, стало быть, писать изволил? Дивно мне это – он сам знатный сыщик, а такой сервиз – не иголка в стоге сена. Неужто его осведомители маху дали?
Архаров вспомнил, что отставной сенатор не раз побывал в Париже.
– А вы, сударь, с ним знакомы?
– Да, встречались в свете… – несколько туманно отвечал Захаров. – Но он в том доме был под чужим именем, мне приятель мой, маркиз де Бриссак на него указал. В Париже, изволите видеть, свет куда как разнообразней нашего. Я повстречал господина де Сартина в салоне у некой дамы, которая нашим боярыням показалась бы герцогиней, хотя благородство ее манер было театрального происхождения. Знаете ли, что она под старость лет сделала своим ремеслом?
– Нет, откуда?
– Наше счастье, что у нас пока не завелись такие дамы и такие салоны, сударь. Сия особа не то чтобы прямо состояла на жаловании у полиции, но господин де Сартин тайно ей покровительствовал и оплачивал ее расходы по чаепитиям в приемные дни, а также она получала и иные суммы… Принимала же наша держательница салона несколько раз в неделю господ придворных, литераторов, светских остроумцев, вообще всех бездельников, кои разъезжают из дома в дом, перенося сплетни. И знаете, что любопытно? У нее совершенно не играли в карты. Все, что она предлагала, помимо чая, разумеется, была приятная беседа.
– А дамское общество? – спросил Архаров, решив было, что отставной сенатор рассказывает ему об устроенном на почтенный лад доме свиданий – таких в Париже, по словам путешественников, было немало.
– Нет, дам она почти не приглашала. Хотя маркиз сказал мне тогда, что многие содержательницы борделей и их девицы служат господину де Сартину. Эта же была особа почти из приличного общества. Мы с маркизом были ей представлены, и тогда же я познакомился с господином Ленуаром. Это, сударь, был молодой человек с большим будущим, и господин де Сартин, кажется, воспитывал его, чтобы передать ему свою должность.
Архаров дважды кивнул – так оно и должно быть.
– И при том количестве осведомителей, который явно или тайно содержит французская полиция, мне кажется странным, что она проворонила сей сервиз, – сказал Захаров. Тем более, что он, сдается мне, имеет занятную историю. В последнее время во Франции была лишь одна дама, способная заказать такую милую безделицу с яшмовыми ручками на две дюжины персон. И то лишь потому, что ее счета поступали в государственную казну под видом королевских, теперь-то об этом все узнали и был немалый скандал. Вы, должно быть, слыхали такое имя – графиня Дюбарри.
Архаров пожал плечами – сколько он знал, во Франции, а особливо в Париже, куды ни плюнь – в графа или в графиню попадешь.
Собеседник усмехнулся.
– Это, изволите ли видеть, та самая графиня Дюбарри…
Но и тонкий намек ничего Архарову не сказал.
Тогда господин Захаров от души развеселился и повел гостя в свой кабинет. Там он достал из бюро галантные французские гравюры, на которых оная графиня изображалась в самом непотребном виде. Архаров уставился на них – и расхохотался.
В последний раз он видел гравированные безобразия еще в Санкт-Петербурге. Переехав в Москву, он, разумеется, таким добром не запасся, а те непотребства, что продавались на Трубной площади и притаскивались порой архаровцами в полицейскую контору, были уж больно грубы. Самую страшную лубочную картину обер-полицмейстер собственноручно изодрал в клочья не далее как на Прощеное воскресенье, очищая канцелярию от всякой дряни перед Великим постом. Она изображала даму в платье с фижмами, едущую верхом на сгорбленном дядьке. Дядька мало что был со спущенными штанами, так еще извергал из задницы соответствующую материю.
– Извольте, сударь, расскажу, – произнес господин Захаров. – Я как раз успел побывать в Париже, когда ее слава сделалась совсем скандальной. Покойный французский король… впрочем, того вы, верно, и знать не могли… Он был одолеваем скукой. Покойная маркиза де Помпадур… о Господи, кого ни вспомнить, все уж покойные…
Вот тут Архаров поверил, что отставной сенатор не на шутку болен. Глаза у него сделались совсем тоскливые, и обер-полицмейстер положил себе немедленно направить к Захарову Матвея Воробьева, а лучше бы – деда Кукшу, коли удалось бы того изловить.
– Поведаю вам, Николай Петрович, так и быть, пикантную историю о графине Дюбарри. Царствовала сия блудная особа при его величестве лет примерно шесть, и за то время нажила себе множество недоброжелателей. Наиглавнейшую же недоброжелательницу – супругу дофина, нынешнюю королеву французскую Марию-Антуанетту.
– Иначе и быть не могло, – согласился Архаров.
– Было в ней одно похвальное качество – она не пыталась управлять государством, как ее предшественница, покойная мадам де Помпадур. И замков она не строила – кроме Люсьенна, но тут уж ничего не поделаешь, должна же была она свить хоть какое-никакое гнездышко. Однако ж денег на нее уходило порядочно. Все больше на платья, на бриллианты, на фарфор из Севра… тут она, сама того не ведая, завещание мадам де Помпадур исполнила. Та все говорила: коли кто, имея деньги, покупает не севрский фарфор, а саксонский, тот-де плохой француз. Ведь сама она те фарфоровые фабрики в Севре и завела… Так вот, отвечу я на ваш вопрос, почему упоминать о мадам Дюбарри в приличном обществе не рекомендуется…
Вот тут Архаров уже сосредоточился.
– Изволите ли видеть, сударь, когда покойный французский король подобрал свою прелестницу, она была не более не менее как модисткой, причем прошла через множество рук и получила лишь то воспитание, которое требуется для амурных дел. А он был немолод и подвержен приступам болезни, именуемой хандра. Развеселить его было трудновато. Покойная мадам де Помпадур еще как-то исхитрялась развлекать его невинными средствами – то прогулки, то театры, то фарфор. Эта, повторяю, иного полета пташка. А потерять любовника лишь потому, что его тоска берет, обидно. И она пустила в ход то, что умела и замечательно знала. Господа, бывавшие в Люсьенне, рассказывали: коли там комедию ставят – так непристойную, коли песни поют – от тех песен хоть святых выноси да и сам выходи. Пляски затевают – один срам. И тем она его развлекала. А ему все сие непотребство было в диковинку и в его-то годы лишь такие пряные штучки и могли сподвигнуть на великие дела…
Архаров невольно усмехнулся, глядя на собеседника. Собеседник уже весьма смахивал на сушеный гриб. Очевидно, был никак не моложе французского короля, однако держал для своей утехи такую бойкую девку, как Дунька, и Дунька даже присматривала, чтобы ей никто дорогу не перебежал.
– Его величество французский король изволили скончаться в начале мая семьдесят четвертого – тому уж, выходит, год. И звезда графини закатилась с поразительной быстротой. Тут же все завопили о ее безобразиях, а главным образом – злейшая ее врагиня, новая королева. И все ей припомнили, до последнего ливра. Она стала имущество распродавать – и тут-то, видно, избавилась от золотого сервиза. А ведь сие художество следовало бы вернуть в казну. Так что вы, сударь, легко можете себе представить восторг государыни, когда ее имя, не приведи Господь, будет впутано в скандал с ворованным имуществом мадам Дюбарри. Из-за какой-то, прости Господи, бляди начнется дипломатическая околесица… тем более, что наши с французами дипломатические дела едва-едва налаживаться стали, и есть немало доброжелателей, кои бы охотно нас с Парижем заново рассорили. Покойный господин Шуазель сильно нам успел напортить, да что это я все про покойников?.. Не к добру.
– Да уж, – согласился Архаров. – Благодарствую. Да только…
– Что, сударь?
– Не верится мне что-то, чтобы такая подлая девка столько денег имела, чтобы золотые сервизы заказывать и дворцы себе строить.
Гаврила Павлович расхохотался.
– Вам бы, Николай Петрович, за границу съездить, по тем же немецким княжествам прокатиться, тогда лишь поймете, какие деньги тратятся на фавориток. Слава Богу, Россия сей беды не знала…
Тут произошло некоторое молчание. Оба вдруг подумали об одном и том же человеке – о графе Орлове. Его открыто звали фаворитом, и денег на него государыня извела прорву. Теперь вот новое сокровище объявилось – тоже неведомо, чем будет за амуры вознаграждено…
– А коли и заводилась фаворитка, то и смех, и грех… Вы госпожу Каменскую знаете?
– Знаю.
– А какое у нее было прозвание при покойном государе Петре Федоровиче – помните? Распустеха Романовна! Ибо была редкостной неряхой, к тому же злобной и крикливой, однако несколько лет держала при своих юбках великого князя, впоследствии государя. Но не слишком из государственной казны поживилась. Побрякушек понавыпрашивала – и только. Разумнее всех вел себя покойный государь Петр Алексеевич. Тот, сказывали, каждой метреске, будь хоть прачка, хоть графиня, за амуры рубль платил, говорил: более сие не стоит. Так что от фавориток нас Господь избавил…
И опять было молчание, потому что обсуждать особу графа Орлова и его преемника, господина Потемника, ни Архаров, ни Гаврила Павлович не желали.
– Простите, сударь, покину вас на минутку, – сказал Захаров и быстро вышел из кабинета. Но обер-полицмейстер заметил – лицо старика отразило внезапную боль. Видно, не такую уж внезапную – отставной сенатор не испугался, а поспешил за лекарством в спальню.
Архаров стал рассматривать графиню Дюбарри во всех подробностях, и за этим занятием застал его лакей. За лакеем шел, стуча вечной своей тростью с круглым стальным набалдашником, доктор Воробьев. Ничего странного в этом не было – Матвей считался одним из лучших врачей в Москве, и Захаров отыскал его без архаровского посредничества.
– Ты тут для чего? – удивился доктор и вытаращился на Архарова.
Матвей знал про Дунькину ночную беготню с Ильинки на Пречистенку.
– Слушай, Николашка, забери ты ее у него, Христом-Богом прошу, – прошептал Матвей. – Она ж его в гроб загонит.
– Дунька-то? Эта может.
– Дурак ты – что бы она могла, кабы он настойку шпанской мушки не пил?
Архаров знал, что не только на старости лет для мужской мощи пьют эту дивную настойку, но о вреде, ею производимом, не подозревал. Так и сказал Матвею.
– Ну, иногда, может, и не вредно, – растолковал тот. – Ну, раз в неделю, не чаще! И то – понемножку, по капельке, за час перед амурными шалостями. Он же, старый дурень, эту настойку ложками хлебать принялся, как мужик – пустые щи. Вот и не может больше часа усидеть, бегает в нужник, как беременная баба. А всякий позыв – сильная боль…
– Вон оно что…
– Дуньке хоть скажи – он же себе во вред для нее старается… чш-ш-ш… о чем-нибудь говори…
Архаров вдруг вспомнил – есть же у него дело к доктору. Может, он опознает в слове, употребленном государыней, какую-нибудь мудреную хворобу.
– Матвей! Что есть инже… чтоб ей сдохнуть… иже…
– С этим к Устину Петрову, – тут же отозвался доктор.
– Устин в хворях не смыслит. Инжедействие.
Матвей сделал круглые глаза.
– Нет такой хвори, Николаша.
– Тогда… – Архаров тяжко задумался. Попытка не удалась.
– Да ты здоров ли, Николаша?
– Пошел к монаху на хрен. Государыня слово сказала, никто объяснить не умеет.
– А слово, выходит, инжедействие?
Архаров задумался. Теперь, когда он услышал это свое изобретение из Матвеевых уст, оно оказалось вовсе не похоже на умное слово государыни.
Вошел Захаров – походкой петиметра и щеголя, с особой игрой руками и глазами, причем сие получалось у него отнюдь не вычурно, не по-дурацки, как если бы безнадежно пытался подражать молодым, а словно отставной сенатор родился со светской сноровкой. И на лице его была полуулыбка – словно этот человек никогда не ведал телесных страданий.
– Ты, сударь мой, безнадежен, – произнес свой вердикт доктор Воробьев. – Хоть и обер-полицмейстер. Как есть люди, чья голова виршей не вмещает… твоя, впрочем, тоже не вмещает… Стой, придумал! Знаешь, Николашка, кого бы надо к тебе в полицию завербовать? Елпидифора.
– Какого еще, на хрен, Елпидифора?! – Архаров был не в том состоянии, чтобы шутки понимать.
– Ну как же? Сие имя значит – «надежду приносящий»!
– А-а… точно…
– Ну, Николай Петрович, надумали что брать? – осведомился Захаров.
Архаров кивнул.
Если княгиня не ошибается в намерениях государыни, то картины лучше повесить благопристойные. Вот чем плох сельский вид с мельницей? Будет себе висеть и висеть, не привлекая лишнего внимания.
Архаров показал два парных пейзажа, вид с мельницей и впридачу – некое мифологическое изображение с белыми храмами, пастухами, нимфами, овцами и синим южным небом. И тут оба, продавец и покупатель, несколько растерялись. Обер-полицмейстер понятия не имел, сколько стоят картины, а отставному сенатору тоже было неловко называть цену – он, слава Богу, не купчишка из Охотного ряда. Матвей сообразил, в чем дело.
– У меня приятель есть, немец, миниатюрные портреты пишет и иными художествами приторговывает, я его к вам пришлю, пусть оценит, – сказал доктор. – А теперь, господин обер-полицмейстер, уступи место Эскулапу.
Захаров усмехнулся – он-то всех греческих богов знал наперечет, Архаров же должен был вспоминать, что за Эскулап такой.
Вспомнил уже в карете. И одновременно – ту хворь, которую поминала государыня. Иноземное слово в верном его виде повторял про себя, пока не прибыл в полицейскую контору.
– Клавароша ко мне! – сказал он, проходя в кабинет.
Клаварош тут же явился.
– Скажи, мусью, что такое индижестия?
Француз задумался.
Он хорошо намастачился говорить по-русски, но происходило его искусство от умения использовать каждое известное ему русское слово и составлять фразы только из них. Иной собеседник ввек бы не догадался, что Клаварош знает этих слов хорошо коли полтысячи. Смысл вопроса он понял, только не имел в своем словаре ничего соответствующего.
– Брюшная хворь, ваша милость, – сказал он наконец, – когда брюхо своего долга не исполняет.
– Прелестно…
Он кликнул кого-нибудь из канцелярии – продиктовать записочку к Матвею с диковинным словом, и чтобы посыльный стребовал с него ответ. Сразу никто не прибежал, и Архаров отправился разбираться. Он не был сердит, просто по своему гвардейскому прошлому помнил: приказ должен исполняться незамедлительно и без рассуждений, а с секундным промедлением уже следует бороться.
Возле канцелярии он увидел Шварца, Шварц пожаловался, что на дворе стоит огромная лужа, если пройдет еще дождь – вода начнет стекать в подвальное окошко. Пошли смотреть лужу.
Она была необъятна – вроде в прошлые годы так не разрасталась, но убрать ее было несложно – воду разметать метлами, а углубление в земле засыпать и утоптать. Архаров поглядел по сторонам в поисках рабочих рук и увидел в дальнем углу Тимофея, Федьку, Демку и Ваню Носатого. Они о чем-то совещались втихомолку, и вдруг Тимофей довольно громко выругался.
Архаров привык к тому, что этот его подчиненный всегда спокоен, рассудителен, терпелив. Сейчас же Тимофей выглядел совершенно расстроенным, потерпевшим некую вселенскую конфузию.
Обер-полицмейстер обошел лужу и пошел к архаровцам. Его заметили, замолчали, и по лицам было видно – он притащился очень некстати. Особенно Тимофей и Демка не обрадовались начальству – Тимофей глядел в землю весьма удрученно, Демка же – с некоторой злостью.
– Ну, что еще стряслось? – спросил, подходя, Архаров. – Что за беда? Костемаров, это ведь с той бабой увязано, которую ты от нашего крыльца турнул. Ну-ка, докладывай, у кого из наших на брюхе пятно – как мышь бежит? Не то всех вниз отправлю – и ты, Ваня, все брюха оглядишь и доложишь.
Федька открыл было рот – да и замер, опомнившись. Пресловутая круговая порука, которой повязали бывших мортусов, сейчас работала против Архарова – они не имели права выдавать друг дружку…
– У тебя, Тимоша? – никак не показывая своего недовольства, задал вопрос обер-полицмейстер. Догадаться было нетрудно, опять же, архаровцы не первый день знали своего командира – даже не удивились.
– Приплелась на мою голову!.. – с тоской прошептал Тимофей.
– А чего на дуре женился?
– Так кто ж знал? Я овдовел, детишки без ухода, кого-то ж надо было брать…
– И что детишки?
– Не уследила, дура, оба померли. Да у нас к тому времени уже свой народился. Я потерпел немного – да и пошел прочь.
– Не врала, стало быть, баба?
Этот архаровский вопрос был адресован Демке.
Демка потупился.
– Далее.
– Ушел. Прибился…
– К налетчикам. Далее.
– Господь уберег… ну, вернулся…
Тимофею было сильно неприятно вспоминать подробности той давней, дополицейской жизни.
– Опять удрал, – спокойно продолжал Архаров, который, оказывается, кое-что запомнил из бестолкового рассказа бабы.
Тимофей покивал.
– И с перепугу до Мурома добежал. Да ладно тебе, я бы тоже от такой сбежал. Что делать будешь, коли она тебя сыщет?
– Ваша милость, а нельзя ли его куда-нибудь отправить? Ну хоть в Санкт-Петербург? – встрял Федька. И в глазах у него был восторг – он сам наслаждался тем, как старается выручить товарища.
Архаров тут же перевел взгляд на Демку. Федька был прост – что на уме, то и на лице. Демка же – хитер, да только и он не всегда умел за своим личиком уследить.
– Ваша милость! – воззвал Федька, глдя на обер-полицмейстера с надеждой. – Она ж не уйдет, она так и будет по Москве околачиваться, пока до правды не доберется!
– А ты ее знаешь? – спросил Архаров, вспомнив, что оба они, Тимофей и Федька, вроде бы тверские.
– Да вроде видал… – тут догадливый Федька по глазам Архарова понял, что его вранье может выйти боком. – Она тетки моей куме как-то сродни приходится. Я тогда еще знал, что у нее муж в бега подался. Бабы так и толковали – сама-де из дому выжила, вот и осталась без мужа с сыном да с прибылью…
– Я не знал, – хмуро сказал Тимофей. – Кто ж мог знать, что с прибылью?.. А только жить с ней не стану, хоть убейте.
– Значит, прибежал, когда налетчиков твоих повязали, отоспался, отъелся, брюхо бабе своей вдругорядь набил, а потом до тебя дошло, что жить с ней невмоготу, и ты добежал до Мурома? – безжалостно допытывался Архаров. Когда он после чумы принимал и осваивал полицейское хозяйство, то и узнал много любопытного про мортусов. О том, что Федька в пьяной драке на свадьбе у родни убил приятеля, Архаров знал и раньше. Воровское прошлое Демки было у него на роже написано. Насчет Вани – и сомнений быть не могло. А вот, слушая, как Саша читает связанные с Тимофеем бумаги, удивлялся – этот крепкий неторопливый мужик затесался в ватагу, которая целую зиму грабила купцов на муромской дороге, и взят был чудом – до того ловко уходил, путая след, от погони.
– Два месяца только и побыл с ней…
– Прелестно. И она только теперь додумалась искать тебя на Москве?
– Черт ли ее разберет.
Архаров хмыкнул. Что-то следовало предпринять. Если баба добредет до острога да, чего доброго, найдет сердобольных слушателей, то имя Тимофея Арсеньева может оказаться им знакомо – тут-то и заорет слушатель: беги к Рязанскому подворью, баба, твой муж в архаровцах служит!
Кабы он эту Тимофееву жену своими глазами не видел и своими ушами не слышал – то и махнул бы рукой: разбирайся сам со своей бабой. Но он, хотя и говорил с подчиненным сурово, душой был на его стороне и выдавать его на растерзание дуре не желал.
Мысль явилась вовсе неожиданная…
– А вот что! – воскликнул Архаров. – Знаю, как ее отвадить! Федя, крикни Сеньке – пусть экипаж к крыльцу подает! Тимоша, поедешь со мной.
Федька смотрел на Архарова с таким восторгом, что получил в последнюю минуту приказание вставать на запятки вместе с Иваном.
– Сенька, гони в Зарядье! – велел обер-полицмейстер.
Карета понеслась вдоль китайгородской стены, свернула на Варварку, затем во Псковский переулок, и далее – в Ершовский.
Марфа была на дворе, вешала белье, когда раздался стук в ворота. Она подошла к калитке и увидела архаровский экипаж. Федька, соскочив, отворил дверцу, обер-полицмейстер выбрался и сразу вошел во двор, архаровцы, еще ничего не понимая, – следом.
– Марфа Ивановна, у нас – товар, у вас – купец! – не поздоровавшись объявил он. – Наоборот то есть! В общем, принимай жениха!
Марфа попятилась. Архаров выпихнул вперед сильно смущенного Тимофея.
– Этот, что ли? – вмиг заинтересовалась Марфа. – А что ж! Детина здоровенный! В годах, правда, так ведь и я не первой свежести невеста! Согласна! Благословляй, батюшка Николай Петрович!
– Да ну тебя! – возмутился Тимофей, отступая. – Ваша милость Николай Петрович! Она ж этак не на шутку меня к алтарю потянет!
– Надобно, чтоб он у тебя пожил, – объяснил Марфе Архаров. – За ним баба притащится, станет домогаться. Мы-то ей укорот дать не можем, поскольку они с моим дураком повенчаны, по закону она права, а ты ее за милую душу и из Зарядья, и из самой Москвы в тычки выставишь. Тебе – можно, потому как это ваши бабьи дела.
– А я-то обрадовалась… – Марфа еще раз оглядела статного и плечистого Тимофея. – А и ладно, пусть поживет! Может, что и получится. Так что перебирайся – я тебе внизу постелить велю.
– Прямо сейчас, – добавил Архаров. – Час тебе на новоселье даю. Хрен ее знает, когда она до тебя доберется…
Тимофей остался, Архаров указал Федьке на запятки и вернулся обратно в полицейскую контору.
Всю дорогу он посмеивался, воображая поединок между Марфой и той безымянной бабой, от которой следовало спасать Тимофея.
Но, войдя в кабинет, он об этой дурости уже не помнил – его ждал Михей, только что вернувшийся из Санкт-Петербурга.
– Заходи. Ну, что столичные шуры? – любезно спросил Архаров. – Мне не кланялись?
– Они бы и рады поклониться, так ваша милость сламу на клюя не берет, – тонко польстил Михей. – Коли позволите, я в канцелярии донесение продиктую.
– А на словах?
– Никто ни о каком сервизе не слыхивал. В полицейскую канцелярию писем не приходило, купчишки-посредники знать не знают. Один гирячок мне вот что сказал: большой парадный золотой сервиз ведь и весит поболее двух пудов, статочно, что три, и места, коли его бережно везти, занимает немало, его так просто в Россию не протащишь. Стало быть, на таможне кому-то барашка в бумажке поднесли, да и немалого барашка…
– А коли мимо таможни? Я знаю, матросы в трюмах слона спрятать могут.
Михей усмехнулся.
– Ваша милость, зимой корабли в Петербург не приходят, да и до Пасхи, поди, тоже не могли пробиться – там же весенние шторма. А вы про сервиз еще задолго до Пасхи узнали.
– То бишь, коли его к нам водой повезли, то он, когда мне Сартин писал, еще в Париже обретался? – Архаров задумался. – Коли он знал, что покража под носом, и ее повезут морем, чего ж сам не взял?
Михей развел ручищами – ответа на такой вопрос у него не было да и быть не могло.
– Поди, продиктуй – с кем встречался, что разведал, все подробно.
Следовало бы сесть, да со Шварцем, с Абросимовым, с Тимофеем дружно подумать – каким путем прибыл блудный сервиз из Франции в Россию. Но в коридоре уже набился народ – и с донесениями и «явочными», приходилось браться за работу. Даже странное поведение Демки Костемарова, в иное время не оставшееся бы без внимания, – и то вылетело из головы…
Изба была обыкновенная – даже не нищего житья, а принадлежащая благополучному крестьянскому семейству. Посередке, как водится имелась печь с широким устьем, в подпечке сохли дрова. Рядом стояли лопата для углей и ухват на длинном катовище. Напротив печи висела на шесте люлька с дерюжным пологом, приспособленным так, чтобы задерживать тепло, шедшее от печи, и обогревать дитя. Слева от печи стоял высокий светец с погасшей лучиной, справа – стол, в углу, одно на другом, ушаты и кадушки, тут же висело на стене большое решето.
Что за крашенинной занавеской – Тереза не знала и знать не желала.
В люльке захныкал ребенок. Он распеленался, холстинка, на которой он лежал, сбилась, и солома, устилавшая люльку, колола дитя. Тереза даже не повернулась. Этот мир был ей чужд, и она хотела совершать как можно менее движений в нем, вообще окаменеть – в надежде, что тогда она перестанет воспринимать его шумы и запахи. Единственно – когда мухи, гудевшие непрерывно, пытались сесть ей на лицо или на руки, она их отгоняла.
Одновременно появились старуха из-за грязной занавески и мужик в дверях. Мужик был еще молод. Хотя на дворе пригревало солнце, он был в высоком меховом колпаке, из-под которого виднелся один нос, а дальше – торчала светлая борода. Этот мужик в коротком буром армяке, от которого несло псиной, в холщовых портах, с ножищами, толсто обмотанными онучами и криво перехваченными оборами лаптей, подошел к люльке первый, подобрал тряпочный рожок, потерянный ребенком, и сунул обратно в ротик. Дитя замолкло, старуха вернулась на свое место, где сидела беззвучно, мужик поправил холстинку и без единого слова ушел. Как Тереза не желала замечать их – так и они не желали замечать Терезу. Кто-то велел им терпеть, пока эта закутанная в черный атлас женщина молча сидит за столом и ждет. Они и терпели.
Тереза не могла бы сказать, сколько времени сидит за этим столом, опираясь локтем, и глядит на неровную щель между выскобленными досками. Время уже ничего не значило для нее – она знала цену долям секунд, когда играла, и не понимала, даже не желала понимать, куда подевался год жизни. Словно бы проспала его, сидя на постели с открытыми глазами и не осознавая смены дней и ночей.
Она и раньше не была разговорчива, теперь – могла бы при желании перечесть те слова, которые произнесла за время своего то ли изгнания, то ли заключеиия. Больше сотни бы, поди, не набралось.
Лишь раз встрепенулась было Тереза – зимой, когда толстая девка, собравшись топить печь в ее комнатушке, принесла на растопку листы плотной бумаги, расчерченные нотными линейками. Тереза выхватила у нее из рук ноты и некоторое время смотрела на них, даже не пытаясь воспроизвести в голове записанную музыку. Это было – словно весточка из иного мира, покинутого ею и покинувшего ее, казалось, навеки.
Кто переписал – а ноты были начертаны от руки, старательно, и это выдавало молодость музыканта, без летучей небрежности, означающей, что рука не поспевала за душой, в глубине которой уже зазвучала мелодия, – эти скрипичные и басовые ключи, эти гроздья созвучий, кто – и чью музыку хотел сделать своей этот человек? Чернила выцвели, а стопку нот, найденную на антресолях, погрызли мыши. И Тереза поняла сей тайный знак судьбы – она теперь сама была, как эти немые ноты без начала и конца.