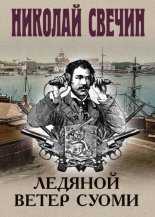Жизнь №2 Dar Anne

Посвящается N.
Act 1
Второй жизни у вас не будет. Только сей-час.
Глава 1
Меня зовут Мирабелла Рашель Армитидж. За продолжительную историю своей жизни я успела сыграть многие роли. Я была дочерью и была кузиной, была женой и сделалась матерью, стала бабушкой и даже прабабушкой. Мне восемьдесят лет, я прожила достойную жизнь и я собираюсь уйти. Мирабеллы Рашель Армитидж больше не будет. Вместо нее будет кто-то другой.
Конец моей первой жизни начался с ожога. Я готовила ташмиджаби – любимое блюдо Геральта. Двадцать пять лет назад мы решили отметить свою каменную свадьбу – тридцать три года брака – за пределами США и, соблазнившись винами Грузии, провели в той контрастной и колоритной стране незабываемый месяц. То было замечательное время, в которое мы могли позволить себе роскошь в виде длительного путешествия: наши дети выросли, внуки только начали появляться на свет, у нас были некоторые финансовые сбережения и старость ещё всерьёз не взялась за нас – только начинала приглядываться к нам издалека.
В Грузии Геральту понравились не только вина, но и блюда. Больше всего его впечатлило традиционное грузинское блюдо ташмиджаби. С тех пор как Геральта не стало, я готовлю это блюдо из картофеля и сыра один раз в год, в день его ухода в лучший мир. В этом году должен был быть десятый ташмиджаби в моём исполнении, но ставя кастрюлю на газовую плиту – я так и не поддалась уговорам детей и не променяла свою старую подругу на новую электрическую незнакомку – я зацепила правым рукавом своего халата открытый огонь, не заметила, как синтетика моментально схватилась, и в итоге серьёзно обожгла себе руку от запястья до середины предплечья. Боль была запоздалой – старая кожа не такая чувствительная, какой она бывает в молодости…
Пришлось звонить детям и просить отвезти меня в больницу. Джерри был не вовремя очень сильно занят – у него проходило важное рабочее совещание, к которому он готовился целую неделю, – но оказался свободен Закари. Хорошо, что он оказался свободен. Потому что звонить Тиффани не имело смысла – девочка живет в другом городе и, в отличие от всего лишь часто занятого Джерри, свободной вообще не бывает.
Руку мне обработали, перебинтовали антисептической повязкой ровно по ожогу и подвесили её на повязку-косынку, переброшенную через моё плечо. Такие повязки обычно носят люди с переломами, чтобы снять напряжение с пострадавшей конечности. За восемьдесят лет жизни у меня ни разу не случалось переломов, что стало для меня неожиданным открытием только сейчас – это ведь действительно удивительно, за восемьдесят лет жизни не схлопотать ни единого перелома! Хотя растяжения у меня, конечно, были. Трижды. Первый раз – оступилась на лестнице и подвернула лодыжку; второй раз – упала на руку во время игры во фрисби; третий раз…
– Всё будет в порядке, – ладонь, положенная на моё плечо, и знакомый голос сына выдернули меня из воспоминаний о прожитой жизни. Я заметила: чем старше я становлюсь, тем больше ярких воспоминаний всплывает на поверхность моего сознания – случается, что они заполняют собой все мои мысли.
Я повернула голову влево и посмотрела на сидящего рядом со мной сына. Закари – младший ребёнок в семье, четвёртый. У Джерри и Тиффани волосы цвета пшеницы, но у Закари они потемнее. Зато глаза у него точь-в-точь как у брата и сестры – голубые, со знакомым разрезом. Этому мальчику уже сорок семь лет, его жене Присцилле сорок два, а их детям – Валери и Бену – семнадцать и пятнадцать, но я всё равно считаю его именно мальчиком. Всё ещё помню его нерешительность и застенчивость, которые, кажется, после женитьбы почти отпустили его.
– Я готовила ташмиджаби, – аккуратно вздохнула я, стараясь не думать о жаре, обжигающем мою пострадавшую руку. Рука сына вдруг отпрянула от моего плеча, голубые глаза забегали.
– Ташмиджаби?.. Какое сегодня число? – он схватился за свой мобильный телефон. – Ах… Сегодня же девятая годовщина по отцу… Как это могло вылететь у меня из головы? Прости, мама.
“Прости, мама”, – эти слова сын привычно сказал полушепотом. Он всегда переходил на полушепот, когда извинялся, вернее, когда ему становилось стыдно. Он был искренен, поэтому я решила не исправлять его оговорку – сегодня была уже десятая, а не девятая годовщина, как он считал.
– Не переживай, – я положила здоровую левую руку на колено сына, облаченное в джинсовую ткань, и едва уловимо сжала его, – ведь не ты один забыл – все позабыли.
Закари поджал губы и с тяжелым вздохом перевёл взгляд на стену напротив, и я сразу же задумалась над тем, правильные ли слова сказала. Может быть, мне стоит, а может быть, даже нужно перестать заботиться о нервах своих детей? Может быть, мне стоит, а может даже нужно перестать отвечать на все их запоздалые извинения словосочетанием “не переживайте”? И если не утверждать надобность их переживаний, тогда хотя бы не отговаривать от них? Переживания… В подсознании сразу же щелкнуло: я уже давно и сильно переживаю кое о ком. Я убрала руку с колена огорченного сына и тоже посмотрела на стену напротив:
– Нужно возвращаться домой. Вольт остался один, он будет переживать. Его нужно напоить и проследить, чтобы он поел.
– Да, конечно… – Закари не повернул голову, продолжил сверлить взглядом стену, а в его голосе не прозвучало желаемого мной участия, зато отчётливо прозвучало отстранение. Но мне хотелось участия, и потому я решила продолжать говорить:
– Он уже еле ходит, совсем сдал позиции…
– По-хорошему, нужно бы его усыпить, чтобы не мучался.
– Он не мучается. Я забочусь о нём, – я не заметила, как мои брови сдвинулись к переносице, а внутри напряглась пружина, отвечающая за мою способность к противостоянию.
– Как скажешь.
Он даже не попытался противостоять мне, просто привычно пожал плечами и перевел взгляд со стены в сторону. Закари, конечно, намного мягче Джерри. Джерри бы продолжил настаивать на усыплении Вольта и в своей настойчивости припомнил бы тому не только хромоту, но и слепоту, после чего непременно утвердил бы, что я мучаю пса своим нежеланием усыпить его. Я бы, конечно, усыпила Вольта, если бы он испытывал физические мучения, но ведь он не мучается – он просто стареет. Так сказал сам ветеринар: у пса ничего не болит, он всего лишь сдал в зрении и просто прихрамывает на заднюю ногу.
Из двери, вырезанной в стене напротив по правой диагонали от нас, вышел доктор, который занимался моей рукой. Высокий, статный брюнет лет сорока, пышущий силой и любовью к своему делу, с обручальным кольцом на безымянном пальце и рыжей ассистенткой, отличающейся безразличным взглядом.
– Можно с вами поговорить? – доктор обратился, как мне показалось, к нам с Закари, но стоило мне встать, как он уточнил: – Нет, только ваш сын. Вы подождите здесь. Не беспокойтесь, всё в порядке. Просто заполнение документов.
Я не поверила ему. Опустившись назад на твёрдый пластмассовый стул, я проводила взглядом Закари внутрь кабинета доктора и, как только дверь кабинета захлопнулась, нервно поджала свои почти полностью утратившие цвет губы. Десять лет назад другой доктор, более молодой и менее опытный, подобным тоном вызывал меня в свой кабинет, желая поговорить о Геральте. Он тоже просил не беспокоиться перед тем, как выдал мне ужасное… Бессердечно ли это? Говорят, что это просто профессиональная черта… Черта, которую не хотелось бы переступать, как будто придвинулась к моим ногами и стукнулась о носки моих всегда начищенных черных туфель без каблука. Я начала делать то, чего доктор попросил меня не делать – переживать. Сразу же сняла с плеча повязку – люди, которые удерживают свои конечности при помощи вспомогательных средств, всегда выглядят и даже являются в какой-то степени беспомощными. В моём случае всё ещё хуже, ведь в дополнение к обожжённой руке я ещё и старуха. Но я, конечно же, не беспомощна. Ни в какой степени.
Стоило нам с Закари выйти из больницы и оказаться в тёплых лучах июньского солнца, как моё переживание растаяло. Бдительность – то, что с возрастом тает так же неумолимо, как физическая сила.
Глава 2
Я выросла в очень хорошей, любящей семье адвоката Райана Армитиджа и домохозяйки Опры Армитидж. Появилась я у них, когда матери было тридцать, а отцу шел тридцать пятый год. Из нас сразу же получилась замечательная семья. И всего-то у нас всегда было вдоволь: и любви, и уважения, и денег.
Мои родители были кареглазыми шатенами, но ни на одного из них я не была по-настоящему похожей. Моя кожа, на фоне их загорелой, всегда отливала белоснежностью, мои волосы были черны, словно смоль или вороново крыло, как любила говорить мама, мои глаза имели странный цвет, сочетая в себе смесь синего и зеленого оттенков. Хотя оба мои родителя и имели весьма симпатичные внешние черты, многие наши знакомые никак не могли понять, в кого именно я пошла своей красотой, что порой сильно расстраивало мою маму. Она была убеждена, что мои губы похожи на её, а мои от природы укладывающиеся лёгкими волнами волосы достались мне от отца. Она могла бы быть правой, но не была. Внешне я действительно не была на них похожа. Иное дело внутренне – мы мыслили и чувствовали в унисон. Такой гармонии, какая была у меня с родителями, кажется, вообще не существует между детьми и их родителями, а значит, её можно назвать необыкновенной или даже чудесной.
Так как я была единственным ребёнком в семье, мама все свои силы вкладывала в то, чтобы на благодатной почве достатка не вырастить из меня избалованного и эгоистичного ребёнка, какими росли многие единственные дети её многочисленных подруг. Она прививала мне сочувствие к ближним и любовь к окружающему миру, которые у меня, по моим внутренним ощущениям, и без того были врождёнными, а так как мама неустанно культивировала во мне мои положительные врождённые качества, в итоге с возрастом я столкнулась с проблемой психологического характера, которую осознала лишь с полным поседением собственной головы – чрезмерная эмпатия во многом определила мою жизнь.
Наш дом был просторным, двухэтажным, с двумя комнатами для гостей, которых у нас всегда было много, с выбеленным дощатым фасадом, со всегда несвоевременно подстриженным газоном и с лепными клумбами у крыльца, заполненными маргаритками, фиалками и ромашками. В таком просторном доме, наполненном солнечным светом и особенным уютом, кажется, нельзя было не завести детей или домашних питомцев, а лучше и тех, и других.
У нас всегда было много домашних питомцев, всех обязательно по паре, чтобы не допускать одиночества: канарейки в большой угловатой клетке, объёмный круглый аквариум с золотыми рыбками, ещё один, только прямоугольный и более просторный, аквариум с черепашками, и пара морских свинок, которым был отведен целый чулан под лестницей. Родители начали обзаводиться зверинцем ещё до моего рождения. Таким образом они – или, быть может, только мама – пытались абстрагироваться от мучившей первое десятилетие их брака проблемы бесплодия, которая в итоге благополучно разрешилась моим появлением.
Я всегда хотела себе собаку. Это желание жило нереализованным на протяжении целых шестидесяти пяти лет моей жизни. Самым первым препятствием к осуществлению детской мечты стал почти панический страх мамы, который она испытывала даже перед маленькими собачонками. В детстве её укусила за щиколотку соседская австралийская овчарка, у которой она взяла щенка, даже едва заметный шрам на щиколотке остался, так что о желанной собаке я могла позабыть до совершеннолетия, но я не позабыла и после.
Через животных родители прививали мне не только любовь ко всем живым существам, но и аккуратность, и терпение, и много других важных для человеческой души качеств. Обо всех питомцах заботились я и мама. Когда мы теряли кого-то из них, что всегда происходило по причине старости, мама расстраивалась настолько, что могла хандрить долгие недели.
С самого детства я хорошо ладила с людьми и хотя предпочитала не находиться в самом центре внимания, всё же всегда оказывалась впритык к бурлящим событиям. Моё общество нравилось людям, моё мнение всегда имело вес, с малых лет мои ровесники бессознательно тянулись ко мне, словно чувствовали во мне не только уверенность, но и способность не осудить и не обидеть нарочно. В детстве, юности, а затем в молодости и в пожилом возрасте у меня было много хороших подруг и друзей. Десятки людей интересных, странных, мыслящих, чувственных, чудаковатых, глубоких, ярких – разнообразных… Никого из них уже нет в живых. Свою последнюю хорошую подругу – Минерву Мод Таккер – я потеряла два года назад. Она скончалась в возрасте семидесяти девяти лет. Самого же главного моего друга у меня нет уже целое десятилетие.
Со своим будущим мужем я познакомилась за неделю до своего семнадцатилетия. Геральт Армитидж был на целых десять лет старше меня и являлся сыном сестры моего отца. Моя тётка, Корнелия Армитидж, была на три года старше папы и была непростой, в хорошем смысле этого слова, женщиной. Она поздно вышла замуж – ей было двадцать шесть, а столь невнушительный по меркам текущего века возраст в прошлом веке считался весьма серьёзным для незамужней девушки. Сразу после замужества она переехала из Вермонта в Атланту, где уже спустя год родила своего первого ребёнка – мальчика назвали Геральтом. Отца Геральта я видела только на фотографиях: красивый, высокий, статный брюнет с сияющими глазами и ослепительной улыбкой. Внешне Геральт был его точной копией, но внутренне пошел в свою мать, которая на фотографии рядом с его отцом смотрелась немного проигрышно: невысокая, худенькая, но зато с выразительным взглядом, выдающим недюжинную внутреннюю силу. Взгляд отца Геральта был другим – озорным и смотрящим куда-то мимо. Корнелия неоднократно вслух признавалась в том, что влюбилась в отца Геральта исключительно из-за его внешней красоты, которая в итоге передалась и их сыну, а затем и нашему первенцу, и его дочери. Однако отец Геральта был человеком ветреным и откровенно не созданным для брака. Он ушел из семьи даже не к женщине – ко многим женщинам сразу. Скорее всего, он не изменял жене, но и быть привязанным к ней одной не смог – укатил в Калифорнию на поиски развлечений спустя неделю после пятого дня рождения Геральта. С тех пор его не видели, хотя пару раз он написал Корнелии нескладные письма о своей разгульной жизни, в которых уверял её в том, что в его лице она не потеряла ничего благополучного. Сначала Корнелия переживала, но потом пришла в себя и даже открыла свой небольшой бизнес по продаже тканей, однако ей вновь довелось встретить на своём пути непутёвого мужчину. Когда Геральту было двенадцать, Корнелия родила внебрачную дочь от человека, который бросил её, как только узнал о её беременности. Гораздо позже, когда оба её ребёнка повзрослели и отделились от неё, она всё же смогла обрести хотя и непродолжительное, однако полноценное счастье в лице своего третьего избранника, ставшего для неё последним – они повстречались, когда уже оба вступили в преклонный возраст и когда каждый из них уже успел прожить свою собственную жизнь не так, как того хотел бы.
Тётя Корнелия и её дети – Геральт, и Бетани, которая была всего на два года младше меня, – приехали в Вермонт неожиданно. Геральт собрался открывать свой личный бумажный бизнес и таким образом – не специально, просто так совпало – перевёз мать и сестру на родину первой. Они продали свой дом в Атланте, доставшийся им в наследство от родителей отца Геральта, и купили приличный дом на улице, примыкающей к нашей. Так я и познакомилась со своими единственными кузенами: взрослым красавцем Геральтом и неугомонным подростком Бетани, которую все мы звали просто Бекс.
Бекс была душой компании, самым её центром, что, как и свою внешность, по словам Корнелии, она унаследовала от своего отца. Насколько был красив Геральт, настолько неказистой и непривлекательной – но только внешне! – казалась людям Бекс. Она была очень худенькой, даже костлявой девочкой, с рыжеватым оттенком волос и веснушками, покрывающими всё её остренькое личико. Бедняжка очень завидовала мне и Геральту – нашим густым чёрным волосам, нашей молочной коже, нашим большим глазам, в общем, всему тому, чему я не советовала бы завидовать ни одной девочке. Тем более у Бекс было очень много положительных качеств: она была настолько весёлой, громкой и быстрой на язык, что в её компании было совершенно невозможно не улыбаться.
Я быстро сдружилась с Бекс, а иначе и быть не могло: ко мне всегда тянулись люди, а Бекс была такой энергичной, что не подружиться с ней у меня, кажется, попросту не было шансов. Она рассказывала мне обо всём на свете: о новых соседях и об оставшейся в Атланте подруге, о ненавистных для неё уроках физики и любимом клубничном торте, о белках на соседском белом клёне и гоняющих их собаках, о новом книгопечатании и об устаревающей прессе, о нуждающейся в нашей поддержке экологии и о безграничных тайнах океана, о симпатичных мальчишках… У Бекс, как и у всех нас, была своя ахиллесова пята. Она была очень, очень влюбчивой. Настолько, что даже была способна влюбиться в двух мальчиков одновременно. Однако из-за очевидной внешней непривлекательности и из-за узколобия подростков, способных оценить блестящую этикетку, но не горький шоколад, завёрнутый в неё для особого случая, она не имела популярности у парней и постоянно страдала от собственных пророчеств, а пророчила она себе неизменно один-единственный сценарий – одинокую жизнь в старых девах. Она думала, что мне её было не понять из-за того, что мальчики на меня всегда откровенно заглядывались. Возможно, несмотря на всю проникновенность моего сочувствия к ней конкретно в этом вопросе, в какой-то степени она всё же была права: мне действительно ни разу за всё детство и всю мою юность не приходила в голову мысль, будто я останусь одна, без мужа, без детей, да ещё и без собаки. Я как будто даже не сомневалась в уготованном мне семейном счастье, а оно, как будто взамен на такую безусловную веру, взяло и сбылось. С переменным успехом, конечно, но всё же…
Геральт с первого взгляда не воспринял меня своей кузиной. Это он мне так позже сообщил, когда нам уже было поздно отступать назад. Мне было всего семнадцать, а ему только исполнилось двадцать семь – разница в возрасте внушительная. Я – ещё не вылетевший из родительского гнезда птенец, он – видный парень, начинающий бизнесмен, в полной мере обеспечивающий мать и сестру. Вполне естественно, что я не смогла устоять перед такой мужественностью – а он был именно мужественен, особенно на фоне моих ровесников. И дело было не в том, что у него был собственный автомобиль и хотя пока что и не обустроенный, но всё же кое-какой офис. Дело было в том, как он вёл себя и как мыслил, какие поступки совершал, каким взглядом смотрел на меня с высоты своего роста и возраста. Поначалу я одергивала себя, но вскоре поняла, что он не шутит и не собирается останавливаться, и тем более отступать. То, что происходило между нами, было очень необычно…
В какой-то момент отец пообещал Геральту отдать меня ему в жены через пять лет, если к тому времени Геральт всё же сможет привести свои дела в порядок и в качестве доказательства продемонстрирует нашей семье свой процветающий бизнес. К концу четвёртого года бизнес Геральта и вправду расцвёл, пусть и на непродолжительный срок, всё же нам этого короткого процветания хватило, чтобы мои родители благословили наш союз. Мне было двадцать два года, а Геральту тридцать два, когда мы наконец стали официальными мужем и женой – неофициально мы всё же не выдержали и впервые переспали за три года до свадьбы. Родители о наших тайных встречах в мотеле за городом, конечно же, ничего не знали. Так почти шестьдесят лет назад я переродилась из мисс Армитидж в миссис Армитидж, потому что Геральт носил фамилию Корнелии, таким образом предпочитая забыть об отце, который в своё время забыл о них.
Свадьба у нас была пышной, гостей было больше сотни – в те времена у нас было много молодых и пышущих здоровьем друзей, готовых веселиться от заката до рассвета. На второй день после свадьбы последовало свадебное путешествие на Капри, во время которого мы перестали предохраняться. Однако зачать сразу не получилось, хотя мы завидно сильно старались. К концу второго бесплодного года я даже начала немного переживать на этот счёт, однако уже в конце третьего года нашего брака у нас родился Шон. Его рождение стало для меня чем-то невероятным – портал в космос, открытие новой вселенной, новая Жизнь…
Шон получился очень красивым мальчиком – похожим и на меня, и на Геральта одновременно. Он с ранних лет поражал нас своим острым умом и добрым сердцем – в этом мальчике как будто соединилось всё лучшее, что было во мне и в Геральте. Не прошло и трех лет после его появления, как я осознала, что хочу родить ещё одного ребёнка – с малых лет я мечтала стать матерью прелестной девочки, которую я могла бы наряжать в красивые платьица, в пышные волосы которой я вплетала бы цветные банты. Однако в браке с Геральтом к моему желанию иметь собственную принцессу добавилось и новое, более отчётливое и конкретное желание: я хотела не просто дочь – я хотела её от определённого мужчины, хотела зачать и родить от своего мужа… Но стоило огню этого желания запульсировать внутри меня, как нас подкосила внезапная кончина моих родителей. Они ушли в лучший мир во второй год после рождения Шона, практически друг за другом и оба совершенно внезапно. Так моё сердце впервые по-настоящему разбилось. Из-за переживаемого в те месяцы горя я немного отстранилась от реальности и на некоторое время перестала думать о втором ребёнке – ушла в работу с красками и холстом, вела домашнее хозяйство, была рядом с Геральтом и двухлетним Шоном, а они были рядом со мной. Когда же ко мне вновь вернулись мысли о желанной дочери, наше материальное положение заметно ухудшилось. Прежде нам очень сильно помогали родители – отец был успешен и зачастую финансово поддерживал нас. К примеру, перед свадьбой родители подарили нам наш двухэтажный дом, а после свадьбы некоторая часть мебели была куплена за их счёт. Бумажный же бизнес Геральта начал медленно, но всё же таять. Я всё ещё могла оставаться домохозяйкой и продолжать попытки реализовать себя в пейзажах, на чём тогда даже немного зарабатывала, мы всё ещё без проблем могли содержать и ребёнка, и дом, и машину, но заводить второго ребёнка в то время было финансово рискованно, поэтому мы решили отложить чудо рождения дочери на год-другой.
Тем временем жизнь бурлила не только в нас, но и вокруг нас. Бекс совершенно неожиданно, словно гром в декабре, вышла замуж за человека, не входящего в круг наших общих знакомых – юриста Трумана Лероя, мужчину, старшего нее на целых пятнадцать лет. Стоило им только оформить брак, как Бекс сразу же начала осуществлять свою детскую мечту о большой и дружной семье, и, в отличие от нас с Геральтом, начала с лёгкостью беременеть и рожать детей одного за другим. Первый мальчик родился спустя год после нашего Шона, ещё через год была рождена девочка и ещё через год родился ещё один мальчик. Труман был обеспеченным мужчиной, так что мог в достатке содержать большую семью, да и Бетани подрабатывала швеей. И хотя на фоне Бекс Труман и выглядел стариком, было очевидно, что вместе они счастливы, а это было самым главным.
После свадьбы Бекс перебралась жить на другой конец города, однако это совсем не помешало нам продолжать всячески поддерживать наши отношения и устраивать регулярные встречи. Часто сиживая в моей гостиной и качая своих детей на руках, Бекс с безумной улыбкой счастливой матери рассказывала мне о том, что они с Труманом не собираются останавливаться на трёх детях. Они уже планировали заведение четвёртого ребёнка, после которого последовал бы пятый… Но они не успели.
Глава 3
Труману было сорок девять, а Бетани тридцать четыре, когда их машина сорвалась в каньон. Они ездили на запад, на крестины внучки университетского друга Трумана, и на неделю оставили пятилетнего Джерри, четырехлетнюю Тиффани и трехлетнего Закари с нами. Нам сообщили поздно вечером, когда все дети уже были уложены спать. Потеря Бекс стала для меня с Геральтом и для Корнелии даже более серьёзным ударом, чем потеря обоих моих родителей. Находясь в состоянии аффекта, нам нужно было решать, что делать после похорон. У Трумана из родственников была только старшая сестра, жившая в Индиане, ей только недавно исполнилось шестьдесят, она была бездетна и предпочла таковой и оставаться. Корнелия не могла взять детей к себе по причине возраста – ей было семьдесят три, у неё начинались проблемы со здоровьем. Оставалось всего два варианта. Геральт озвучил только один – он сказал, что мы можем отдать детей под социальную опеку. На самом деле, в тот момент глядя в глаза своего любимого мужа, я прекрасно понимала, что именно он желал услышать от меня. Несмотря на то, что наше финансовое положение было шатким, а с возложением на себя опеки сразу над тремя детьми оно неминуемо должно было расшататься до сложного, я уверенно сообщила мужу о том, что мы оставим всех трёх детей себе. Геральт, до сих пор держащийся словно скала, впервые расплакался – от чувства благодарности. В ночь принятия этого решения мы обнимались так, как никогда до тех пор. На следующее утро нам пришлось обнимать водопад слёз Корнелии – так я в первый и в последний раз увидела слёзы этой сильной женщины.
По-моему, я не могла поступить иначе. Эти дети были кровными племянниками Геральта и кузенами Шона, Бетани была моей лучшей подругой, названой сестрой. Эти дети – всё, что нам от неё осталось. Небогатое материальное наследство, доставшееся нам от Трумана, пришлось отдать в счёт кредита за дом, а остатки достаточно быстро иссякли…
Джерри, Тиффани и Закари были миловидными детьми, светловолосыми и синеокими, внешне пошедшими в Трумана, что в своё время очень радовало Бетани – она так и не примирилась со своей внешностью и потому была счастлива тем, что ни один из её детей не скопировал ни единой черты её портрета. Однако по нраву дети пошли именно в Бекс – громкие, весёлые, неугомонные, жаждущие внимания и движения. Труман был из очень тихих людей, однако казалось, что от его тихого нрава его дети не унаследовали ни грамма. Хотя чем старше становился Закари, тем больше в его характере проступал Труман: в подростковом возрасте он заметно притих, вдруг стал застенчив и неуверен в себе, с чем всегда буйные Геральт, Шон и Джерри пытались бороться своими методами, но что побороть до конца так и не смогли.
Дети быстро прошли акклиматизацию – они знали нас с пелёнок, так что вопрос заключался только в их осознании того, что они больше никогда не увидят своих родителей, и в их привыкании к новым спальням. Шону пришлось потесниться – в его комнате появилась двухэтажная кровать и ещё один шкаф, – а Тиффани я отдала своё рабочее пространство: комната, в которой я писала свои пейзажи, была небольшой, но с полноценным окном и местом не только для кровати, но и для шкафа, и для стола.
Я пожертвовала не только своим рабочим пространством. Я отдала в жертву практически всё. С четырьмя маленькими детьми, которых нужно обслуживать двадцать четыре часа в сутки, остаётся мало времени на себя. Я готовила, стирала, прибиралась, отскребала, играла, гладила, штопала, успокаивала, убаюкивала, собирала, выслушивала, одевала, купала, безоговорочно любила всех с одинаковой силой – круглосуточно.
Рисовать я стала ещё до знакомства с Геральтом и Бетани. Как в возрасте пятнадцати лет взяла в руки набор простых карандашей в попытке сотворить портрет, так и не выпускала их, а перед рождением Шона с головой ушла в акварельную живопись. Однако с непредвиденным расширением нашей семьи рисовать мне стало негде – в доме не осталось ни одного свободного уголка, всё пространство было занято детским присутствием, порой пугающе походящим на хаос. Но соглашаясь становиться матерью для детей Бекс и Трумана, я в полной мере осознавала, на что иду. Конечно, я не смогла расстаться с рисованием сразу, кажется, оно всю мою жизнь незримо просачивалось через мои пальцы, но всё же уже совсем скоро я обратилась из художницы-домохозяйки (до сих пор художница была именно на первом месте) в маму-домохозяйку, которая помнит все школьные мероприятия и лишь иногда вспоминает о пылящихся на чердаке красках и холстах, а вспоминая, позволяет себе выпить пару бокалов вина для смягчения удара. Не реализовать себя – что может быть хуже? Однако же я не сожалею. Дети выросли прекрасными, любимыми, в счастье и хотя не в том достатке, который нам с Геральтом хотелось бы им предоставить, но зато в здоровом психологическом климате, который, надеюсь, им хотя бы немного помог в их взрослой жизни…
Мы с Геральтом больше не родили. Соглашаясь на опеку над тремя не своими детьми, я фактически подтверждала свой отказ от рождения собственного ребёнка. Геральт это понимал. Он знал, как долго и как страстно я грезила о втором ребёнке. В то время мы уже были готовы завести его. Геральту было сорок пять, мне тридцать шесть, Шону одиннадцать – это был идеальный и, пожалуй с учётом наших возрастов, последний шанс обзавестись вторым ребёнком. Мы только-только приступили к попыткам зачатия, когда дети Бекс остались сиротами. Содержание ещё одного ребёнка означало бы для нас банкротство и переход черты очевидной бедности, и всё равно я расплакалась, когда в конце месяца у меня началась менструация – втайне я надеялась, что три незащищенных половых акта, которые мы совершили до трагедии Бекс, всё же дадут плоды, и тогда бы мы что-нибудь придумали: я устроилась бы на официальную работу или мы обеднели бы окончательно, но у меня была бы собственная дочь, рождённая мной лично – это ли не счастье?! С появлением у нас Джерри, Тиффани и Закари мы вновь начали тщательно следить за предохранением. Но я всё равно была счастлива – дети Бекс стали для меня такими же родными, каким был для меня Шон.
Помимо ребёнка, в тот год мы планировали завести собаку. Я не заводила её раньше из-за панического страха матери, а позже из-за занятости младенцем, но Шон уже подрос и сам заговорил о собаке. Мы с Геральтом втайне сговорились подарить щенка на его двенадцатый день рождения, хотя оба прекрасно понимали, что этот подарок скорее будет сделан больше мне, чем Шону. Хорошо, что в то время мы не успели обзавестись псом – что бы мы тогда с ним делали? Сразу после посещения приюта у Тиффани обнаружилась серьёзная аллергия на собачью шерсть – у неё слезились глаза, чесалась кожа, она часто чихала. Мы перепроверили, чтобы быть уверенными наверняка – реакция организма Тиффани на собак была однозначной. Я была расстроена, но смысл обижаться на реальность? Пришлось и на этой мечте поставить категоричный крест с искренней вывеской на нём: “Ни о чём не жалею”.
Кроме детей у нас была ещё одна очень важная забота – мать Геральта. Она жила на соседней улице и, несмотря на преклонный возраст, помогала нам с детьми, однако время брало своё. За четыре месяца до того, как мы потеряли её, в возрасте восьмидесяти пяти лет она не смогла отказаться от предложения, от которого отказывалась последние пару лет, и переехала жить в наш дом. Ей требовался уход – при относительно сильных ногах у неё открылся сильный тремор рук, поэтому я одевала её, кормила и помогала справлять нужду в унитаз. За несколько дней перед смертью она вдруг призналась мне в силе своей благодарности за то, что я взяла на себя воспитание детей её дочери, за то, что ради этого отказалась от идеи родить ещё одного собственного ребёнка, отказалась от карьеры художника и даже от собаки… Корнелия была замечательной свекровью, так что я и без её слов прекрасно знала обо всех её потаённых чувствах и потому не понимала, зачем она вдруг решила высказать мне эти мысли, но потом она просто не проснулась, и я поняла, какой вес для неё имели эти слова. Шону было двадцать три – он уже с успехом окончил университет и жил отдельно, – Джерри семнадцать, Тиффани шестнадцать, а Закари пятнадцать, когда их любимой бабушки не стало. Дети были разбиты её уходом не меньше, чем мы с Геральтом. Тиффани ревела три ночи напролёт, Джерри и Закари окончательно забросили спорт. Мы с Геральтом продолжили оставаться для наших детей и спасательным кругом, и тихой гаванью, и одновременно их главной эмоциональной встряской. Чтобы вывести детей из депрессии, нам пришлось серьёзно попотеть и по-настоящему встряхнуть их – Геральт рискнул своим и без того шатким бизнесом, риск оказался оправданным, и мы впервые за всё время существования нашей семьи отправились за границу, в саму Грецию, где провели замечательные три недели, купаясь в Эгейском море и загорая на горячих чужеземных песках. Это замечательное, счастливое воспоминание. Пока дети были маленькими и даже подростками, таких воспоминаний создавалось много.
Дети… Как много заключено в этом сборном названии. А между тем за каждым из них стоит личность, своя уникальная история, отдельная вселенная, с каждым годом отделяющаяся от вселенной родителей всё больше и отчётливее, а оттого и драматичнее.
Джерри был самым шумным ребёнком не только в нашей семье, но и, пожалуй, во всей округе, чем очень напоминал Бекс. Он не мог усидеть на месте, постоянно стремился на улицу, в нашем городе, должно быть, не осталось ни единого дерева, с высоты которого этот мальчик не оглядел бы нашу равнинную панораму. У всех наших детей всегда было много друзей, но у Джерри их было, казалось, больше, чем у самого президента США – каждый прохожий человек в один момент мог стать его лучшим другом и веселиться с ним так, как будто они знакомы всю жизнь: играть в перегонки, обмениваться модельками солдатиков, обсуждать гоночные машины, гонять мяч и разбивать им окна соседских домов. Джерри единственный ребенок, который допрыгался до перелома костей, причем трижды – в возрасте девяти и одиннадцати лет сломал одну и ту же руку, в пятнадцать лет на американском футболе схлопотал перелом ребра. Его интересовало, казалось, всё на свете, но чем старше он становился, тем уже становился радиус его интереса, пока окончательно не сузился до всего лишь одной категории – девочки. Когда-то Бекс могла быть влюблённой сразу в двух парней, сейчас же Джерри стал влюбляться сразу в нескольких девочек одновременно. Что уж скрывать, он с ранних лет был любителем красивых девчонок и в ответ являлся их любимчиком. Неудивительно, что он рано женился из-за беременности последней подружки, которая между тем была на пять лет старше него. Джерри было всего двадцать два, а Хильде двадцать семь, когда у них родился Йен. Ещё через три года у них появилась Керри. Так шебутной Джерри превратился из ветреного парня в отца семейства, а вместе с тем стал неплохим маркетологом, специализирующимся на рекламе для строительных компаний.
Хильда Макгуайар уже была юристом, когда вышла замуж за Джерри. Она всегда зарабатывала немногим больше Джерри, кроме того, была не только постарше, но и посерьёзнее, и ответственнее, и собраннее нашего сына. Со мной и Геральтом невестка всегда держалась на расстоянии вытянутой руки – ей не нужны были объятья и чрезмерное внимание, она предпочитала всё делать самостоятельно, без вмешательства родственников и порой даже без советов собственного мужа. Она была неплохой, просто слишком строгой ко всем и к самой себе в частности, неизменно облаченная в один из своих серых костюмов и неизменно забывающая о днях рождения родителей своих внуков. Мы с Геральтом относились к ней с таким же уважением, с каким она относилась к нам, но дальше наши с ней отношения так и не зашли – по-настоящему близкими мы не стали. Она просто была благодарна нам за красивого сына, а мы с Геральтом, в свою очередь, были благодарны ей за то, что она взяла на себя заботу об этом шумном парне. Если начистоту, тогда для меня было удивительно, что их брак состоялся и что в нём появилось целых двое детей, и что он продержался так долго, и тем не менее я не меньше удивилась и сильно расстроилась, когда два года назад они сообщили мне о своём разводе. На тот момент их первенцу Йену уже было двадцать пять, он только что женился на Шанталь и они уже планировали рождение Фэй; их дочке Керри недавно исполнилось двадцать два и она только недавно родила Дейзи от бросившего её беременной парня, – поэтому я сложно переваривала причину развода Джерри с Хильдой. Моему сыну сорок семь и он уходит от пятидесятидвухлетней жены к двадцативосьмилетней любовнице, находящейся на третьей неделе беременности от него. Хильда не устраивала истерик. Её гордость всегда была слишком велика для подобных сцен. Являясь юристом, она ускорила процесс развода: всё началось и закончилось моментально. И вот у меня теперь новая невестка Лукреция, и рождённая позднее правнуков внучка Лаура. Геральт не поверил бы в такое, но спустя два года брака Джерри и Лукреции я уже не удивлена этому союзу. Джерри всегда был падок на женскую красоту, а Лукреция молода, весела, выкрашена в блондинку и всегда с яркой помадой на губах – полная противоположность шатенки Хильды, неизменно носящей серьёзное выражение лица и почти не пользующейся косметикой. Как ни странно, но Лукреция по натуре больше подходит Джерри, жаль только, что разница в возрасте слишком велика и, боюсь, со временем Лукреция может переметнуться к другому мужчине, оставив Джерри с дочерью на руках. Надеюсь, что я ошибаюсь на этот счёт. В конце концов, Джерри хорошо выглядит, потому что скрупулезно следит за собой – ходит в тренажерный зал, бегает по утрам и играет в гольф. И всем этим он начал заниматься в отношениях с Лукрецией. Бедный мальчик наверняка сам понимает, что залог его отношений с молодой и весёлой женой зиждется исключительно на его физической красоте и крепком здоровье. И ещё, безусловно, на его финансовом благосостоянии. Но ведь ничто не вечно…
Тиффани росла всеобщей любимицей. Единственная дочка, она получала от меня, Геральта и братьев максимум внимания и любви. Красивая, белокурая, ясноглазая и непоседливая девочка, любительница розовых пачек, сладкоежка и кокетка неожиданно выросла в серьёзного ресторанного критика, неизменно облачённого в деловой костюм вроде тех, которые любит Хильда, только костюмы Тиффани редко бывают серыми – они исключительно яркие и заметно более дорогие. В отличие от Джерри и Закари, Тиффани без оглядки уехала из сорокатысячного Берлингтона в шестисоттысячный Бостон, где уже к тридцати годам отстроила себе приличную карьеру. Сейчас ей сорок восемь, она узнаваема в узких ресторанных кругах, о ней пишут в глянцевых журнальных разворотах… Она всегда занята. Отчасти поэтому у неё не получилось обзавестись собственной семьёй. У неё было много мужчин, но ни за одного из них она в итоге не вышла замуж, даже помолвлена ни разу не была. Моя девочка утверждает, что ей вовсе не интересен брак, домохозяйство и дети, и я ей верю. Ей действительно это не интересно. Ей интересно другое – статус и лоск, которые ей даёт её утончённая работа.
Закари – спокойный мальчик, предпочитающий находиться в тени своих братьев. Он никогда ничем не интересовался серьёзно и увлекался только тем, чем увлекались его братья. Шон любил спорт, поэтому спортом интересовался и Закари, Джерри любил подраться с соседскими мальчишками, поэтому порой дрался и Закари, и так со всем: вырезки из журналов, барабаны, девочки, коллекции, бейсбол, скейтборд – всё приходило к Закари из областей интересов его старших братьев. Школу он окончил со средним баллом, как и Джерри решил остаться в Берлигтоне, быстро нашел себе работу в местном туристическом агентстве и стал весьма неплохим агентом, но, в отличие от брата, мгновенно обзавестись семьёй у него не удалось – чем старше он становился, тем отчётливее росло его смущение перед представительницами противоположного пола. Впрочем, всё и для Закари в итоге разрешилось скоропалительным браком. В тридцать лет он женился на двадцатипятилетней учительнице химии средней школы Присцилле Хайсмит, с которой провстречался всего четыре месяца и которая забеременела от него до брака. Через два года после рождения Валери у них родился ещё один незапланированный ребёнок – Бен. В целом, брак Закари и Присциллы, вроде как, состоялся – совершенно обычная, стандартная семья без каких-либо отличительных особенностей и уж точно без тех страстей, к которым склонен в своих браках Джерри. Закари – открытая книга с заранее известным концом, и в этом его прелесть.
О Шоне я не могу вспоминать без перехватывания духа. С самого детства он был необыкновенным мальчиком: красивый брюнет с сияющими теплотой глазами, добряк и душа компании, лучший питчер в истории школьного бейсбола, он обожал чертежи. Как и я в своё время, Шон мог часами склоняться над холстом, только в отличие от меня, распределяющей краск вольно, он орудовал исключительно чёткими линиями – простые карандаши, линейки, циркули и ластики были для него чем-то особенным, как кисточки и краски для меня. Ему не было и десяти, когда мы все уже знали – потому что он нам уверенно сообщил – о том, что он непременно станет замечательным архитектором. И он им стал. Успешно поступил в университет и уехал даже дальше Тиффани, в Коннектикут. Его дипломной работой стал наш загородный дом у озера – он спроектировал его, а мы его материализовали за счет своих сбережений. В этом загородном доме мы с Геральтом, достигнув средних лет, провели много чудесных летних вечеров, отдыхая от шумных птенцов, повылетавших из нашего городского гнезда и разлетевшихся в разные стороны. Жить в доме, который для тебя спроектировал твой собственный ребёнок – особенный вид счастья, состоящий из гордости и тёплых улыбок.
У девушек Шон был популярнее даже Джерри, но в отличие от Джерри он, наподобие меня и Геральта, был из однолюбов. С Барбарой Шон познакомился вернувшись в Берлингтон после учёбы. Он повредил лодыжку во время игры в футбол, а она, студентка первого курса медицинского колледжа, отрабатывала на том матче в качестве помощника спортивного врача. Ей было восемнадцать, Шону двадцать восемь – десять лет разницы, прямо как у меня с Геральтом. Спустя год после знакомства они поженились, ещё через год у них родилась прелестная малышка, на удивление очень сильно похожая именно на меня. Девочку назвали Рокки. Рокки – наша с Геральтом единственная кровная внучка от единственного кровного сына. Я в неё сразу же влюбилась, как, к моему стыду, до тех пор не влюблялась ни в одного своего внука или внучку. Она была необыкновенной девочкой, отличающейся от всех остальных на каком-то особенном уровне: она не походила ни на Йена, ни на Керри, на гораздо позже появившихся Валери и Бена. Она была глубже, интереснее, молчаливее, вдумчивее и внешне она получилась такой похожей на меня, что я просто с ума сходила от радости нахождения рядом с ней. А мы очень много времени проводили вместе, потому что Шон был занят работой, а Барбара учёбой на последних курсах колледжа, а после также работой. Молодые родители были не прочь уединиться, и потому с лёгким сердцем передали нам чуть ли не круглосуточную заботу об их дочери. Первые шесть лет жизни Рокки я с трудом расставалась с ней и очень ждала наших встреч, поэтому была несказанно благодарна сыну и невестке за то, что вместо яслей и детского сада они разрешили мне присматривать за своей внучкой: мы рисовали, готовили еду, лепили из пластилина, ходили в гости к кузенам и кузинам, качались на качелях, посещали детскую площадку – всё делали вместе. Рокки хотя и была серьёзным ребёнком, она ещё была и бойкой, и страстной, что совсем не было похоже на меня. Она могла подраться с мальчишками, отбивая у них выпавшего из гнезда воробья – я же в её возрасте только расплакалась бы, жалея несчастную пташку.
Когда началась школа, я всё ещё была главным опорным пунктом Рокки: перед тем, как возвратиться домой из школы, она непременно заглядывала к нам с Геральтом – делилась с нами своими новостями, дарила нам запечатленные цветными мелками на нелинованных листах рассказы собственного сочинения, с удовольствием, обычно не присущим детям, слушала наши истории, запивала имбирное печенье какао, иногда даже оставалась ночевать у нас – её ночёвки в пустующей комнате моих сыновей были для меня настоящим праздником (комнату Тиффани Рокки сочла “слишком розовой” для себя, что заставило нас с Геральтом посмеяться).
Шон, в отличие от меня, когда-то мечтавшей родить дочь, всегда мечтал о сыне. Потому и назвал свою дочь не самым женственным именем. С учётом же того, как много времени он проводил наедине с Барбарой, я очень надеялась на то, что скоро они порадуют нас с Геральтом новостью о втором внуке. В конце концов, Рокки уже было десять лет, а Барбара как-то раз обмолвилась, что была бы не против завести ещё одного ребёнка. Вот чего мы ждали тогда – продолжение жизни. Но вместо продолжения случился обрыв.
Мы не знаем, что Шон делал в Пенсильвании – он уехал внезапно, никому ничего не сказав. Его нашли с проломленным черепом возле его автомобиля в съезде на лесную дорогу. Кто-то ударил его по голове сзади кирпичом, который нашли на месте преступления, однако ничего, кроме кирпича, больше так и не обнаружили. Никаких отпечатков пальцев, следов обуви, частиц кожи – ни единой улики. Совсем ничего. С чего вдруг Шон отправился так далеко и кто мог бы ему навредить – ни мы с Геральтом, ни Барбара не знали. Как не знали, как нам пережить горе такой величины и глубины. Нашему мальчику было всего лишь сорок лет, у него были большие планы на жизнь, он любил жену и обожал дочь… Он… Не должен был умереть раньше нас, своих родителей!
Спустя два месяца после смерти Шона Барбара забрала Рокки и уехала с ней в Коннектикут – они с Шоном купили и сдавали там квартиру, своей же жилплощади в Берлингтоне у них не было, а Барбара не хотела оставаться в этом городе, да и в Хартворде, в который она перебралась, жили её кузены. Так я в один миг потеряла и сына, и внучку. Расследование с первых же дней зашло в тупик. Убийцу Шона так и не нашли. Из отчаяния я впала в глубочайшую депрессию, из которой смогла выкарабкаться только благодаря стараниям Геральта, спустя полгода и полностью поседевшая в свои шестьдесят пять. Так мы с Геральтом состарились. Вместе и практически одновременно.
Хотя Рокки рядом с нами уже не было, у нас всё ещё были другие внуки: Йен, Керри, Валери и Бен. Ради оплаты обучения внуков, которое не могли в то время потянуть их родители, мы с Геральтом решили пожертвовать своим домом, тем самым, который купили для нас мои родители и в котором мы вырастили четырех замечательных детей, и встретили пятерых внуков. Теперь наши потомки нуждались в хорошем образовании, но кроме дома у нас не было никаких материальных ценностей, чтобы помочь им в получении желанного, поэтому мы сделали то, что от нас ожидала семья: продав просторный дом, мы купили скромную двухкомнатную квартирку рядом с центром города, перебрались жить в нее, а остатком средств покрыли образование старших внуков. Так начинались первые главы нашей с Геральтом новой книги под названием “Старость”. Мы остались с ним вдвоём, уставшие, но счастливые уже только тем, что мы вместе. Но и это счастье в итоге обратилось в прах. Геральт дожил до того возраста, до которого теперь добралась я – ему было восемьдесят, когда он оставил меня одну. Пока я заваривала ему чай, он уснул в своём кресле за чтением утренней газеты и не вернулся ко мне из своего сна. И так я осталась действительно совсем одна, хотя и с детьми, и с внуками…
Сыновей немного испортили их жёны, дочь испортило чрезмерное количество мужчин, которых она меняла, словно перчатки – теперь я смогла признать эту правду. Они выросли, занялись своими собственными жизнями и позабыли о родителях, но я поняла это только после того, как ушел Геральт. Пока он был рядом со мной, я как будто находилась в самом центре жизни и никогда не чувствовала себя одинокой, а здесь вдруг осталась сама напротив себя, так странно… Не с кем поговорить. Слишком многих больше нет и слишком многие недосягаемо далеки, хотя и живут на одной планете со мной, в одной стране и даже в одном городе. В моей жизни больше нет их голосов, взглядов, улыбок и даже звонков, а если они вдруг появляются – всегда внезапно, словно гром среди ясного неба, – я весь день хожу ошарашенная, словно оглушенная бурей. Однако же это не конец. В моей тускнущей жизни всё ещё есть кое-кто особенный, кому я безоговорочно нужна каждый Божий день, кто нуждается во мне так же сильно, как я нуждаюсь в нём. За пять лет до своего ухода Геральт осуществил мечту всей моей жизни – с улыбкой согласно кивнул, когда я сообщила ему о том, что у нас, наконец, будет собака. Щенка отдала мне переезжающая соседка: самый маленький из помёта и очень слабенький – не выживет без тщательного ухода. Сколько радости нам подарило это существо! Ежедневные утренние прогулки, веселые походы к ветеринару, знакомство с собачниками вроде нас, игры с мячиком, задорный лай… Теперь этот пёс – единственное существо на всей этой планете, которому я нужна не меньше, чем он мне – безмерно. Дети и внуки меня, конечно, любят, но при этом могут не вспоминать обо мне днями и даже неделями, а некоторые из них может быть даже и месяцами, но Вольт помнит обо мне всегда, как и я о нём. А значит, всё ещё может быть не так плохо. Значит, и обожженная рука заживёт.
Глава 4
Прошло два дня с момента получения мной нелепого ожога, кожа всё ещё полыхает и зудит, но меня это совсем не беспокоит, потому что всё моё беспокойство сейчас сосредоточилось на более важном, совершенно неожиданном событии. Вчера вечером мне позвонил Джерри. Как долго он не звонил мне? Не могу вспомнить… В любом случае приятно знать, что номер моего домашнего телефона всё ещё сохранён в контактах моего старшего сына. Он сообщил мне о том, что завтра – уже сегодня! – в город приезжает Тиффани. Вот так вот резко, без предупреждения! Как долго мы не виделись? Точно больше года… Сегодня у Джерри будет семейный ужин: впервые за последние несколько лет все мои дети и их дети, и дети их детей соберутся все вместе. Я буду почётным гостем. Джерри так и сказал – почётным! Я распереживалась так, что заснула только перед рассветом, проспала до полудня и в итоге проснулась совершенно разбитой. Я так давно не ужинала в кругу своей семьи, что, оказывается, совсем забыла каково это и вообще как это переживать.
В гардеробе у меня уже лет десять как не осталось большого выбора платьев, поэтому я переживаю, что платье, купленное больше пяти лет назад, может выглядеть на мне немодным, хотя оно и идеально чистое, и тщательно выглаженное, в красивую тёмно-синюю полосочку и с тоненькой брошкой на накрахмаленном воротничке. Из косметики в запасах нашлась только помада, которой я иногда подкрашиваю свои сухие губы, а еще чёрный карандаш, да высохшая тушь – я никогда не пользовалась чем-то бльшим, только таким вот незамысловатым комплектом, который состарился так же незаметно для меня, как я сама. Однако помада всё ещё красила, карандаш всё ещё чертил линию, тушь только пришлось сразу же выбросить. Одаренная природной красотой, я никогда сильно не интересовалась косметикой, и вот тебе, в восемьдесят лет сокрушаюсь о том, что у меня не нашлось свежей помады, нового карандаша и невысохшей туши.
Сидя напротив трюмо и вглядываясь в зеркало, я аккуратно расчесываю волны своих густых белоснежных волос, длинной почти достигающих поясницы. Мои движения аккуратны не потому, что я боюсь дернуть свои завидно крепкие пряди, а потому что у меня болит обожженная правая рука. К концу расчесывания дискомфорт стал настолько невыносимым, что пришлось дочесываться левой рукой. Чрезмерно густые волосы уже пару лет как заставляют меня пропыхтеться из-за необходимого им тщательного ухода, который они требуют регулярно – каждое утро, – однако стричься я не хочу. Всю жизнь прожила с красивой, волнистой, густой шевелюрой на голове, подравнивая её ровно по ладони – одной ладони всегда не хватает до начала бедра, – так и хочу уйти из этого мира с такой прической. Последние двадцать лет я укладываю прическу привычным манером: заплетаю косу и делаю из неё густой плетеный бублик на затылке. Это Геральт назвал эту прическу бубликом, чем сильно повеселил меня. Этот бублик ему очень сильно нравился, и мне он тоже нравится.
Справившись с бубликом и украсив его черепаховым гребнем, доставшимся мне в наследство от матери Геральта, я замерла напротив зеркала, не найдя в себе силы улыбнуться своему отражению, как я обычно делаю это всякий раз отходя от трюмо. Если улыбнуться самой себе перед выходом из дома – сможешь улыбнуться и всему тому, что ожидает тебя за порогом. Но сегодня я слишком сильно переживаю, а улыбаться лицемерно, пусть даже самой себе, я никогда не умела. Надо же, приезжает Тиффани… Интересно, сильно ли моя девочка изменилась? Что переменилось в её внешности, в её одежде, в её манере держать себя? Бостон сильно изменил её, превратил почти в чужую незнакомку с ровной осанкой и смотрящим в потолок носиком, но её улыбающиеся глаза меня не обманут – это всё ещё моя – наша с Геральтом – Тиффани, принцесса бала фей и покорительница морских чудовищ, о которых мы читали ей сказки на ночь. Сегодня я встречусь с этой принцессой, обитающей на далёком от меня острове неизвестной мне реальности, и узнаю, как поживают её прирученные чудовища, загляну в её глаза… Какое счастье, что она приехала! Какое счастье, что у нас будет семейный ужин! Как жаль, что на этом чудесном ужине не смогут присутствовать Геральт и Шон, что на него не придут Барбара и Рокки, и даже Хильда.
Уже у выхода из квартиры я распереживалась намного сильнее. Вдруг всегда элегантной Тиффани не понравится моё платье? Вдруг все заметят, что я постарела ещё сильнее? Вдруг у меня разболится рука, о которой все они уже наверняка знают? Вдруг я что-нибудь уроню, и они заподозрят во мне старческую немощность? В последнее время я стала часто ронять вещи, а поднимать их совсем тяжко, как будто на отвесную гору взойти… Вот и сейчас, нагнувшись, я с трудом делаю действие, которое всю мою жизнь казалось мне совсем уж элементарным – при помощи стальной лопатки я надеваю свои аккуратные, закрытые и всегда заботливо начищенные кремом туфли без каблука. Они так блестят, что я не сомневаюсь в том, что буду выглядеть в них хорошо – как человек, не нуждающийся в лишней заботе или хоть в какой-нибудь заботе, хотя это, конечно, не так… Лишней заботы, думается мне, не бывает. По крайней мере, для старости.
Хорошо, что я всё-таки намазала руку кремом, который по пути из больницы купил мне в аптеке Закари. Этот крем заметно снимает жжение, даже как будто действительно способствует исцелению.
Распрямившись, я даже не успела отложить обувную лопатку на комод, как услышала скуление Вольта. Ах, как же я могла забыть предупредить его о своём уходе?! Видимо, я такая же, как мои дети!
Разуваться для того, чтобы заново обуться, было бы для меня сродни самоубийству, так что я решила пройти вглубь гостиной в обуви. По возвращении домой обязательно помою пол: я вообще его регулярно, раз в неделю мою, так что в моей квартире безукоризненная чистота. Ещё бы! Стольких детей вырастить, да ещё в компании с не самым аккуратным мужчиной, каким был Геральт несмотря на все его положительные качества, а после принимать у себя безудержных внуков – в первой половине своей жизни мне волей-неволей приходилось быть чистюлей, таковой я и осталась навсегда.
Пройдя в гостиную, я, кряхтя, опустилась на колени перед диваном, на котором привычно лежал Вольт, и ласково коснулась его головы своими сухими пальцами.
– Я скоро вернусь, малыш, – пригнувшись чуть ниже, я прошептала это обещание прямо в грустную мордочку своего друга. В ответ Вольтик протяжно заскулил. Он спаниель породы коикерхондье, а эта порода очень умная, так что я даже не сомневаюсь в том, что он понимает каждое моё слово.
Не без труда я разогнулась и вновь встала на ноги. И снова появилась одышка на ровном месте. Я действительно уже очень старая… Интересно, сколько мне ещё осталось?.. Да разве это важно? Главное – суметь прожить свой остаток жизни хорошо: по-доброму и счастливо. Я, конечно же, продолжу стараться, а значит, этот вечер имеет все шансы пополнить копилку моих счастливых воспоминаний.
Что бы я делала без семьи? Как бы прожила свою жизнь и какие воспоминания о другой прожитой мной жизни у меня были бы?..
Как хорошо иметь семью.
Глава 5
К своему стыду, я очень сильно надеялась на то, что за мной заедет кто-нибудь из моих детей. За мной же приехала всего лишь новая жена Джерри. Если говорить совсем уж откровенно – Лукреция мне не нравится. Причину толком не объяснить: потому ли, что она разбила брак Джерри и Хильды, или потому, что мы просто совершенно полярные друг другу личности, а всё же она чуть ли не единственный человек на земле, который мне так отчётливо не нравится. Однако не мне же с ней жить и спать, и иметь от неё детей. Джерри доволен своей новой женой, так что и я её принимаю уж такой, какая она есть: волосы снова высветлены до самых корней, в густо напомаженном рту жачка, ногти отливают перламутром. Этой женщине как будто в прошлом месяце и не исполнилось тридцать лет, и дома у неё нет ни мужа, ни годовалой дочери. Она больше походит на таксистку, которая сейчас подбросит меня до дома моего сына, чтобы после поехать в клуб в своей тонкой розовой кофточке с глубоким декольте…
Эта молодая женщина всегда неискренне улыбалась мне и всегда вела со мной совершенно пустую болтовню, но в этот раз как будто была особенно перевозбуждена, отчего громко болтала и смеялась всю дорогу. Она рассказывала мне о каких-то своих подругах, которым я не была представлена, и хихикала над их мужьями, что казалось мне вульгарным. Она как будто изо всех сил старалась понравиться мне, но для этого неизменно выбирала самый неудачный способ. Жаль, что Джерри рано или поздно придется осознать, во что он впутался. Надеюсь, Лаура успеет дорасти до того возраста, в котором ей будет хватать заботы только одного своего родителя, потому что, судя по тому, в каком ключе Лукреция размышляет о мужьях своих подруг, верной женой и добросовестной матерью она останется ненадолго. Вопрос только в том, на сколько. Ещё лет пять? Семь? Не больше. Бедный, бедный Джерри… Кто же ему поможет с малышкой? Ведь меня к тому времени может и не стать. Хотела бы я считать себя предвзятой, хотела бы признать своё нерасположение к новой невестке выдуманной старческой придирчивостью, но вот мы остановились на светофоре, и Лукреция притихла. Покосившись взглядом в её направлении, я заметила, как она улыбнулась водителю, остановившемуся слева от неё, но заметив это, я сделала вид, будто не вижу… Что ж, это грабли Джерри, а не мои. Значит, ему нужно получить ими по лбу, чтобы что-то да и понять.
Из всех домов моих детей, дом Джерри выделяется неоспоримым величием: двухэтажный, белоснежный, с двумя рифлеными колоннами при входе, с мраморными клумбами у крыльца, за которыми раз в месяц ухаживает нанятый садовник, это дом с большими окнами, украшенными искусной ковкой. В маркетинге Джерри как будто разбогател, хотя это, конечно, является неправдой. Этот дом он купил в браке с Хильдой, которой после развода был вынужден выплатить стоимость её части квадратных метров, так что сейчас он живёт всего лишь на среднестатистическую зарплату маркетолога и мелкие подработки, о которых он предпочитает не распространяться, чтобы выглядеть в более выгодном свете перед своей молодой женой, зарабатывающей копейки с продажи разливных духов. После прихода Лукреции в этот дом, он весь как будто пропах её духами, правда, оценить это мне довелось лишь единожды – семь месяцев назад меня пригласили на праздничный ужин в честь рождения Лауры. С тех пор я здесь больше не бывала, потому что больше меня не звали, а я никогда и никому не навязывалась.
Лукреция, весьма учтиво придерживаясь моей скорости, ограниченной старостью, взошла со мной по высоким ступеням на крыльцо и открыла передо мной дверь дома моего сына, из которого сразу же пахнуло смесью разнообразных духов и голосов. Переживание нахлынуло на меня с новой силой и тщетно, что мысли об истинной натуре Лукреции до сих пор неплохо отвлекали меня. Со второго этажа по лестнице прямо нам навстречу спускались дети Закари – семнадцатилетняя Валери и пятнадцатилетний Бен.
– Бабушка, привет, – не дождавшись от меня первой приветствия, Валери навалилась на меня и с силой молодой девушки обняла.
Не выдержав боли в пострадавшей руке, которая оказалась зажатой между нами, я непроизвольно и предательски громко издала стон.
– Ой… – Валери сразу же отстранилась. – Извиняюсь.
– У бабушки рука обожжена, ну ты чего! – возмущённым и чрезмерно громким тоном воскликнул Бен, отчего его возглас услышали вошедшие в прихожую Джерри, Закари и Присцилла.
– Я же извинилась, чудик, – Валери с вызовом скрестила руки на груди. Экран телефона, который она не выпускала из своей правой руки, вдруг замигал. Ожог продолжил ныть пульсацией… Сильно же она придавила…
– Не называй брата чудиком, – одернула дочь Присцилла.
– Да что с вами такое? Я же не специально! – Валери, как присуще импульсивным подросткам, театрально закатила глаза и поспешила ретироваться из комнаты. Бен, забыв поприветствовать меня, поспешил вслед за сестрой:
– Ты слышала, что тебе сказали?! Переставай называть меня чудиком!
– Мама, ты как? – моей здоровой руки коснулся подошедший ко мне Джерри. Надо же, он как будто совсем не стареет. Загорелый, белозубый, светлоглазый, с едва уловимыми бицепсами и коротко подстриженный, чтобы скрывать свою первую седину. Неужели молодая жена и вправду способна омолодить сорокадевятилетнего мужчину? Даже если так, тогда на сколько и какова цена временной пилюли?
– Всё в порядке, дорогой, – я попыталась отозваться как можно более бодрым тоном.
– Тиффани уже приехала. Соскучилась? – Джерри широко заулыбался своей самой обворожительной улыбкой. Не выдержав, я заулыбалась в ответ:
– Конечно же я соскучилась по своей дочери… По всем вам.
Тиффани, как всегда, выглядела великолепно: волосы подкрашены в блонд, прическа на сей раз пикси – Тиффани перешла на короткие стрижки незадолго до тридцатилетия, – косметики на лице не так много, как у Лукреции, одета в строгий, но одновременно эффектный и источающий дороговизну юбочный костюм лососевого цвета, в ушах блестят аккуратные серьги из белого золота – все её украшения неизменно из белого золота. Однажды, много лет тому назад, когда Геральт ещё был жив и Шон тоже, она даже подарила мне брошь из этого металла, но у той уже после первой носки сломалось крепление, так что я её толком даже не поносила. Так и лежит эта брошь неношеной в моём сундучке воспоминаний, в котором я храню все свои немногочисленные и дорогие моему сердцу украшения: помолвочное и обручальное кольца – золотые, бусы из натуральных камней, купленные на Капри во время медового месяца, золотые серьги, которые Геральт подарил мне в честь рождения Шона, ещё одни золотые серьги от Шона, которые он купил мне со своей первой зарплаты, серебряный браслет, подаренный мне на восемнадцатилетие родителями, запонки, которые я подарила Геральту на его пятидесятилетие, и сломанная брошь из белого золота от Тиффани.
Тиффани была болтушкой в детстве, но чем старше она становилась, тем меньше слов она использовала, предпочитая ровно стоять со сложенными на груди руками и, со слегка отстраненным взглядом, слушать окружающих. Сегодня же она неожиданно разговорилась и даже улыбалась, но, что самое приятное, она уделяла мне такое внимание, какого я не получала от неё, наверное, со дня потери Геральта. Она рассказала мне о том, что её снова напечатали в журнале, и даже показала мне эту статью на своём телефоне, поделилась со мной своими планами съездить в конце лета на Бора-Бора, показала фотографии ремонта своей квартиры, который, оказывается, начался в феврале этого года и закончился только две недели назад. Я так многого о ней не знала – всего! – что мне вдруг стало печально. Почему мы не созваниваемся? Почему я не знаю, что теперь у неё розовые обои в гостиной? Почему не знаю, что её нового мужчину зовут Пол? Почему не знаю, что в середине весны она целых три дня провела в Париже? Почему она не знает, что я переживаю о Вольте? Что я скучаю по ней и по её братьям? Почему мы так далеки?
Взяв бокал с шампанским, от которого я отказалась, Тиффани отправилась из просторной и блестящей новизной кухни в гостиную вслед за Присциллой, которая хотела у неё “кое-что” спросить и, очевидно, задать свой вопрос не в моём присутствии. Ко мне подошла Шанталь – жена моего старшего внука Йена – и неожиданно протянула мне мою правнучку Фэй, даже не спросив меня о том, готова ли я принять её.
– Посмотри, Фэй, это твоя прабабушка, представляешь? – пышногрудая и пышноволосая шатенка, Шанталь была симпатичной молодой женщиной с рассеянным вниманием. – Не всем детям везёт увидеть даже своих бабушек, а у тебя целая прабабушка…
Мне стало нехорошо. Девочке в прошлом месяце исполнился год, она сильно подросла и потяжелела, удерживать же её одной рукой, стараясь не задеть обожженную, что в итоге не получилось, было проблематично, особенно с учётом того, как сильно малышка крутилась, пытаясь схватить меня за волосы… В руке снова запульсировало, дыхание начало прерываться. Нет, так нельзя, я могу её уронить…
– Шанталь, дорогая, забери её, пожалуйста, – я поморщилась. Шанталь перестала улыбаться, поджала губы и, наконец, забрала Фэй из моих рук. Попытавшись мне улыбнуться, она вышла из кухни вслед за Тиффани, сюсюкаясь с распчихавшимя младенцем. Неужели подумала, будто я открестилась от правнучки? Я дернула плечом, внезапно занывшим не меньше предплечья. Они ведь все знают, что у меня обожжена рука, так почему же они так… Невнимательны.
Так, нужно немедленно перестать жалеть себя и тем более перестать расстраиваться на пустом месте. Подумаешь, старуха не может не поморщиться из-за объятий с внучкой и не может подержать на руках правнучку. Зато я могу поддержать разговор и ещё лучше могу слушать. Нужно пойти в гостиную и принять участие в беседе: узнать, как дела в школе у Бена, куда планирует поступать Валери, когда уезжает Тиффани, как дела на работе у Закари, обновила ли Присцилла кухню, сколько раз в неделю Джерри ходит в тренажерный зал, сколько флаконов духов продала в этом месяце Лукреция, как Йен справляется с отцовством, в какой детский сад Керри планирует отдавать Дейзи? Всё обо всех узнать и рассказать всем что-нибудь о себе, если, конечно, у меня спросят обо мне…
Глава 6
Стоило мне только войти в гостиную, как всё внимание моей семьи сразу же сконцентрировалось на мне одной. Это стало для меня приятной неожиданностью. На моей скромной персоне, кажется, не сосредотачивались все и сразу со дня похорон Геральта. А здесь вдруг все мне улыбаются, Джерри даже приобнял и погладил по здоровому плечу, и препроводил к своему роскошному белоснежному дивану, и усадил не с краю, где я предпочла бы сесть, а в самом центре. В эти минуты мне было так приятно видеть всех своих детей, их жён и их детей улыбающимися, да ещё и улыбающимися мне лично, то есть глядя на меня, а не сквозь меня, что я не сразу заметила того, что что-то происходит… А когда заметила, сразу же поняла, что дети задумали что-то вроде сюрприза, потому что они перешептывались и толкали друг друга локтями прямо как в детстве, когда приносили мне торт в постель в день моего рождения. Вот только до дня моего рождения ещё далековато…
Не понимая, что именно происходит, я начала оглядывать стоящую передо мной толпу любимых людей и быстро вспоминать даты их рождений, боясь вдруг обнаружить, что забыла про кого-то из них, чего сделать попросту не могла. Да, всё верно, ближайший день рождения у Дейзи – через месяц ей исполнится три года, Керри подарит ей кукольный домик, который купила заранее. Выходит, дело не в чьем-то дне рождения…
Я начала оглядывать женскую часть компании, стараясь понять, не забеременел ли кто-то снова, но они все вдруг начали отводить свои взгляды, как будто беременны были все сразу – от Тиффани до Валери – хотя это, конечно, было не так. Заметив, как бегают их взгляды, как будто обтекая мою фигуру, я вдруг заметила и то, что их улыбки становятся всё более и более натянутыми, а их шепотки всё более приглушенными.
– Что происходит? – не выдержав, решила прямо спросить я, желая избавиться от нервного напряжения, чтобы продолжать радоваться их светлыми лицами и лучезарными глазами, пышущими здоровьем, присущим молодости.
– Ну ладно вам, это уже некрасиво… – вновь закатила глаза Валери. – Скажите ей кто-нибудь, имейте яйца.
Стоило моей внучке упомянуть про яйца, как вперед вышел её дядя Джерри, который в присутствии своей молодой жены явно не мог позволить себе не иметь яйца. Потупившееся выражение его лица вызвало у меня непроизвольную, добрую улыбку.
– Дорогая наша мама, – начал он и сразу же замолчал, посмотрев на меня исподлобья, как смотрел всякий раз, когда собирался напроказничать или хотел извиниться за уже совершенное проказничество. Ну что он натворил на сей раз? Разлил мои духи? Сломал скейтборд Шона? Подрался с соседскими мальчишками? Разлюбил новую жену? Хочет на пятом десятке жизни завести ещё одного ребёнка?
– Так, Джерри, говори… – улыбнулась я, распрямив складки своей юбки и сцепив пальцы обеих ладоней, собираясь выслушать своего уже взрослого, но всё ещё по-детски неугомонного мальчика.
– Ты что-нибудь слышала о “Доме Счастья”?
Моё дрогнувшее сердце громко стукнулось о старые рёбра и замерло. Конечно, я слышала о “Доме Счастья”. Пять лет назад в нём умерла одна из моих лучших подруг – как он мог забыть об этом? Нужно узнать, как…
– Пять лет назад в нём умерла моя подруга Бренда, разве ты забыл об этом? – в ответ на мой вопрос Джерри моментально растерялся. Его глаза забегали по моей блузке, затем соскользнули на диван, побегали по стене позади меня и, наконец, переметнулись на его младшего брата. Так я заметила айсберг, о который мне суждено было разбиться… – Что происходит? – повторила свой вопрос я.
Яиц у Джерри всё-таки не оказалось, поэтому вместо него решила произнести всё слух моя нетерпеливая внучка Валери:
– Да задолбали вы! – взмахнула рукой девочка. – Ба, на семейном совете было единогласно решено перевезти тебя жить в дом престарелых. Так будет лучше для тебя. – Она повернулась лицом к своим родителям. – Ну вот, сказала я, видите, не так уж и сложно, и не нужно никого мучить ожиданием.
Моё сердце перестало стучать… Зрачки глаз ощутимо расширились… Комната сжалась, выдавливая из моих слабых лёгких остатки вошедшего в них пять секунд назад воздуха… Голос вдруг сам собой заскрипел предательски старческим скрипом:
– Вы решили отдать меня в престарелый дом? – это был не мой голос и вообще как будто эти слова я не произнесла, а только услышала их произнесенными со стороны…
Единогласно.
Так сказала внучка…
Несовершеннолетние внуки тоже принимали участие в голосовании?.. Был семейный совет?.. Почему меня на него не позвали?.. Почему не поинтересовались моим мнением?.. Почему?..
Почему?..
Почему?..
…Мои глаза начали бегать по родным, уже совсем не улыбающимся лицам, желая выхватить на них хотя бы одну улыбку, хотя бы один намёк на дурную шутку, но это была дурная правда, я видела это в их отведенных в сторону глазах, слышала в их сжатых дыханиях, чувствовала в вибрации воздуха, застывшего между нами непроницаемым полотном, способным задушить если не нас всех, тогда определённо точно одну меня…
– Почему? – изо рта у меня вырвался не голос, а скрипучий шепот. Я не могла поверить в происходящее… Чтобы я скончалась в “Доме Счастья”, как скончалась в нём бездетная бедняжка Бренда?.. Не может такого быть!
Заговорил Закари, привычным, мягко-неуверенным, однако одновременно и настаивающим тоном:
– Мам, доктор, который работал с твоим ожогом, сказал, что тебе небезопасно жить одной…
– Небезопасно жить одной? Что это значит? – мой взгляд резко взметнулся и вцепился в лицо младшего сына, пальцы рассоединились и ладони сразу же непроизвольно сжались в кулаки.
– Мирабелла, дорогая, тебе в этом году будет уже восемьдесят один, – подбадривающе положив ладонь на плечо моего младшего сына, заговорила моя невестка Присцилла. – В таком возрасте людям бывает нужна помощь…
– Я способна жить одна, – мой голос зазвучал неожиданно твёрдо. – Я не нуждаюсь в обслуживании.
– Нет, одной опасно, ты уже обожглась, – вдруг отрицательно замотал головой Джерри.
– Все люди способны обжечься, не только старики, – во мне продолжал зарождаться взрыв.
– Мы за тебя переживаем, – снова приглушенный голос через зубы Закари.
– Но почему, почему ваше переживание вылилось в престарелый дом?! – взрыв произошел. Я вскочила на ноги с неожиданной скоростью молодой женщины, мои сжатые кулаки ударились о бёдра, мой голос уверенно протестовал. – Если вы так беспокоитесь обо мне, почему никто из вас не предложил мне свой собственный дом?!
– Сейчас не такие времена, какие были во времена бабушки Корнелии… – Джерри.
– Надо же, вы всё-таки помните, что ваша любимая бабушка жила с нами – мы с вашим отцом не отдали её в дом престарелых!
– У вас просто не было средств…
– Не поэтому, сынок! Не поэтому ваша бабушка была окружена нашей заботой! А потому что мы её любили!
– Мы тоже любим тебя, – Джерри поморщился, как будто я нанесла ему сердечную обиду.
– У тебя огромный дом с тремя пустующими спальнями, в доме Закари тоже есть свободная комната, Тиффани и вовсе сдает квартиру в Бостоне…
– Мама, ты не слушаешь, – внезапно подала голос моя единственная дочь, что сразу же резануло моё сердце. Её руки вновь были привычно скрещены на груди, от той улыбки, с которой она встретила меня полчаса назад, не осталось и следа, во взгляде опять читалось известное отстранение. – Отдельная квартира – не твой вариант. Мы все искренне переживаем о тебе и заботимся о твоём комфорте. Братья не могут взять тебя к себе, будь у каждого из них в распоряжении хоть по замку, ведь, в конце концов, они оба работают, как и твои невестки. Кто же при таком раскладе присмотрит за тобой днём?
Внутри меня рухнул целый мир – представьте, как планета Земля разлетается на метеоры-кусочки, а вы смотрите на это из глухой капсулы, парящей в темноте бесконечного космоса.
– Мне не нужен присмотр! Я здорова и не мочусь под себя, чтобы доживать остаток своей жизни под присмотром безразличных сиделок!
Я не осознавала, что впервые за последнее десятилетие – впервые со дня потери Геральта – кричу от отчаяния. Как и не осознавала того, что в следующую секунду резко развернулась и быстрым шагом направилась к выходу из этого дома. Никогда, ни от чего я не сбегала, а здесь вдруг развернулась и прочь-прочь-прочь…
– Не веди себя как ребёнок… – в спину мне долетело эхо. Я не обернулась и продолжила идти к выходу. Но… Кто это сказал?! Кто из них?! Голос был женским, но я его не узнала… Кто-то из них… Присцилла, Лукреция, Шанталь, может быть Валери, Тиффани – кто?! Кто сказал, что я ребёнок?! Кто посмел меня так унизить?! Они все! ОНИ ВСЕ!!! Единогласно! И никто не заступился! Никто не заступится! Геральт бы не позволил, он бы не позволил им так со мной…
Задыхаясь, я вырвалась из надушенного дешевыми духами и тяжелыми дыханиями людей дома на широкое крыльцо, схватилась за кованые перила, начала спускаться по ступеням вниз… До чего же они высокие! Главное – не споткнуться… Перелом для меня будет конечным итогом – меня запрут, чтобы потом зарыть и в конце концов забыть! И всё равно я спешила спускаться по этим крутым, остроугольным ступеням… Спешила, как будто меня могли догнать, чтобы надеть на меня смирительную рубашку и тогда уже отправить не в “Дом Счастья”, а в сумасшедший дом…
Я сказала им… Прокричала, что достаточно здорова, чтобы не доживать остаток своей жизни под присмотром безразличных сиделок… Но есть кое-что хуже смерти в окружении безразличных чужих людей – доживать свою жизнь под присмотром безразличных родных!
Я не заметила, как выбежала на тротуар… По тротуару шли люди: трое подростков, пожилой мужчина и пара с маленькой собачкой… Собачка. Дома ждёт Вольт – он ждёт меня! Его нужно покормить, ему нужны лекарства, ему нужна я! Срочно домой!
Я не сознавала, что своим бегом, больше походящим на тяжело покачивающийся шаг, привлекаю к себе внимание прохожих… Я зашла под козырек автобусной остановки, желая укрыться под ним от всего мира или хотя бы от оставшегося позади, но всё ещё пугающе близкого, белоснежного дома сына, в котором моя семья смело сообщила мне о том, что хочет “перевезти” меня… Где-то далеко прогремел небесный гром, а мне показалось, будто это моё сердце гремит и в ушах разливается звон, и небо фиолетовое не потому, что собирается дождь, а потому, что приближается мой конец…
Меня хотят утилизировать… Вырвать меня из моей уютной квартирки, чтобы переместить в палату, как цветок из дикой природы в клумбу, чтобы затем в горшок, в котором он не приживется, завянет, рассыплется в прах… У меня нет денег. Я не знаю, на каком автобусе отсюда можно доехать до моего дома. Дом Джерри, в котором меня поджидает стая решивших всё за меня родных, совсем рядом – в любой момент из него могут выбежать обладатели крепких молодых рук, схватить меня, во всеуслышание объявить немощной, доказать мою немощность всему миру, чтобы почти с чистой совестью спрятать меня от этого самого мира, чтобы позабыть меня получше, навсегда…
Я так растерянно осматривалась по сторонам, что не заметила, как прямо передо мной остановился синий автомобиль с открытым пассажирским окном…
– Бабушка.
Я вздрогнула от неожиданности и резко посмотрела внутрь автомобиля. За рулём сидел Йен.
– Я хочу домой… – мои кулаки вновь сжались, но губы продолжали предательски трястись. – Отвези меня домой…
Внук одарил меня сочувствующим взглядом. Жалость к старику – худший вариант после безразличия. По крайней мере, так ощущается мной… Я не хотела быть пустым местом, но и не хотела вызывать жалость. За что они так со мной?..
Внук красноречиво вздохнул:
– Садись в машину. Я отвезу тебя домой.
Я немного помешкала. Йен был неплохим мальчиком. Особенно когда был ребёнком. Он ведь не отвезёт меня сейчас туда, куда его отец намеревается засунуть меня?
– Ну же… – он оттолкнул пассажирскую дверцу изнутри.
– Если ты повезешь меня в дом престарелых – я отрекусь от тебя, – мой голос был не моим, он как будто принадлежал какой-то уже наполовину мёртвой старушке, которой давно перевалило за сотню лет. Где же, где затерялся голос прекрасной Мирабеллы, где затерялись её красота и грация, все её миловидные улыбки?
– Худшее, что со мной могло бы произойти – это отречение от меня моей родной бабушки, у которой я ребёнком украл слишком много печений, – отозвался потомок рода Лерой-Армитидж.
Мои губы вновь задрожали. Он действительно отвезёт меня домой. Из которого я больше ни за что не выйду на улицу, чтобы меня не схватили и не замуровали – уж лучше я сама себя замурую!..
Я с трудом опустилась в автомобильное кресло, перед этим аккуратно переступив чрезмерно высокий бордюр тротуара. Захлопнуть дверь у меня не получилось – не хватило сил, – поэтому её за меня захлопнул протянувшийся через меня Йен. Я отвела взгляд в сторону, чтобы внук не увидел застывших в моих глазах слёз.
…Мы поехали.
Ещё совсем недавно у меня была замечательная собственная машина, но пять лет назад дети запретили мне водить, потому что я врезалась в пожарный гидрант, чтобы не сбить выскочившую под колёса кошку. Кошка и я остались целы и невредимы, а вот бампер с машины слетел. Там починить-то было всего ничего, но Джерри, Закари и Присцилла предпочли продать мой автомобиль и на вырученные деньги обустроить два бассейна – каждому на задний двор.
– Прости, – вдруг подал голос Йен. – Очень не по себе от всего этого… – Что ему ответить на это? “Да уж”? – Я бы забрал тебя к себе, честно, но у меня с Шанталь всего лишь две спальни и гостиная: семьдесят квадратов, которые мы едва делим с годовалым ребенком.
– У твоего отца большой дом… – мой голос обесцветился, тон стал каким-то прибитым.
– Разве ты ужилась бы с Лукрецией?
– Нет, – мой ответ едва прозвучал, а может и не прозвучал вовсе.
Правда заключается в том, что мне даже не предложили попробовать ужиться хоть с кем-то. Не предложили… Потому что никто не хочет… Никто не хочет со мной… Никто не хочет меня…
Обожженная рука заживет, а обожженная душа – нет. Это принятие факта, а вовсе не обида. Мне не на кого обижаться. Они не виноваты в том, что я им не нужна. Моя ненужность заключается только во мне самой. В них заключается всего лишь обыкновенное безразличие. Что хуже: первое или второе? Думаю, второе. Никто из них никогда не был для меня безразличен. Хотя мог бы быть. Но моё небезразличие – такой же мой выбор, как их выбор – их безразличие. С этим нам всем жить и с этим умирать.
Надеюсь, никому из них не придется переживать то, что сейчас переживаю я. Я бы не хотела ни для кого из них ничего подобного. Как и они, наверняка, тоже не хотели подобного для меня. И всё же это случилось – стоило мне перестать быть полезной и незаметной, как от меня отказались. И за меня действительно никто не заступится – на моей стороне осталась только я одна. Надо же, какиеинтересные открытия приносит человеку старость. Я давно уже одна, но лишь с этого момента по-настоящему одинешенька. Повезло Геральту уйти первым. Кто бы мог подумать, что уходить последней будет настолько сложно.
Глава 7
“Ба, на семейном совете было единогласно решено перевезти тебя жить в дом престарелых. Так будет лучше для тебя”. Для меня? Нет. Для них.
Я запаслась продуктами: с утра пораньше пять раз сходила в магазин через дорогу, купила себе вдоволь воды и круп, туалетной бумаги, спичек, собачьего корма. По причине старческой немощности не могла себе позволить носить большие веса, поэтому пришлось ходить пять раз. К полудню я полностью забаррикадировалась: закрыла дверь не только на нижний замок, но и на верхний, и не вытащила из верхнего замка ребром поставленный ключ, не забыла защелкнуть дверную цепочку и, на всякий случай, придвинула к двери стул, и заблокировала им дверную ручку. Жаль, что я живу на первом этаже – ища для себя квартиру, мы с Геральтом решили максимально сэкономить, чтобы детям досталось побольше средств с продажи нашего дома, поэтому и купили квартиру на первом этаже. Как обезопасить окна? Пожалуй, только проверкой их запертости, а больше и никак…
Я начала бегать по квартире и дёргать все оконные ручки – всё крепко-накрепко заперто, всё проконтролировано, меня не вырвут из моей квартиры… Мои собственные дети… Нет, я им не позволю. Испущу последний вздох на пути в дом престарелых, но его порога не переступлю! Скольких друзей я потеряла в том месте, сколько слёз пролила из-за того, что моим друзьям довелось умирать в одиночестве при наличии здоровых семей и друзей – кому, как не моим детям, об этом знать?!
Позади меня раздался жалобный стон. Вздрогнув, я отстранилась от дверной ручки гостиного окна и посмотрела в сторону дивана, с которого, со вчерашнего вечера, не поднимался Вольт. Вчера мне пришлось поить его из рук, и он не плакал, только тяжело дышал, и вдруг слезливое скуление… Повернувшись, я увидела своего друга зарывшимся мордашкой под диванную подушку. Испуг был таким же мгновенным, как тот, который я испытала, осознав, что именно мои дети хотят сделать со мной… Я бросилась к своему лучшему другу, но он не шелохнулся, опустилась перед диваном на колени и сбросила с него подушку, но и это не расшевелило его…
– Вольтик! Вольтик, нет… Нет-нет-нет… – снова шепот незнакомой мне старухи вырвался из моего судорожно сжимающегося горла… Я взяла Вольтика за лапу, но он не ответил мне. Я попыталась растереть… Я уткнулась носом в его бок и разревелась, и продолжила тереть все его лапы, но он не реагировал на моё моление… На мою одну-единственную молитву – не оставлять меня… Не сейчас, не забаррикадированной… Не такой одинокой… Вчера я думала, что меня бросили уж все, но сегодня… Нет, он не может быть мёртв! Это просто приступ! Нужно срочно отвезти его к ветеринару! Одноклассник Джерри – лучший ветеринар во всём городе! Сейчас… Сейчас я позвоню Джерри! Пусть он отвезёт меня после ветеринара прямиком в дом престарелых, но только пусть Вольтик оживёт! Пусть я не поеду в дом престарелых без дружеской поддержки! Пусть Вольтик не оставит меня один на один с моей семьёй…
– Мам, не плачь, пожалуйста… – Джерри протягивает мне одноразовую салфетку. Мы сидим в его автомобиле на парковке напротив ветеринарной клиники, в которой остался Вольт. Джерри пообещал похоронить моего лучшего друга на кладбище домашних животных и полностью оплатить расходы. – Это просто собака, мам. К тому же, он прожил долго, по собачьим меркам ему было даже больше, чем тебе.
Вольту было даже больше, чем мне. Всё равно как: даже больше, чем динозаврам. То есть больше чем тем, кому уже можно и умереть.
– Прости, что в прошлый раз не смог сбежать с собрания, чтобы свозить тебя в больницу. Ты ведь знаешь, какой Леонард настойчивый, – я не знаю, кто такой Леонард, и молча утираю уже почти остановившиеся слёзы, мы продолжаем ехать… – Пришлось напрягать Закари.
– Ты уже извинился перед братом? За то, что напряг его поездкой со мной в больницу?
– Да, конечно, мы с братом дружны, вы ведь с отцом нас этому учили.
Он даже не понял, что именно я имела в виду, что мой вопрос был неискренним, а ведь это с моей стороны была даже не ирония, а вполне неприкрытый сарказм. Чему же мы с Геральтом научили своих детей, раз они даже не способны различать сарказм? Может, чему-то толковому и научили, но основное явно упустили – но как? Как?! Я думала, что мы были хорошими родителями, а оказалось… Да нет, это не наша с Геральтом вина, хватит уже винить себя во всех смертных грехах, идеализируя тех, кого мы приручили. Ведь мы с Геральтом – не всё, что было и что есть у этих людей, наших детей. У них есть ещё целая жизнь, которая лепит из них личностей, и вот… Вот что слепилось. Безразличная любовь. Разве бывает такая? Оказывается, бывает. Оказывается, я сама же и позволила ей слепиться, разрешив детям не беспокоиться обо мне, разрешив им задвинуть меня даже не на второе место, а совсем уж на запылившуюся антресоль… Сегодня умер мой самый верный друг, а для моего старшего ребёнка это “просто собака”, о которой я не должна плакать всего лишь потому, что она была старой, а значит, пригодной для смерти, в то время как остальным моим детям… Вообще плевать.
Мы припарковались у моего дома. Я сжала промокшую насквозь салфетку в своих сухих руках, но и слёзы не оживили мою иссушенную, старческую кожу, лишенную той красоты, которая мне всё ещё помнилась. Когда-то у меня были очень нежные руки. Геральт любил сжимать мои хрупкие ладони в своих больших и переплетать свои сильные пальцы с моими тонкими, особенно когда мы танцевали под чарующий звук грампластинок. Он любил гладить своим большим пальцем тыльную часть моей ладони, приглашая меня на танец, он целовал мою смело протянутую вперёд руку…
– У Закари и Присциллы кредит на образование детей, – решил начать издалека Джерри, – у Тиффани работа двадцать часов в сутки, у меня, сама знаешь… Мы беспокоимся. Ты обожглась. А если снова произойдёт нечто подобное? Если ты обожжешься еще сильнее или упадешь, и тебя некому будет поднять? Или еще чего хуже? – он пытался поймать мой взгляд, но я продолжала смотреть на зажатую в руках, пропитанную моими слезами салфетку. У-меня-умер-лучший-друг. А он про то, что пора уходить на покой и мне… Ну как так? Ну как же так?.. – Если ты будешь сопротивляться, всем нам будет только тяжелее, ты ведь это понимаешь, правда? – его сильная рука легла на моё предплечье и слегка, будто по-дружески, пожала его. Я по-детски непроизвольно хлюпнула носом. – Мы тебя так любим… Ты ведь знаешь. Мы всего лишь хотим, чтобы у тебя был достойный присмотр, – с этими словами он вдруг протянул мне голубую брошюру, которую я сразу же узнала. Интересно, где именно он её взял? Они бесплатно распространяются у касс супермаркетов. Так они придумали меня сплавить? Стоя у кассы с молоком и печеньем? Увидели брошюру престарелого дома “Дом Счастья” и подумали обо мне? Кто из них всех? Джерри, Закари, Тиффани? Кто-то из невесток или внуков? А ведь “Дом Счастья” даже не лучший из двух имеющихся в нашем городе домов престарелых. Но они хотят отдать – отдать, как устаревшую игрушку! – меня именно туда. Притом что все они хотя и не особенно богаты, но всё же могли бы позаботиться о лучшем из двух самых очевидных вариантов, в котором для меня, помимо палаты и заднего двора, был бы доступен ещё хотя бы бассейн…
Я не собиралась принимать эту брошюру и не собиралась отвечать. Что сказать сыну, который уже всё решил? “Поздравляю, ты сделал неправильный выбор”?
– Мамуль, так надо, понимаешь? Мы будем тебя навещать…
– Чаще, чем сейчас?
– Что?
– Будете навещать меня чаще, чем сейчас? – я с вызовом посмотрела прямо в глаза сына. – Ведь сейчас вы меня совсем не навещаете. Когда ты в последний раз переступал порог моей квартиры? На похоронах отца?
– Не будь такой жестокой, ты ведь не такая…
– Нет, я не такая. Ты такой. Вы все такие.
– Мама, не усложняй, нам и так психологически очень сильно тяжело.
Вот оно: я одна должн позаботиться о том, чтобы им всем не было тяжело, чтобы они все не испытывали дискомфорт. То, что испытываю я, снова неважно… Почему?