Ловец мелкого жемчуга Берсенева Анна
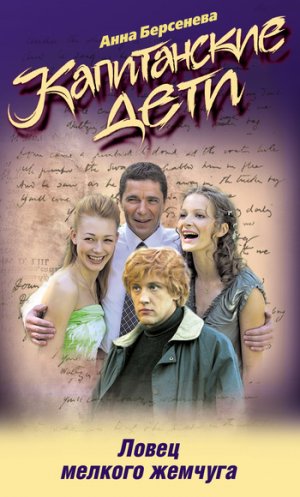
Он действительно не понимал, почему ищет общения с Марфой, почему терпит ее насмешки и снисходительный тон. И всю дорогу до общежития – пешком, в метро, на трамвае – вспоминал, как в первую неделю учебы познакомился с этой непонятной девушкой.
– Все говорят «проездной», ты показывай! – услышал Георгий и встрепенулся, открыл глаза.
Один коренастый коротышка-контролер стоял неподалеку от него, а второй ужом протискивался сквозь толпу пассажиров на помощь первому, держа в руке, как знамя, зашмыганное красное удостоверение. Непонятно только было, какая требовалась помощь: первый контролер обращался к невысокой девушке, которая нисколько ему не сопротивлялась, а старательно перетряхивала большую коричневую сумку, висящую у нее на плече. Лицо у девушки было чуть-чуть смущенное. Но вот именно чуть-чуть – заметно было, что вообще-то она не привыкла смущаться.
Второй контролер наконец протиснулся к коллеге, и тут Георгий заметил, что контролеры – близнецы. Он никогда не видел взрослых близнецов, и ему стало интересно рассмотреть их повнимательнее.
Но тут близнец номер два присоединился к брату.
– Быстро давай ищи! – заорал он прокуренным басом, неожиданным при его маленьком росточке. – Ишь, шалавы, повадились без билетов кататься!
– Что вы себе позволяете? – возмутилась девушка и сразу перестала копаться в сумке. – Если даже я забыла проездной, то вы должны взять штраф, а не…
– Наебать хочешь?! – Близнец орал так упоенно, как будто девушка была первая безбилетница, которую он встретил в жизни, и поэтому она вызвала у него какое-то особенное возмущение. – Забыла она! Корчат из себя интеллигентных, а сами так и норовят на чужом горбу проехаться!
А вот это было уже не так интересно. Может, Георгий и не обратил бы внимания на обычное троллейбусное хамство, но ему почему-то не понравилось, что оно обращено на эту девушку. Сразу было видно, что к хамству она не привыкла, но вместе с тем не знает, как ему противостоять.
Протиснувшись между пассажирами, он подошел к девушке, на ходу соображая, что лучше: сразу дать по морде каждому близнецу поочередно или сначала попытаться поговорить с обоими вместе. Но тут же понял, что можно поступить гораздо проще.
– Чего орешь? – сказал Георгий, глядя на коротышку не просто сверху вниз, а так, как смотрят на насекомых. – А ну отстань от девушки, пока в ухо не получил.
Может, если бы он был чуть пониже ростом, близнец и на него набросился бы с руганью. Но, во-первых, он оторопел, увидев перед собою такой шкаф в черной «косухе» – черт его знает, еще и правда двинет! – а во-вторых, дурак бы не понял, что этого парня не смутишь хамством.
Впрочем, Георгий не стал дожидаться реакции.
– Вот ее проездной, у меня, – сказал он. – Это моя девушка.
Девушка наверняка была студенткой, поэтому он не слишком рисковал, показывая свой студенческий проездной. Георгий был почти уверен, что контролер не станет вглядываться в фотографию, которую он прикрыл пальцем. А станет – ну, тогда видно будет.
– А… – начал более нервный близнец.
Наверное, он собирался потребовать, чтобы заступник предъявил собственный билет. Но брат, видно, был поопытнее его и предпочел не связываться.
– Ну, так бы сразу и сказал, – заметил он примирительно. – На лбу же у ней не написано, что она твоя. Проездные документы готовим для проверки! – заголосил он, отворачиваясь.
Георгий вышел из троллейбуса вслед за девушкой. Она шла по улице быстрой, легкой походкой, но, заметив, что спаситель идет за ней, резко обернулась.
– В чем дело? – спросила девушка.
Щеки у нее раскраснелись то ли от возмущения недавним инцидентом, то ли от быстрой ходьбы, коса слегка растрепалась, черные глаза сердито блестели.
– Ни в чем, – пожал плечами Георгий. – Просто была моя остановка, я и вышел. А как вас зовут?
– Я на улице не знакомлюсь, – смерив его презрительным взглядом, сказала девушка. – И в общественном транспорте тоже.
– А где вы знакомитесь? – не отставал Георгий. – Давайте пойдем туда и познакомимся!
– Да-а?.. – протянула девушка. – Что ж, я знакомлюсь, например, в ресторане «Националь». Или в «Метрополе», тоже вариант. Вы готовы пригласить меня туда?
– Готов, – кивнул Георгий. – Сейчас?
– Сомневаюсь, что сейчас у вас есть деньги хотя бы на чашку кофе в «Метрополе», – тем же презрительным тоном заметила она. – И не сейчас тоже. Извините, я опаздываю.
Она резко развернулась и все так же стремительно пошла вперед. Георгий постоял немного на месте – не идти же за ней шаг в шаг – и тоже двинулся по улице к зданию института, которое виднелось впереди, в тени старых деревьев.
Что девушка вгиковская, он понял сразу, как только рассмотрел ее получше. Он еще не мог назвать словами то общее, что было во всех студентах-киношниках, но чувствовал это общее безошибочно. Да и лицо ее показалось знакомым.
Девушка потянула на себя массивную входную дверь и скрылась в здании ВГИКа.
Конечно, Георгий увидел ее в тот же день – он теперь специально присматривался. И подошел к ней, когда она курила, вместе с другими студентами сидя на деревянной скамейке под зеркалом.
– А я уже знаю, тебя зовут Марфа Ряднова, – сказал он, присаживаясь на корточки рядом со скамейкой. – Ты на киноведческом учишься.
– А я вот не знаю, как тебя зовут, и знать не хочу, – ответила Марфа.
– Георгий Турчин, – представился он. – С операторского. Да ты не думай, я ведь просто так сказал, что ты моя девушка. Ну, чтоб контролер отвязался.
И тут Марфа расхохоталась.
– А я, между прочим, и не думаю, что ты сказал это по какой-то другой причине, – сказала она, отсмеявшись. – Очаровательная непосредственность! Ладно, придется уж с тобой познакомиться, защитничек. Только что из глубинки?
– А что, так заметно?
– Да уж, не бином Ньютона, – усмехнулась она.
И тут Георгий понял, почему Марфино лицо показалось ему знакомым! Даже не черты лица, а его выражение… Чтобы проверить свою догадку, он спросил:
– Это твоя мама в приемной комиссии работает?
– Моя, моя, – кивнула Марфа. – Она председатель приемной комиссии и еще историю зарубежного кино читает. Так что можешь считать, что я поступила сюда по блату.
– Мое-то какое дело? – пожал плечами Георгий. – Смотри, сейчас юбку прожжешь!
Пока Марфа беседовала с ним, длинный, с искрой, столбик пепла упал с ее сигареты прямо на узорчатый рисунок на темно-бордовой юбке. Она ахнула, захлопала ладонью по грубой холщовой ткани и расстроенно сказала:
– Ну вот, все из-за тебя!
Это прозвучало уже не презрительно и не сердито, а совсем по-девичьи, даже по-детски. Георгий улыбнулся. Заметив это, Марфа неожиданно улыбнулась в ответ и сказала:
– Наше знакомство начинается с неприятностей.
– Ничего, – ответил он, – я постараюсь больше тебе их не причинять.
– Посмотрим! – хмыкнула Марфа.
Глава 5
К зимней сессии Георгий окончательно убедился в том, что учиться во ВГИКе в общем-то нетрудно. Надо было, правда, исправно посещать все лекции и семинары, за этим деканат следил с необычной для творческого вуза строгостью. Но это Георгия как раз не угнетало. Ему некуда было особенно ходить, кроме института, он не привык спать до полудня, как большинство его однокурсников, да и лекции были интересные.
Его угнетало другое, и чем дальше, тем все больше… Георгий видел, что тому, для чего он сюда пришел – операторскому делу, – его никто учить не собирается. Муштаков осенил группу своим присутствием всего дважды, в сентябре. Да и то, если на первом занятии он выглядел оживленным и говорил какие-то интересные вещи – например, о праве оператора на субъективность, – то на втором уже смотрел на своих студентов пустыми, равнодушными глазами, с неохотой слушал то, что они пытались ему рассказывать, и, судя по всему, мечтал только об одном: поскорее отделаться от этих назойливых людей, которые неизвестно чего от него хотят.
Во вгиковской мастерской Муштакова было десять студентов, среди которых Георгий смотрелся просто мальчишкой. Их возраст подходил к тридцати, почти все они поступили с третьего, а то и с четвертого раза, успели поработать на телевидении, что-то поснимать и с небрежной уверенностью рассуждали о такой неведомой вещи, как компьютерный видеоарт.
Георгий не то что о видеоарте, но даже о компьютере имел самое приблизительное представление. В Таганроге он никогда его не видел и считал гибридом печатной машинки с калькулятором. Он слышал, что в Москве компьютеры уже появились, хотя и стоят дико дорого – чуть ли не так же, как квартира. Ну и что, что слышал? Все равно, попав в Москву, он не представлял, где на этих компьютерах работают и как.
Ему становилось все яснее, что он поступил на операторский случайно, что выглядит во всех отношениях белой вороной и не обладает ни одним из тех качеств, которые помогли бы ему утвердиться в этом странном творческом мире. Этот мир не удивить было ни молодым запалом, ни страстным желанием работать. А главное, он совершенно не нуждался в новичках, потому что и так был под завязку заполнен незаурядными, уже состоявшимися людьми…
От всего этого брала тоска. Вот Федька Казенав – тот не унывал никогда.
– Ты, Жорик, зря депрессуху на себя нагоняешь, – говорил он. – Уныние – смертный грех, слыхал? И вообще, сейчас, может, время разбрасывать камни, а урожай потом снимем.
– Какой же урожай от камней? – невесело усмехался Георгий.
Федьке все-таки было проще: сценарные идеи вертелись у него в голове в неимоверном количестве, и для того, чтобы их воплотить, требовался только лист бумаги. Да пронырливость, которой Федьке было не занимать. Он уже знал каких-то людей на «Мосфильме», раздал десяток своих сценарных заявок каким-то продюсерам, был своим человеком в буфете Дома кино и даже попал однажды в вытрезвитель вместе с одним молодым и перспективным телеведущим.
А что мог сделать Георгий, если за полгода он даже камеру ни разу в руках не подержал?
А поснимать камерой ему хотелось так, что просто скулы сводило! Даже примитивную армейскую «Супер-8» он вспоминал теперь с тоской. Фотографии надоели, ему не хватало в кадре движения, не хватало жизни…
«А потом что? – невесело размышлял он, возвращаясь в общагу после занятий. – Допустим, дадут когда-нибудь и камеру. Ну, будут же практические занятия, хотя бы на старших курсах. Дадут, поснимаю, сдам экзамен – и что?»
Наверное, о чем-то подобном задумывались все студенты операторских мастерских ВГИКа. Да и не только операторских… Но что ему было до каких-то «всех»! Ему недавно минуло двадцать лет, силы кипели в нем, он видел тайную жизнь внешнего мира, чувствовал, что может остановить ее своей рукой, сделать зримой для всех, – и его с ума сводила мысль о том, что все это происходит в его душе впустую.
Георгий не находил большого удовольствия в выпивке, но уже через пару московских месяцев с удивлением понял, что только водка выводит его из состояния растерянности и унылой подавленности. Впрочем, удивление было не очень-то сильным. В институте не было, кажется, ни одного студента, который не пил бы или не курил травку. Это была традиция, и ее как-то даже неприлично было нарушать. В конце концов, и Шукшин пил. А Высоцкий не только пил, но и сидел на игле, хотя в советские времена наркотики еще не были так доступны. И любой кинофестиваль, это все знают, представляет собой одну сплошную пьянку, в которой активно участвуют даже самые яркие звезды. А Депардье, например, и вовсе запойный алкоголик, и даже не скрывает этого.
Что бы Георгий ни пил, голова у него на следующий день никогда не болела, он даже не понимал, что это такое, похмелье. Да и пил он довольно спокойно. По крайней мере, не грозился всех поубивать и не выбрасывал из общаговских окон кастрюли с супом, как это любили делать многие вгиковские студенты.
И о чем, в таком случае, было переживать? Ему ведь просто становилось веселее от спиртного, и будущее не казалось таким уж безнадежным, и верилось, что силы его не уйдут в песок…
– Ты п-понимаешь… В общем, у меня просто руки чешутся…
Они сидели в неуютном, как рабочая столовая, прокуренном буфете на втором этаже Союза кинематографистов, пили коньяк, и Георгий уже полчаса объяснял Марфе, почему разочарован институтом, Муштаковым, его мастерской, Москвой… Встретились они случайно. Георгия затащил сюда Федька, потом он куда-то умчался, и тут появилась Марфа – наверное, приходила зачем-то в Союз.
Сразу после лекций Георгий выпил с Федькой бутылку водки прямо в зеркальном предбаннике вгиковского буфета, поэтому коньяк ложился теперь на прежний хмель. К тому же он ничего не ел целый день, без размышлений сделав финансовый выбор между едой и выпивкой.
Марфа на его рассказ никак не реагировала. Она прихлебывала коньяк, разглядывая, как он искрится и переливается в свете неярких ламп. Наверное, размышляла, как будет описывать эту золотую игру света, если увидит ее на экране.
– А Гондурас не беспокоит? – поинтересовалась она наконец.
– Какой Гондурас? – опешил Георгий.
– Анекдот такой есть, – спокойно объяснила Марфа. – Да ему сто лет, неужели не знаешь? Как Петька говорит: «Что-то меня, Василий Иванович, Гондурас беспокоит», – а тот ему отвечает: «А ты его, Петька, не чеши».
– Я не чешу, – криво усмехнулся Георгий. – Само чешется. С тобой, наверно, такого не бывает. Ты чего захочешь – все получишь. А я…
– А ты бедный-несчастный деревенский мальчик, никто тебя не ценит, в объятиях не душит, светлого будущего не обещает, – словно гвозди вбивая, произнесла Марфа. – Ах-ах, как тебя жалко! Помнится, один твой земляк тоже вот так вот явился в Москву, уверенный в собственной исключительности. Пьеску свою самой Ермоловой принес, ни более ни менее как для бенефиса. А сам небось говорить не умел по-человечески – гыкал, наверное, вроде тебя. И вместо «скрипеть» писал «рипеть». Но зато правильно к себе отнесся, и это впоследствии дало результат.
– Какой мой земляк? – не понял Георгий.
Хмельная заторможенность мешала ему, и он безуспешно пытался с ней справиться.
– А что, у тебя так много знаменитых земляков? – поинтересовалась Марфа. – По-моему, кроме Чехова, никого.
– А-а!.. – хмыкнул Георгий. – Нет, еще Модест Чайковский был.
И тут же удивился, даже сквозь тупой хмель. Конечно, он слышал о Чехове постоянно, как слышал о нем любой житель Таганрога и уж тем более ученик школы его имени. В старой части города было множество домов, на которых висели мемориальные доски: «Здесь жил прототип Ионыча… Беликова…» И все-таки Чехов был для Георгия почти абстракцией. Ну, жил такой умный человек сто лет назад, писал хорошие рассказы. Он-то здесь при чем?
А Марфа говорила о Чехове так, как будто он был по меньшей мере знакомым ее родителей! И откуда она знает про эти «скрипеть-рипеть» и про таганрогский выговор?
– Тебе бы учительницей быть, – поморщился Георгий.
– С тобой пообщаешься – можно даже воспитательницей в детском саду, – не осталась в долгу Марфа. – Руки у него чешутся! Читал бы лучше побольше, а то сидит тут, слезы льет в стакан. Ты перестаешь быть мне интересен, – отчеканила она, глядя Георгию прямо в глаза. – А вести с тобой душеспасительные беседы – поищи дурочку.
Она залпом допила коньяк и встала. Глаза ее сердито блестели, выбившаяся прядь совсем закрыла порозовевшую щеку.
– Ну, погоди… – пробормотал Георгий. – П-погоди, я тебя провожу…
– Если ты собираешься ныть всю дорогу, то не надо, – фыркнула Марфа. – Да и вообще не надо. Я сама дойду.
Она взяла с соседнего стула свою шубку и не оглядываясь пошла к лестнице. Георгий все-таки вышел вслед за ней из буфета, на ходу натягивая куртку.
Марфу он догнал уже на улице, на углу Дома кино. Она шла быстро, а Георгий – медленно. Но при этом они шли рядом, потому что ему хватало одного шага, чтобы пройти расстояние, для которого ей требовалось три. Он только покачивался слегка и старался, чтобы Марфа этого не заметила. Впрочем, было скользко, поэтому его нетвердая походка не очень бросалась в глаза.
Было не только скользко, но и холодно. После долгой теплой осени декабрь казался просто лютым. Васильевская улица выглядела очарованным лесом – деревья были покрыты колким инеем, а проезжая часть напоминала санный путь. Георгию вдруг показалось, что он идет по Москве каких-то давних времен. В вечернем морозном тумане сглаживались современные очертания домов, блестели и переливались окна, и мир вокруг выглядел рождественским, счастливым, бодрым…
Если бы не два года на Дальнем Востоке, для него совсем невыносимы были бы московские холода. А так – он все-таки привык. Но голова у него мгновенно замерзла, по ушам и щекам побежали морозные мурашки. Он посмотрел на Марфу. Она надела капюшон, глаза ее сбоку не были видны, но ему почему-то показалось, что ее гнев немного поостыл на морозе.
Сразу же выяснилось, что показалось напрасно.
– Ну, чего ты так пыхнула? – примирительно произнес Георгий. – Мне же просто некому про все это рассказать…
– А почему ты вообще решил, что об этом надо кому-то рассказывать? – тут же откликнулась она. – Твои сомнительные страдания неизвестно о чем – это твое личное дело. Лучше бы ты поучился не выглядеть идиотом.
– Как? – Георгий даже приостановился от удивления. – П-почему я… идиотом?..
– Да уж это тебе лучше знать, почему, – пожала плечами Марфа. – Вот объясни мне, пожалуйста, почему в пятнадцатиградусный мороз ты напялил эту дурацкую куртку, которую и в дождь-то можно надевать только с закрытыми глазами?
Георгий почувствовал, что сейчас покраснеет, несмотря на то, что, вообще-то, не имел такой привычки. Марфа и на этот раз попала в больное место.
Кожаную «косуху» он носил зимой потому, что стеснялся надевать теплый кожух. Георгий быстро понял, что и «косуха» – не самая элегантная одежда. Но она хоть не так бросалась в глаза и ее можно было считать эпатажем, на который так падки были студенты-киношники. А грязно-желто-белый кожух хоть и был теплым, но выглядел так, словно Георгий собирался запрягать коня или торговать пирожками у вокзала.
Однажды он заглянул на вещевой рынок в Тушино, приценился к дубленкам и понял, что даже если купит самую дешевую, то на это уйдут все деньги, отложенные за год фотографирования таганрогских свадеб, и жить в Москве будет уже не на что. Да еще этот рост его… Попробуй найди на такой дешевую одежду!
– Слушай, ну это совсем уже! – Георгий остановился посреди улицы, и Марфа невольно тоже остановилась, повернулась к нему. – Ты хоть что-нибудь когда-нибудь стыдишься говорить? Или ты думаешь, у всех есть деньги на такие шубки?
Короткая Марфина шубка была такая же, как вся ее одежда – неброская, изящная и, сразу понятно, очень дорогая. Светло-кофейный, даже на вид мягкий мех почему-то находился внутри, а наружная поверхность была матовая, нежная. Когда Георгий впервые увидел эту шубку, то вспомнил Марфину косыночку с едва заметным автографом на уголке.
– Думаю, деньги есть не у всех, – спокойно отчеканила Марфа. – У тебя, например, нет и не скоро будут. Но ведь нормальный человек не должен этого стесняться, как же ты не понимаешь! Какой-то полушубок я на тебе видела. Вот и носи его, а не зарабатывай бронхит ради дешевого понта! Тебе, Герочка, – добавила она уже спокойнее, – еще так многому надо научиться, что съемки на камеру – не дело первой необходимости. Все, дальше не провожай, – сказала она. – Я уже пришла. Мне надо с одним человеком встретиться.
Они незаметно дошли до угла Васильевской и Тверской.
– Может, я подожду? – совсем уж глупо спросил Георгий.
– Нет, – покачала головой Марфа. – Ему надо со мной поговорить, это надолго.
– Ему? – Георгий сам не понимал, что и зачем плетет его пьяный язык. – А тебе?
– И мне тоже, – кивнула она. – Мне даже больше, чем ему. Но это тебя не касается.
Что можно было после этого сказать? Георгий повернулся и, скользя и спотыкаясь, пошел по Тверской к метро.
Глава 6
На следующее утро у него впервые болела голова. Вставать было неохота, на лекции идти – тем более. И вообще было тошно – то ли из-за похмелья, то ли из-за вчерашнего разговора с Марфой.
«Хватит! – решил Георгий, стоя под ледяным душем и морщась от острых струй, хлещущих по больной голове. – Чего я должен все это слушать? Воспитательница в детском саду! Чехов у нее, видите ли, правильно к себе отнесся… Много она понимает в Чехове! Да и вообще… в талантах».
Он вспомнил, что сегодня в малом просмотровом зале будут показывать «Похитителей велосипедов», и это немного взбодрило его. Георгий еще не видел этого фильма, потому что ни в одном таганрогском прокате не нашлось кассеты с таким раритетом. Но то, что он читал об итальянском неореализме, будоражило его воображение и подхлестывало любопытство.
И фильм не разочаровал его. Это еще мало сказать, не разочаровал… Он потряс его, вверг в почти шоковое состояние! Оператор Монтуори сделал именно то, что хотел сделать он сам. Показал город – огромный город, великий город – глазами одинокого, никому не нужного человека. И во взгляде этого человека, разыскивающего по всему Риму свой похищенный велосипед, не было отчаяния, а было что-то совсем другое – светлое, печальное, щемящее…
После фильма Георгий машинально спустился на первый этаж, где находился операторский факультет, потом зачем-то прошел через коридор левого крыла на лестницу, а оттуда – в стеклянный переход, ведущий на учебную киностудию. Здесь он опомнился и остановился.
«Городу и миру… Городу и миру…» – непонятно почему вертелось у него в голове.
Этот прозрачный переход был второй по популярности – после пятачка перед буфетом – курилкой ВГИКа. Здесь вдоль достающих почти до самого пола стеклянных стен стояли деревянные скамейки, урны и кадки с цветами. И сидели на скамейках и на полу студенты всех курсов и факультетов. Они курили, пили кофе из бумажных стаканчиков, болтали, спорили, что-то доказывали, исповедовались в чем-то лучшим друзьям, а заодно и всем окружающим…
– Тарковский твой уже не катит… пятый раз хожу сдавать… – гудело под стеклянным потолком.
Георгий присел на корточки рядом с большой кадкой, в которой росло что-то долговязое и зеленое, закурил. Он пытался связать свои сумбурные впечатления в ясные мысли, которые можно было бы потом, во время обсуждения на семинаре, облечь во внятные слова.
– Ну что, болит голова? – донеслось сверху.
Сначала Георгий увидел перед собой короткий кожаный сапожок на низком каблуке-»рюмочке». В сапожок были заправлены черные джинсы. Потом он поднял голову и увидел Марфу.
– С чего ей болеть? – пожал он плечами.
Настроение у него почему-то сразу испортилось. Даже не то чтобы испортилось, а как-то увяло, как будто Георгия окатили холодной водой.
– Лицо обморочное, – спокойно объяснила Марфа. – В сочетании с рыжей шевелюрой – очень фактурно. Ходячий плакат о вреде зеленого змия и курения натощак.
Георгий тут же ощутил металлический привкус во рту, о котором успел забыть, пока смотрел «Похитителей велосипедов».
«Что за девка чертова!» – сердито подумал он.
– Ладно, тебе чего? – мрачно спросил он.
– Мне – ничего, – пожала плечами Марфа. – А вот ты, помнится, вчера убивался, что теряешь свою высокую квалификацию.
– Какую квалификацию? – не понял Георгий.
Что и говорить, Марфа умела ошеломить и заинтриговать!
– Операторскую. Разве не ты плакался, что достиг небывалых высот, снимая камерой «Супер-8», а теперь вынужден без нее обходиться и посему невыносимо страдаешь?
Марфа смотрела насмешливыми глазами, грызла кончик косы и нетерпеливо постукивала узким носком сапога. Весь ее вид говорил: как же трудно разговаривать с тупыми людьми!
– По-моему, ничего такого я не говорил, – сквозь зубы процедил Георгий. – Не понимаю, почему ты так стараешься мне доказать, что я существо второго сорта?
– Пока что ты вообще никакого сорта, – заявила Марфа. – Так, пересортица. – И, прежде чем он открыл рот, чтобы высказать все, что о ней думает, добавила: – Если хочешь, можешь поснимать. Не «Супер», конечно, но как суррогат сойдет.
С этими словами она сняла с плеча небольшую сумку и протянула Георгию. Тот машинально взял сумку в руки, почувствовал ее неожиданную тяжесть, открыл… В сумке – точнее, в чехле – лежала японская видеокамера. Георгий почувствовал, что у него неприлично открывается рот. Однажды он снимал на видеокамеру – конечно, не на такую, а на более примитивную и громоздкую, но все-таки настоящую, заграничную. Об этом попросил его отец жениха на одной из свадеб.
– Смотри только, не урони, – твердил подпивший папаша. – И не жми абы куда. Я с Сингапура привез, дорогая вещь, на весь город одна такая!
И вдруг Марфа спокойно отдает ему камеру, которая стоит, наверное, не меньше, чем новые «Жигули»…
– «Похитителей велосипедов» смотрел? – поинтересовалась Марфа. – Вам же сегодня показывали. Ну вот, повтори подвиг героя, поброди по городу.
Она последний раз затянулась, бросила окурок в урну, повернулась и пошла по стеклянному коридору к лестнице. Марфа редко носила брюки, и понятно было, почему: бедра у нее были, пожалуй, широковаты, и даже черные джинсы не совсем скрывали этот недостаток. Впрочем, не похоже было, чтобы она комплексовала по этому поводу.
– Подожди! – Георгий наконец пришел в себя. – Что значит – «поброди»? Но… И вообще… А как тебе ее вернуть? – задал он наконец самый глупый вопрос.
– А что, ты разве больше не явишься в институт? – Марфа остановилась и насмешливо посмотрела на него. – Я, во всяком случае, учебу пока не бросаю. Увидимся, надеюсь.
Он бродил совсем рядом, не дальше ВДНХ. Просто боялся удаляться от ВГИКа, словно здесь было безопаснее ходить с этой изящной, добротной и пугающе прекрасной вещью. Он даже пытался спрятать камеру в рукав кожуха, чтобы она не так бросалась в глаза прохожим. Мало ли…
Но вскоре Георгий напрочь забыл обо всем. Чего бояться, да разве он позволит кому-нибудь сделать хоть что-нибудь, что могло бы повредить этому удивительному инструменту, прижатому к его ладони!
Весь мир интересовал его теперь ровно настолько, насколько умещался в объективе. И этот мир, просветленный совершенной оптикой, оказался таким огромным, что больше ничего и не было нужно. С каким-то самозабвенным упоением Георгий ловил объективом человеческие лица или надолго останавливался на неподвижных деталях городского пейзажа – и их неподвижность оказывалась мнимой, потому что становилась видна и понятна их скрытая напряженная жизнь. Ему нравилось выстраивать какие-то мгновенные сюжеты, то ли символические, то ли игровые, и менять их прежде, чем они успевали ему надоесть.
Например, он шел навстречу прохожему, наставив камеру прямо ему в лицо, и целую долгую минуту наблюдал реакцию. Почему-то последней точкой реакции каждый раз оказывалось раздражение. При этом лицо прохожего, даже если это была молодая и красивая женщина, каменело, во взгляде проступал металл. И тогда Георгий медленно, панорамируя, переводил объектив на лица металлических рабочего или колхозницы – в зависимости от пола раздраженного прохожего. Ему самому становилось смешно от такого незамысловатого, но ясного сравнения, и он представлял, как будет смеяться тот, кто увидит потом эту сценку.
Камера легко, как будто даже с охотой, выполняла любые его желания. Вообще-то Георгий быстро разбирался даже в самой сложной технике, не зря его в армии посадили на пост, на котором, кроме него, работали только вольнонаемные сообразительные женщины. Но сейчас эта его способность оказалась ненужной. Камера была исполнена той простоты, которая не требует напряжения. И благородство этой простоты было очевидно.
«Как Марфина косыночка», – вдруг подумал Георгий.
Он не заметил, как стемнело – рано, по-зимнему, – и еще поснимал немного, пытаясь уловить завораживающий трепет московских вечерних огней. Но потом все-таки убрал камеру в чехол, понимая, что и ее возможности не безграничны.
Трамвая он ждать не стал – пошел в общагу пешком, чтобы в злобной пиковой тесноте не разрушить то состояние восторга, в котором находился весь день. Точнее, с той минуты, как взял в руки камеру.
Ветер, вдруг поднявшийся к вечеру, хлестал в лицо, как на Дальнем Востоке. Георгий и вспоминал сейчас Дальний Восток, но не из-за ветра, а из-за того счастья, которое впервые почувствовал там.
Служба оказалась не столько трудной, сколько нудной.
Но, как он вскоре узнал, так было не всегда. Когда-то гарнизон здесь был огромный – о нем теперь напоминал только непомерно большой Дом офицеров – и жизнь била ключом. А потом началась перестройка, о которой все без исключения офицеры, прапорщики и их родственники говорили с нескрываемой ненавистью, и ядерные ракеты стали сокращать. Георгий не вникал в то, как именно это происходило, да никто и не сообщил бы ему подробности, даже если бы он и захотел. Очевидным было лишь то, что жизнь в гарнизоне словно замерла. Многих офицеров – Георгий подозревал, что лучших, – перевели служить в другие, более перспективные места. Солдат присылали мало, к тому же, опять-таки к возмущению здешних офицеров, перестали брать в армию студентов, и поэтому «контингент пошел не тот». В общем, Георгию казалось, что жизнь здесь идет теперь как-то по инерции.
Его ощущение подтвердил однажды замполит Беденко. После того как Георгий оформил к полковому смотру стенгазету, которая заняла первое место, тот проникся к нему расположением.
– То ли дело раньше было! – элегическим тоном постоянно пьющего человека говорил замполит, глядя, как в красном свете фонаря проступают на лежащей в ванночке фотобумаге черты его круглого, с обвислыми щеками лица. – Да раньше б я капитан был давно или, может, даже майор, а теперь? Теперь старлей, – уточнил он, как будто Георгий сам этого не знал. – Раньше Катька моя у нас в магазине брала сервиз «Мадонна», так знала, что вся родня на Большой земле от зависти удавится. А теперь что? Теперь сеструха ее за сопляка какого-то выскочила, он этих «Мадонн» с Турции понавез – хоть собак с них корми. Бизнесме-ен! Или вот, к примеру, тебя сюда служить прислали. Ты, Турчин, парень сообразительный, в технике разбираешься. Так ведь таких солдат теперь – раз-два и обчелся. Все больше пролетариат и крестьянство шлют, а с них какой толк в ракетных войсках?
– У меня мать портниха, – заметил Георгий. – Родилась в степи на хуторе. Это как, пролетариат или крестьянство?
– Ну, я же фигурально выражаюсь, – объяснил Беденко. – Я и сам из крестьян. Раньше-то простым людям везде дорога была, это теперь… О, е-мое! – вдруг вспомнил он. – Я ж чего пришел? Я тут кинокамеру вчера обнаружил. И пленка к ней в наличии. Может, глянешь? Парень ты технически грамотный, освоишь. Можно б фильм снять, показали бы потом на смотре. У всех фотографии, а у нас, пожалуйста, – кино! Короче, завтра получай ее и работай. Пленку только экономь. Лучше сначала просто так поснимай, без пленки – в смысле, потренируйся.
Георгий еле сдержался, чтобы вслух не вспомнить анекдот про психов, которым обещали налить в бассейн воды, если нырять научатся. Но на всякий случай решил воздержаться от комментариев. Беденко не отличался чувством юмора – кто его знает, еще передумает давать камеру!
Конечно, Георгий быстро разобрался, как она работает, несмотря на кондовый язык, которым была написана инструкция. А разобравшись, сразу зарядил пленку и отправился снимать все, что попадалось на глаза. Благо Зинина протекция позволяла ему чувствовать себя относительно свободным в передвижениях.
Он ожидал чего угодно, но только не того, что оказалось связано с его новым занятием. Через неделю возни с камерой он заметил, что на него стали странно поглядывать сослуживцы. Раньше он был такой же, как все – свой, простой парень. Ну, оформляет стенгазету, ходит для этого в библиотеку. Так мало ли чего взбредет в голову начальству, оно не то что книжки читать – сортир пошлет чистить зубной щеткой! Теперь же в отношении к нему солдат – да что там солдат, даже прапора – появилась какая-то почтительность. Допотопная камера выделила его из всех, умение обращаться с ней стало знаком некой исключительности, этого невозможно было не почувствовать. И это, что скрывать, было очень приятно…
– Жорик, сними меня! Дембель скоро, охота кино про себя глянуть! – то и дело слышал он, когда снимал что-нибудь из армейского быта – официальное, вроде маршировки на плацу, или неофициальное, вроде того, как солдаты играют за казармой в «слона» – прыгают через спины друг друга.
И все-таки его больше интересовало даже не это – не исключительность собственного положения в армейской иерархии. Он вдруг понял, что мир, увиденный в визир кинокамеры, сильно отличается от обычного мира. И Георгию хотелось уловить суть этого отличия, хотелось понять законы, по которым строится этот странный киношный мир… Он чувствовал, что эти законы существуют, что пусть не все, но хотя бы некоторые из них можно просто узнать, а не нащупывать вслепую.
Но узнать их было не у кого, все приходилось осваивать самому.
Он долго бился над тем, как соединить в кадре движение и неподвижность. Ловил в объектив птиц, летящих над верхушками темных елей, снимал во время сильного ветра, чтобы тучи не просто плыли, а стремительно мчались по небу. Но чувствовал, что этого мало, что настоящего, словно на игольном острие, чувства жизни не создают ни птицы, ни тучи. И так продолжалось до тех пор, пока в объектив случайно не попала Зина.
Это произошло обычным сумрачным днем. Она шла вдоль забора к Дому офицеров, и у Георгия сердце замерло, когда он увидел эту картину: маленькая девушка, трепетность походки которой заметна, несмотря даже на неуклюжую шубу, – на фоне темной, словно ножницами вырезанной кромки бесконечного леса, на фоне колючей проволоки забора, на фоне неподвижной и суровой жизни… Георгий медленно вел камеру вслед за Зиной, радуясь, что она его не замечает. Обычно-то она сразу замечала его, даже головой специально начинала вертеть, как только входила на территорию части, а тут задумалась, наверное.
Благодаря Зининому вниманию, которого она не умела скрыть, армейскую жизнь Георгия можно было считать необременительной и даже приятной. Во всяком случае, свободное от дежурств время можно было проводить в библиотеке – считалось, что он ищет материал для очередной стенгазеты или для какого-нибудь агитационного стенда. Да, собственно, никто особо и не интересовался, чем занимается в библиотеке рядовой Турчин. А чего интересоваться, если командир части разрешил? Командиром части был Зинин отец, подполковник Бережной, и ей не составило особого труда добиться у него этого разрешения. Конечно, Зина была жалостлива, и, конечно, ей хотелось помочь солдатику, которого тянет к книжкам. Но гораздо больше ей хотелось другого, и это так ясно читалось в ее взгляде, что пень бы догадался. Георгий догадался в первый же день, когда ее увидел, и все последующие дни только подтверждали эту незамысловатую догадку.
Вообще-то Зина не вызывала у него никаких чувств. Но ведь и не было до сих пор девушки, которая их вызывала бы. Он был горяч, безогляден, силы гуляли в его теле, силам было тесно… А Зина летела к нему, как перышко на подставленную ладонь.
И все-таки Георгий старался как можно дальше отодвинуть момент, в который все должно было у него с ней произойти. Он и сам не понимал, почему ему становится неловко, когда он смотрит в Зинины распахнутые глаза, и почему хочется отвернуться.
Спустя три месяца после того дня, когда Георгий впервые пришел за старыми журналами, он сидел на корточках в глубине библиотеки, между стеллажами, и листал книгу, которую только что заметил на самой нижней полке. Книга была новая, Георгий сразу понял, что он, пожалуй, второй человек, который ее открывает. А первой была, наверное, покойная старушка-библиотекарша.
Он с детства полюбил читать вразброс, заглядывая то в середину, то в конец книги. Ему был интересен не столько сюжет, сколько что-то другое, главное, что не зависело ни от сюжета, ни от порядка чтения. Он смутно чувствовал, есть это главное в книге или нет, и ему было почти все равно, с начала читать или с конца.
А в этой книге оно было, и Георгий просто впился глазами в строчки. Страницы дышали страстью, как, наверное, дышал ею характер написавшего их человека. И Георгию вдруг показалось, что он смотрит не на книжные страницы, а в визир кинокамеры. Чувство было то же самое, и это так потрясло его, что он даже не сразу прочитал название книги.
Он читал о том, как узник бежал из тюрьмы, находящейся на острове, – как он тайком сделал плот из кокосовых орехов, как решил брать с собой только самое необходимое и взял бритву «Жиллетт», чтобы ни дня не оставаться небритым, хотя он плыл по океану в полном одиночестве… Эта деталь показалась ему такой яркой, что весь человек предстал перед ним как наяву, ничего больше можно было о нем не говорить.
Георгий представлял, как можно было бы снять эту сцену: вот узник собирает вещи для побега, вот кладет в мешок бритву, тоненькую, совсем сточенную. Он видел все это так чисто, ярко – большие, с чуткими пальцами руки, машинально укладывающие мешок; океан, бушующий за зарешеченным окном…
Вдруг он почувствовал, как чьи-то руки ложатся ему на плечи. В том состоянии внимания и восторга, в котором он находился сейчас, все его чувства были обострены. Пожалуй, Зина специально не нашла бы лучшей минуты, чтобы близость их началась наверняка.
Он на мгновение замер, всем телом прислушиваясь к тому, как вздрагивают ее ладони, как она прижимается к его спине сначала коленями, а потом и всеми ногами, и животом… Зина дышала прерывисто, почти неслышно. Георгий медленно повернул голову, взглянул в ее пунцовое лицо, оказавшееся почти перед его глазами. Губы ее были чуть приоткрыты, но не призывно, а, как и в день их знакомства, растерянно, почти испуганно.
Он поднялся во весь рост, и Зина сразу очутилась у него чуть ли не под мышкой.
– Я не чтоб помешать… – пролепетала она куда-то ему в грудь. – Я думала, книжку помочь… поискать.. найти…
Георгий не понимал, что исходит от этой маленькой девушки. Кажется, это было не просто желание, и, может быть, даже вообще не желание, а что-то совсем другое – неясное, неловкое. Но думать об этом, когда женщина дышит прямо в грудь, он уже не мог. Он почувствовал, что в глазах у него темнеет, и, наклонившись, накрыл губами Зинины испуганные губы. Она с готовностью приоткрыла их пошире и даже на цыпочки привстала, чтобы сильнее прижаться к нему. Но он уже и без того стиснул ее в объятиях так сильно, что ей, наверное, даже больно стало. Она вскрикнула – совсем тихо, почти вздохнула – и сразу же вскинула руки, обняла его за шею, как будто испугалась, что он оттолкнет ее. Какое там! У него и в мыслях не было ее отталкивать – у него вообще ничего уже не было в мыслях, в рыжей его, пылающей голове.
Георгий целовал Зину, руки у него дрожали, когда он неумело теребил шершавые пуговки на ее голубой блузке. И у Зины тоже дрожали руки, когда она помогала ему расстегнуть эти неудобно обшитые тканью пуговки, когда сама расстегивала застежку на лифчике, чтобы совсем ничто не мешало ему – его большим горячим ладоням, его пальцам, сжимающим ее грудь…
Он сам расстегнул «молнию» на ее юбке, и Зина торопливо стоптала тесную юбку на пол. Георгий бросил рядом свой бушлат, гимнастерку и прошептал:
– Ложись, Зин, ложись сюда, а?..
Колени у нее послушно подогнулись, она легла на пол между стеллажами, и Георгий упал на колени рядом с ней. Ему вдруг показалось, что ей жестко лежать головой на полу, и, накрывая ее сверху своим телом, он подсунул руку ей под голову. Шпильки выпали из ее прически, светлые волосы тут же хлынули, как потоки воды – на крашеный скрипучий пол, на руки Георгия… Волосы льнули, липли к его голой груди, щекотали и возбуждали больше, чем возбуждала сама Зина. Она затихла под ним, как мышка в норе, и только послушно выполняла все, чего без слов требовали его руки, его раздвигающиеся между ее ногами колени – все его большое тело.
– Ты не бойся, Зин, я осторожно… Зиночка… быстро… – шептал он, сам не понимая смысла своих слов.
Неизвестно, боялась она или нет, но была так податлива, как будто малейшее ее неверное движение могло оказаться роковым, как будто Георгий мог в любую секунду отпрянуть из-за какой-нибудь ее неловкости. Но он уже был в ней, уже двигался размеренно и мощно, и все его тело сильными, живыми токами, как узами, было привязано к ее дрожащему телу.
Все это длилось гораздо дольше, чем он мог ожидать от себя после полугода армейского воздержания. Прямо перед его глазами трепетали на полу страницы раскрытой книги про узника по кличке Мотылек, убегали куда-то буквы…
Наконец Георгий почувствовал, что телесные токи становятся в нем совсем сильными, жгучими – и наслаждение пронизывает его, заполняет до краев. Что чувствовала при этом Зина, он не знал: она по-прежнему молчала, часто дышала и была неподвижна под ним.
Он застонал, вдавливая ее в пол, задрожал и замер, потом наконец отпрянул от нее, перевернулся на спину. Рука его затекла у Зины под головой, но сейчас Георгий не чувствовал этого, потому что горячие иголочки кололи изнутри не только руку, но и все тело. Он был как песок, наконец-то пропитавшийся дождевой водой.
– Гошенька… – вдруг тихо произнесла Зина.
Взглянув на нее, Георгий с удивлением заметил, что в глазах ее стоят слезы.
– Что ты? – шепнул он и притянул к себе ее голову, поцеловал в висок, в светлую струю волос. – Испугалась?
– Нет, Гошенька, я… Ты не думай, я не гулящая, а что ты не первый у меня, так только второй, честное слово!..
Вот уж о чем он точно не думал сейчас! Георгий вспомнил, что Зина и в самом деле была слишком податлива для нежной и невинной девушки, какой она казалась, и преград никаких ему не было. Ну и что?
– Дурочка, – улыбнулся он. – Что я, счетчик при тебе?
«Мое-то какое дело?» – подумал он при этом.
Он осторожно высвободил руку из-под Зининой головы, принялся сжимать и разжимать затекшие пальцы. Зина тем временем застегивала блузку, закалывала волосы шпильками, которые быстро собирала с пола. В ее движениях была какая-то особенная женская умелость, и Георгий вдруг почувствовал, что умелость эта ему неприятна. А почему, он не знал.
Зина шмыгнула носом и вздохнула.
– У нас же тут знаешь как, – извиняющимся тоном сказала она. – Деревня глухая, тайга кругом… Кажется, ничего в жизни больше и не будет, никого не встретишь. Вот я и поддалась, когда парень хороший попался. А он, видишь, как… Был солдатик да сплыл. Но ты же не так, правда, Гошенька?
Этого только не хватало! В Зининых глазах, наивно распахнутых ему навстречу, стояла такая унылая трезвость, такой простой житейский расчет, что Георгию стало тошно. А ему-то еще казалось, что она может обидеться на его голодную торопливость и на то, что он ни слова не сказал ей про любовь, как положено…
Впрочем, насторожившись, Георгий одновременно успокоился. По крайней мере, было понятно, как вести себя дальше.
– Зин, я книгу возьму, ладно? – сказал он, не отвечая на ее вопрос. – Вот эту, «Папийон». Я тут прочитал пару страниц – интересная…
Зина улыбнулась так ласково и снисходительно, как будто ее попросил о какой-то ерунде малый ребенок.
– Да бери, конечно, – сказала она и провела рукой по его стриженой голове. – Ты, Гоша, красивый… Жалко, что рыжий, но ничего, глаза зато красивые у тебя.
– Да? – засмеялся он. – За красивые глаза, выходит, книжки дают читать? Я пойду, Зин, построение скоро.
Георгий шел к казарме, смотрел, задрав голову, на весеннюю кромку деревьев – зеленую лиственную дымку, – и ему было легко, радостно. Он во всем теле чувствовал свою молодую радость и совсем не думал о Зине. А думал о книжке про Мотылька-Папийона, о том, как страницы ее сами собою становятся картинками, подмигивают ему, дразнят его и смеются как живые.






