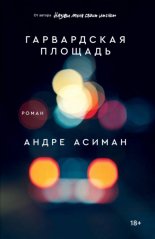Темная волна. Лучшее 2 Кузнецова Екатерина

© Б. Гонтарь, Е. Кузнецова, А. Матюхин, 2022
© М. Кабир, предисловие, 2022
© В. Точинов, концепция, составление, 2022
© Эксклюзив-Медиана, 2022
© ООО «Издательство Северо-Запад», 2022
На одной волне
Существует байка о Шевчуке, лидере ДДТ. Дескать, когда-то в Уфе совсем юного Юрия Юлиановича осенило: можно петь рок-н-ролл на русском языке! Каково же было разочарование рок-героя, когда он выяснил, что русскоязычные «Машины времени» и «Аквариумы» давно существуют. С тринадцати лет я зачитывался Стивеном Кингом и прочими авторами хоррора, которых удавалось найти на книжных барахолках и в небогатых букинистических магазинах девяностых. Собирал по крупицам информацию о жанре. В оффлайновские времена мне помогали перестроечные журналы вроде «Ровесника» и «Студенческого меридиана», и удивительный науч-поп из братских стран, например, болгарская книга о вреде американской массовой культуры, где после номинального вступления с цитатами из Маркса шло трёхсотстраничное признание в любви к «Экзорцистам» и «Челюстям». В восьмом классе я порвал с сочинительством фантастики и фэнтези, и перешёл на чистокровный хоррор. Писал роман в общих тетрадках, а может это была повесть: сейчас сложно конвертировать подростковые каракули в печатные строчки. Естественно, события происходили в штате Мэн, и у меня даже была читательница, девочка, разделявшая мою страсть к Кингу.
Примерно между третьей и четвёртой тетрадкой (демоны уже вовсю терроризировали вымышленный городок), мне в голову пришла совершенно новаторская идея. Я поделился ею с подружкой: а что если помещать персонажей в отечественные локации? Вместо Джонов Смитов использовать Иванов Кузнецовых, а вместо штата Мэн – микрорайоны родного Тошногорска? Никто ведь так не делал со времён Алексея Константиновича и Николая Васильевича, и я буду первым!
Подружку это совсем не впечатлило. Она обвела взором скучнейшие панельные дома и двор с голубятней и столиком для игры в домино, и усомнилась, что кто-то станет читать такое. Сомнения одолели и меня, но мысли о том, чтобы засеять западными семенами отечественную грядку, я не отмёл. А через год выяснилось, что первопроходцем мне не стать. Мой книжный дилер притащил вместе с Кунцем и Лаймоном томик, который по сей день стоит у меня на полке, как символ несбывшихся мечт: «Загадка старого кладбища» Алексея Атеева. Меня опередили.
В нулевые я познакомился с прозой Виктора Точинова, человека, благодаря которому вы держите в руках эту книгу. Если бы мне, студенту, сказали, что с автором «Пасти» мы будем запросто болтать, и к тому же сотрудничать, я бы рассмеялся. Попадались и другие произведения русскоязычных авторов: «Бабай» Бориса Левандовского, «Как закалялась жесть» Александра Щёголева, «Гулы» Сергея Кириенко, «Кузнечик» Андрея Саломатова, а Сергей Лукьяненко легитимизировал вампиров своими «Дозорами». Но всё это казалось хоть и очень приятным, но исключением из правил, укоренило мысль, что издательствам такая диковинка, как русский хоррор, малоинтересна, а стало быть, малоинтересна и широкой публике. Хочешь, чтоб тебя восприняли всерьёз, изволь рядить ужасы в одёжку пост-модерна. И я рядил, а жанровые вещи стыдливо прятал в комод.
Всё изменилось в начале десятых годов, когда Гугл через запрос о Конане-Варваре вывел меня на журнал «Даркер». Неожиданно оказалось, что в странах бывшего СНГ есть не просто люди, фанатеющие от хоррора (с такими я давно был дружен), но делающие русский хоррор, и нисколько этого не стесняющиеся. Мои ровесники, мои единомышленники, мои братья и сестры. Я познакомился с Дмитрием Тихоновым, Александром Подольским, М. С. Парфёновым, Владиславом Женевским и другими замечательными авторами, и я был счастлив, увидев давно знакомые фамилии Щёголева и Точинова. А дальше была «Самая страшная книга», тусовка на глазах превращалась в культурное явление, позже получившее имя «Тёмная волна». Имя, вынесенное на обложку этой книги. Авторы со своим почерком, своим взглядом на жанр, объединённые любовью к этому жанру и желанием (умением!) пощекотать читательские нервы.
Александр Матюхин был одним из первых писателей «даркеровского» круга, которых я прочёл. И он остаётся одним из моих любимых хоррор-писателей вообще. Проза Матюхина ассоциируется у меня с замёрзшей рекой. Лёд кажется надежным, толстым. Рыбаки и конькобежцы – приветливыми ребятами. Славно гулять, глазея по сторонам. Тот берег изучен назубок, вы ходили по нему весь год, но отсюда, с реки, берег выглядит по-новому. Всё хорошо. В тихом омуте чертей нет. Папа придёт. Таймер прозвонит вовремя. И вдруг Матюхин, человек из закрытого города с цифрой в названии, выворачивает наизнанку сюжет. Замурованная река меняет течение. Лёд трескается под ногами. Рыбаки и конькобежцы оголяют в ухмылке акульи зубы. Вы ковыляете к суше, но проваливаетесь в ледяную пучину ужаса. Вы думали, что после стольких книг вас не напугать? Вас провели самым жестоким и изысканным способом.
Матюхин А. А. – один из тех универсальных прозаиков, которые хороши и в малой, и в крупной форме. Я пока не читал повесть с характерным названием «Дружище» (он снова нас отвлекает, этот Матюхин), но прочту вместе с вами, лишь завершу это многословное вступление. И снова с радостью отправлюсь гулять по льду.
Богдан Гонтарь это лес. Лес изначально недружелюбный к людям, полный теней и скрипов. Это ещё и ведьмино варево. И почерневшие иконы в гнилой избе. И вороны над сельским погостом. Даже если Гонтарь рисует современный город, этот город словно бы изображён на средневековой гравюре, сводящей с ума, если долго всматриваться в детали. С тех пор, как шесть лет назад я впервые прочёл рассказ этого великолепного автора я влюблён в страшный языческий лес. Гонтарь принёс в русский хоррор скандинавский блэк-металл и прочую дьявольщину. Его проза предельно тёмная и густая. Подобная консистенция мрака встречается разве что в текстах Дмитрия Тихонова – недаром Тихонов и Гонтарь успешно работают в соавторстве. На вашем месте я бы не заходил в эту чащу слишком глубоко и не доверял бы проводнику. А впрочем, вы, как и я, всё равно не сможете отказать тому, что живёт за шторами. Тому, что обитает в пурге.
С творчеством Екатерины Кузнецовой я познакомился на отличном конкурсе «Виселица» в 2016 году. Но по-настоящему распробовал и полюбил её рассказы относительно недавно. Девушки в Тёмной волне – тема для отдельной статьи, и я не устану превозносить Елену Щетинину или Викторию Колыхалову. Кузнецова – это первосортная проза во-первых, и эталонный хоррор во-вторых. Это тот исключительный случай, когда рассказ – готическую жемчужину «Похороны мух» – я прочёл два раза подряд, задаваясь вопросом: как же так? Как может текст быть одновременно таким жутким и таким притягательным? Безжалостная, как фраза «а я тебя – нет» в ответ на признание в любви, тревожная, как похоронная процессия, несущая маленькие гробы, и навсегда вбивающая в память свои гробовые гвозди. Прах и скверна. Голуби и совы. Страшно и хорошо.
Волны – это то, что приходит и уходит. Проза Богдана Гонтаря, Екатерины Кузнецовой и Александра Матюхина скорее тёмное озеро, неисчерпаемое и бездонное. Перелистните страницу и ступайте в его воды. Я послежу, чтобы никто не украл ваши вещи. На этих берегах водится разное.
Максим Кабирдекабрь 2021 г.
Богдан Гонтарь. Вечная мерзлота
Возвращение
Ночь мягко и незаметно вползла в старую хрущевку, распустив по паркету языки теней. Тени бесшумно осели в углах, заклубились в коридоре и замерли стеной; ринулись было на тесную кухню, но отпрянули, испуганные тусклым светом потрескивающей лампочки, и в ожидании застыли на пороге.
Николай Савельевич поставил на плитку алюминиевый чайник и сел на покосившийся табурет, подкрутив громкость на радио, вещавшее о новостях далекой и призрачной столицы. Старик со скучающим видом слушал, подперев подбородок кулаком и глядя через мутное стекло во двор.
За занесенной снегом детской площадкой горели огоньки окон соседнего дома. Николай Савельевич видел суетящихся людей: они наряжали новогодние елки, развешивали гирлянды, заворачивали тайком от родных подарки. Пенсионер, глядя на эту предпраздничную суету, только угрюмо вздыхал и почесывал тыльную сторону ладони с наколотыми солнцем и чайкой. Он вспоминал свои праздничные дни, оставшиеся в прошлом. Вспоминал нарядную смеющуюся жену, веселых и резвых детишек, которых он по очереди катал на шее в этой же квартире, а они бегали вокруг него, смеясь.
Дети давно выросли. А жена… Зинаиду Николай Савельевич похоронил четыре года назад. Маленькая деревенька вдалеке от крупных городов когда-то выпустила из своих материнских объятий маленькую, еще несмышленую, белобрысую Зинку, а спустя шестьдесят лет приняла обратно Зинаиду Степановну, навсегда забрала ее, бледную, безмолвную и холодную, в свой жирный и податливый чернозем.
Металлической трещоткой заверещал телефон. Николай Савельевич, чертыхнувшись, поднялся со стула и проковылял в коридор, залитый тенями, пропахший кислым борщом и старческим потом. В темноте он побрел вдоль стены. Аппарат звенел, не замолкая, и было что-то в этом назойливом звуке до глубины души противное Николаю Савельевичу. Каждый раз, поднимая трубку, он испытывал омерзение, схожее с чувством, когда берешь в руку склизкий клубок рыбьих внутренностей. Но не ответить было нельзя – тогда будут названивать без конца. Всю ночь, пока заспанное солнце не прогонит тени из квартиры.
В такие моменты Николай Савельевич жалел, что старость забрала у него только зрение, заставив носить очки со стеклами толщиной едва ли не в палец. Иногда у него возникали мысли, что было бы лучше потерять слух, чтобы не слышать этих вечерних звонков. Нащупал угловатые изгибы трубки, снял ее с рычажков и поднес к уху. В трубке звенела тишина.
– Да? – гаркнул он, и от его резкого, как вороний крик, голоса тени шарахнулись в разные стороны.
– Коля? Привет, Коленька! Как дела у тебя? Почему не звонишь совсем? Забыл про нас? – затараторила трубка голосом Лиды, младшей Зининой сестры, тучной тетки с вечной широкой улыбкой, обнажавшей плотный ряд удивительно белых для ее возраста зубов, с сильными не по-бабьи руками, и озорным характером.
Голос в трубке не унимался:
– Николай, это не дело! Мы тут, значит, переживаем, волнуемся, как ты там, а ты и в ус не дуешь! Хоть разочек бы позвонил или письмишко начеркал, скучаем же по тебе. Ну, чего молчишь-то? Внучки, так те вон постоянно спрашивают: «Где деда? Когда позвонит?», а ты… Эх, Коля, Коля, стыдно должно быть! Я ж тебе сто раз уже предлагала: приезжай к нам жить, что тебе в том городе-то? Приезжай, вместе и доживем свой век, можно подумать, долго осталось. Тут-то хоть старость встретишь в тепле и уюте, а не в квартирке своей холодной. У вас там уже, поди, мороз уже и сугробы, за хлебом не сходишь. А у нас и дует-то не шибко, только снежок лег, а мороза и нет. И жизнь у вас там – не сахар. Загазованность, климат опять же. У нас всяко лучше: и воздух чище, и климат мягче. А еда? Ты ж там что ешь? Консервы с яйцами? Ты ж и готовить-то себе не можешь, а тут дом полон баб, всегда сыт будешь, да и у нас домашнее все: яички, молочко парное, мяско, курица. Я на днях сала засолила килограммов пять. Хочешь, тебе посылочку отправлю? Меня Танюха в воскресенье на почту повезет за пенсией, тогда и отправлю. Но ты все равно лучше приезжай, Коль. Скучаем мы по тебе. Да и тяжко нам тут. Забор покосился, подровнять некому. А еще крышу покрыть надо, подтекает на веранде, но это дело не срочное, найдем, кто поможет. А ты все равно приезжай. Мы ж родня. И ты у нас один остался. Девчонкам надо, чтобы мужчина был в семье, чтобы защитник был, да и просто свою долю воспитания давал. А то вырастут в мать – я ж ее тоже одна растила, вот она у меня и избалованная. А тебя любят и слушаются во всем, сам помнишь. Нужен ты нам, Коль. Да и мы тебе нужны, чего уж там. Стареть вместе сподручнее, понимаешь? Приезжай, бросай свою квартиру, или детям отдай, нехай делят. Хотя нет, они там за нее глотки друг другу поперегрызут, ей-богу. Можешь завещание заранее написать и с собой взять. А можешь продать ее, мы на те деньги пару свинок еще возьмем, да девочкам на учебу отложим, сейчас образование дорогое больно, а нам с тобой деньги-то и ни к чему уже. Хотя твоя квартира, тебе и распоряжаться, но я советую, как лучше, сам знаешь. Да и черт с ней, с квартирой. Ты, главное, сам приезжай, Коль. Ну что ты как ребенок, в самом деле? Всё мы тебя уговаривать должны. Собирайся, ждем тебя. Так всем лучше будет. Все, Коль, целую, буду прощаться. Передаю Маринке трубку.
Зашуршало, что-то щелкнуло, и на секунду сердце старика замерло от радости – связь оборвалась. Но нет, в трубке уже слышался голос внучки:
– Деда, деда, привет! Как ты там? Ты приедешь? Деда? Горку нам сделаешь – на санках кататься? Ну, когда приедешь. А за елкой в лес пойдем? Ты срубишь, а мы с Наткой украшать будем. А еще я хотела котенка у Сашки взять, он отдавал, а мама не разрешила. А ты разрешишь, да? А ты же будешь помогать нам уроки делать? Такие задания сложные в третьем классе, я математику не понимаю, умножение особенно. А ты же умный, ты все знаешь, правда? Приезжай, пожалуйста, ну, деда…
И Николай Савельевич, облокотившись на тумбочку, окруженный тенями, ответил внучке:
– Иди к черту, тварь! И бабка твоя пусть идет, и мать!
Трубка замолчала, словно в замешательстве. Через несколько секунд снова раздался Маринкин голос, испуганный и недоуменный:
– Деда? Ты чего, деда? Не ругайся, пожалуйста, я боюсь, когда ты ругаешься…
– Заткнись!
– Деда… – в трубке послышались всхлипы и сдавленные рыдания. – Деда, ну не ругайся, пожалуйста, мне страшно. Почему ты ругаешься, я тебе ничего не сделала… – всхлипы перешли в громкий плач.
Старик стоял, тяжело дыша, горло сдавила тяжелая ярость. Когда плач поутих, он прохрипел в трубку:
– И никогда больше сюда не звоните. Никогда.
Плач разыгрался с новой силой. Губы Николая Савельевича растянулись в довольной улыбке. Он стоял, усмехаясь, а тени ползли по его плечам. Тем временем рыдания в трубке не прекращались, но что-то в них неуловимо изменилось. Пропали всхлипывающие звуки, а сам плач замедлился, потек визгливыми нотками, и старик понял, что Маринка смеется. Громко, истерично смеется в трубку. Со злости он ударил трубкой по столу, но потом снова поднес ее к уху:
– Над чем ты, сука, смеешься?
Трубка помолчала, и из нее снова раздался тоненький голосок:
– Над тобой, деда, над тобой. Старый мудак, а все надеешься напугать кого-то. Ты приедешь, деда, обязательно приедешь. Мы тебя ждем. И баба Лида, и мама, и мы с Наткой. И Зинаида твоя ждет, хоть и ходить не может – ноги сгнили. Приезжай, деда. Нам тут холодно. Тут земля не прогревается. И черви холодные. Знаешь, каково это – холодные черви во внутрях? Не знаешь ты ни хера, старый. А я знаю, мы все тут знаем. Приезжай, деда, – снова жалобно проскулила она. – Приезжай, мы тебя ждем. Здесь твое место. Тут такой вязкий чернозем, такой тяжелый. Когда сломалась крышка гроба под тяжестью земли, мне продавило грудь, теперь ребра внутрь растут, такой вот чернозем. Без мужика не справиться никак. Приезжай, деда. А маме черви глаз выели, но мы маму и такую любим, она у нас самая лучшая на свете. Натку даже, бывает, молоком кормит. Та говорить не может, связок нет, а пальцем на титьку покажет, и мама ее кормит. Ты приедешь?
– Да вот хрен вам, – прохрипел Николай Савельевич.
– Хрен тебе, а не нам. Приедешь, как миленький. Мы тебе уже год звоним. И ты не выдержишь. И лучше приезжай сам. Мы можем начать звонить твоим детям и внукам, если ты к нам не хочешь. Приезжай, деда, пожалуйста, приезжай, – трубка вновь разорвалась диким смехом. – Видишь, деда, как мы тебя любим? Ты нас год уже как похоронил, а мы все равно звоним, посылку, вон, тебе выслали к праздничку. Наш любимый дедушка, старый дурачок! – новый взрыв истеричного хохота заставил его отнести трубку подальше от уха, и тени вокруг старика словно тоже отпрянули назад при звуках этого смеха.
Николай Савельевич повесил трубку, тоскливо поглядел на болтающийся огрызок телефонного кабеля и устало поплелся в спальню.
Через пару дней пришел курьер. Николай Савельевич долго рассматривал его в глазок. Курьер уходить не собирался – видимо, слышал, как пенсионер тяжело и громко ступал на скрипучие половицы. Парень стоял, держа в одной руке объемный сверток. Каждые несколько секунд он нажимал кнопку звонка, нервно поглядывая на часы. Николай Савельевич сдался и открыл дверь. Из подъезда резко пахнуло мочой и сигаретами.
– Левченко Николай Савельевич?
– Да, я, – прокряхтел старик.
– Вам посылка.
– Сам вижу. Где расписаться?
– Вот тут, пожалуйста. – Парень протянул пожелтевший шуршащий бланк.
Николай Савельевич нацепил висевшие на шее очки, аккуратно вписал год, заполнил графы с именем, фамилией и отчеством, на паспортных данных на секунду заколебался, но записал и их, не доставая самого паспорта. Курьер, нахмурив лоб, осмотрел бланк, довольно кивнул и убрал его в карман, после чего протянул старику посылку – коробку в яркой подарочной обертке, перехваченную лентой с пышным бантом. Николай Савельевич в растерянности уставился на посылку, теряя последнюю надежду:
– А что же, платить за нее не надо?
Но курьер уже не слышал его – бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньку.
Пенсионер закрыл дверь и остался в темном коридоре один на один с посылкой. Весу в ней было килограммов пять, и от того еще меньше хотелось ее открывать. Посылка лежала в его руках, увесистая и грозная, и он не мог решить, что с ней делать. Старик двинулся на кухню, вышел на свет из погруженного в тени коридора и положил коробку на стол. На цветастой бумаге темнели жирные, маслянистые пятна, и он брезгливо вытер руки кухонной тряпкой, и выкинул тряпку в мусорное ведро. Посылка лежала посреди стола, и у старика мелькнула запоздалая мысль, что на стол надо было что-то постелить, ему же еще с него есть.
Обертка притягивала взгляд, манила срезать ленту, развернуть бумагу и достать содержимое на свет. Николай Савельевич даже потянулся за ножом, но в последний момент отдернул руку. Поразмыслив, он взял посылку и пошел с ней в подъезд, где, спустившись на пролет, выкинул ее в черное жерло мусоропровода. Было слышно, как она ударилась несколько раз о стены шахты и с шуршанием приземлилась в кучу отходов. Пенсионер облегченно вздохнул и пошел обратно в квартиру, утирая пот со лба.
Сердце, бешено колотившееся в груди, начало унимать свой яростный ритм, когда старик присел за стол. Потянувшись включить радио, он посмотрел во двор и взгляд его остановился на том же соседнем доме, где в окнах мелькали смеющиеся радостные люди. При виде их, беззаботных и веселых, Николая Савельевича охватила бессильная злоба, в уголках глаз блеснули на миг редкие слезы злости, и он, повинуясь порыву, полез в морозилку. Через десять минут на столе стояли бутылка водки, широкая тарелка с нарезанным бородинским хлебом и двумя сваренными вкрутую яйцами, вареной колбасой, несколькими перьями зеленого лука, и металлическая миска с выуженными из трехлитровой банки маринованными помидорами, патиссонами и парой соленых огурцов. Старик критически осмотрел составленный натюрморт и достал из шкафчика над плиткой треснутую солонку. Часы показывали полтретьего, значит, солнце сядет часа через три. До темноты звонков можно не ждать, и эта мысль приподняла его настроение ровно на столько, что он начал с улыбкой поглядывать на окна соседнего дома. Усевшись на свое привычное место возле батареи, Николай Савельевич плеснул в стакан водки, взял кусочек колбасы, водрузил его на хлеб и придавил сверху половинкой огурца. Вооружившись питьем и закуской, он отсалютовал правой рукой в сторону окна и проскрипел:
– Ваше здоровье, молодежь херова! – после чего, поморщившись, проглотил водку и втянул ноздрями запах бутерброда, поднеся его к носу.
По радио играла музыка. Современную эстраду Николай Савельевич категорически не воспринимал, не чувствуя в ней ни души, ни таланта, однако сделал чуточку громче. Водка делала сварливого, озлобленного деда добрее, приводила в благостное расположение духа, и приближала его к некоей, с трудом им осознаваемой гармонии с окружающим холодным миром.
Тревожно затрещал дверной звонок. Николай Савельевич замер и покосился в сторону погруженного в полумрак коридора. Через несколько секунд в дверь снова позвонили, уже настойчивее. Чертыхнувшись, он поднялся и побрел открывать.
В глазок никого не было видно, только дверь соседа напротив, но пенсионер на всякий случай каркнул:
– Кто там?
Ответа не последовало.
Выждав еще с полминуты, он пошел обратно. Когда уже поворачивал к своей узкой кухоньке, в дверь снова позвонили. Он обернулся и враждебно уставился на дерматиновую обивку. Еще звонок. Николай Савельевич, закипая, двинулся по направлению к двери, бормоча проклятия на ходу. Глазок показывал то же самое, что и в прошлый раз: пустую лестничную клетку, соседскую дверь и царапины на поверхности самого глазка.
– Кто там? – крикнул он, но ему не ответили и в этот раз. – Суки, – резюмировал Николай Савельевич. Потянулся, нащупал за динамиком над дверью ручку громкости и выкрутил вниз до упора.
– Хулиганье, – бормотал он.
Настроение опять упало, радовало только то, что впереди были долгие три часа спокойствия.
На кухне он снова занес бутылку над стаканом, холодная водка тягуче заструилась по граненым бокам, радио заиграло что-то знакомое, из прошлого десятилетия, когда он еще не был так стар, и жива была Зиночка. Присаживаться не стал, в раздражении выпил и откусил от бутерброда.
Когда горячий поток прокатился вниз к желудку, радио зашипело стеной помех. Песню было слышно некоторое время – голос певца выныривал из шумов, искажался и пропадал вновь, а потом исчез окончательно. Осталось только неровное шипение.
Николай Савельевич недоуменно посмотрел на старенькую «Сонату», опершись на стол, потянулся к антенне, однако попытки пошевелить ее не дали никакого результата. Динамик продолжал издавать только шум помех. Старик выкрутил ручку настройки, и красная полоска пробежала по шкале частот в крайнее правое положение. Ничего не изменилось. На пути влево шипение стало громче, забилось, меняя тональность, словно в агонии, а потом пропало вовсе, осталось лишь тихое потрескивание эфира. Как ни пытался пенсионер, но вернуть приемник к жизни не получалось.
Николай Савельевич обессиленно опустился на табурет. Прекрасное настроение вмиг улетучилось вместе с потерей последней вещи, которая скрашивала тоскливые будни и возвращала мыслями в светлые годы, оставленные далеко позади. Вскоре прекратился и треск, повисла звенящая тишина. И в этой тишине совершенно посторонним звуком раздался щелчок, сухой и приглушенный, как звук спускаемого вхолостую курка. Николай Савельевич перевел тусклый взгляд от окна на радио. Динамик молчал. Ни треска статики, ни помех. Еще щелчок. И через десять секунд снова.
Старик склонился над «Сонатой». Щелчки шли из динамика. С равными перерывами, словно за ним таился запущенный метроном. Щелк! Десять секунд тишины. Щелк! И снова тишина. Николай Савельевич уже раздраженно потянулся к розетке, чтобы раз и навсегда оборвать мучения отжившей свой век магнитолы, когда в промежутке между щелчками услышал еще один звук на самой грани восприятия. По спине пробежал холодок. Радио помолчало, потом издало щелчок, и старик поднес ухо к динамику. Из динамика звучал еле слышный детский смех. Николай Савельевич отчетливо уловил столь знакомые нотки Маринкиного повизгивания. Раз от раза смех не менялся, начинался на самой высокой ноте через секунду после щелчка и затухал за секунду до следующего. В последней надежде на то, что все это ему кажется, старик напряженно вслушался в эфир.
Щелк! Тишина. Смех исчез. Прошли бесконечные десять секунд, но, кроме вязкой, почти осязаемой тишины, ничего не было. Щелк! Снова тишина. Николай Савельевич облегченно поставил радио на стол и потянулся за стаканом, когда динамик, хрипя, разразился визгливым, истеричным смехом, теперь на всю громкость. От неожиданности старик вздрогнул и опрокинул тарелку с закуской на липкий паркет. В сердце закололо, перед глазами на миг поднялась багровая пелена, но Николай Савельевич совладал с собой, протянул заскорузлые пальцы к розетке и вырвал из нее штепсель. Схватил «Сонату» и швырнул ее в угол кухни. Магнитола ударилась о стену и рухнула на пол немой грудой пластмассы. Николай Савельевич стоял, тяжело дыша. Лицо его раскраснелось от ярости, руки дрожали.
Наступившее спокойствие разорвала трель звонка из прихожей. Николай Савельевич, обливаясь холодным потом, обернулся в сторону темного коридора. В голове замелькала паническая череда мыслей: он вспоминал, точно ли отключил звонок, малодушно пытаясь убедить себя, что не докрутил тумблер. Звонок верещал на пределе своей мощности, не замолкая ни на секунду, словно кнопку вплавили в паз намертво. Некоторое время старик стоял неподвижно в расколотой наползающим хаосом кухне, собираясь с духом, и в итоге решительно шагнул в коридор. Тени привычно облепили его со всех сторон. Сквозь звон, проникавший, казалось, прямо под сухую бумагу старческой кожи, нарастал шум дождя за окном.
Николай Савельевич быстро пересек залитую тьмой прихожую, но повернул не к двери, а к покосившемуся шкафу, стоявшему у противоположной стены. Открыв рассохшуюся дверцу, он впотьмах нащупал ручку маленького туристического топорика и, упрямо наклонив вперед голову, направился ко входу. Когда оставался последний шаг, звон оборвался, словно с другой стороны резко одернули руку.
Старик вслушался во вновь обрушившуюся на него тишину. Из-за двери не проникало ни малейшего шороха. Он сделал аккуратный шажок, минуя скрипучую половицу у коврика перед входом, и прильнул к глазку. На этот раз в глазок не было видно вообще ничего. Заблаговременно прикрытый чем-то, он показывал только чернильное пятно. Приготовившись открывать, старик помедлил, прислушиваясь, но за дверью по-прежнему царила тишина. Николай Савельевич уже протянул руку к замку, чтобы провернуть его, как услышал снова зарождающийся в пыльной пластмассовой коробке над дверью шум. Дальнейшие его действия не заняли и трех ударов бешено колотившегося в груди сердца: пальцы обхватили ручку и прокрутили ее, плечом он навалился на дверь, выскакивая в подъезд с топором в правой руке. Трель над головой смолкла, не успев начаться, а сам старик выпрыгнул на пустую лестничную клетку. Не было никого ни этажом выше, ни этажом ниже. Не стучали частой дробью по лестнице шаги убегающего хулигана. Единственным звуком были отголоски пьянки, звучавшие из-за двери соседей. Глазок оказался залеплен жвачкой. Николай Савельевич, раздраженно матерясь, отковырял и отскоблил ее, а потом вернулся в квартиру, неся подмышкой то, что ему положили под дверь. Увесистый сверток в жирной цветастой бумаге, перехваченный яркой лентой с бантом. Теперь от бумажной упаковки смердело гнильем.
Старик вновь понес посылку на кухню. На ходу наступил босой ступней на осколки тарелки. Осмотревшись, он сделал единственный возможный выбор и отправил сверток в морозилку.
Зазвонил телефон. Николай Савельевич угрюмо пошел в коридор к аппарату, попутно глянув на часы – полпятого. Что-то рановато сегодня. «Крепчают суки, раньше только с наступлением темноты могли звонить», – мелькнула мрачная мысль. Но он был настолько вымотан, что не придал этому никакого судьбоносного значения. Значит, будет отвечать на звонки и днем – какая, собственно, разница уже?
– Деда? – радостно зазвенел Маринкин голосок. – Как здоровье, дедуля? Мы так соскучились по тебе, ты даже не представляешь. Тут столько всего произошло нового! Недавно в лес ходили, елочку присматривать! Нашли красивенькую, срубим, когда приедешь. Ты же приедешь, деда?
– Да заткнись ты, ради Бога, – пробурчал в трубку Николай Савельевич.
– Опять ты ругаешься, дедуль… Будешь ругаться – на языке бородавки вырастут, – и она рассыпалась мелким ехидным бисером, но в этот раз помимо смеха старик услышал еще приглушенный хрип на фоне.
– Во, слышишь, деда? Это Натка говорит, что у тебя еще и зубы выпадут. Если ругаться будешь. Так что ты не ругайся. – И снова смех вперемешку с хрипящим клекотом.
– Когда вы уже меня в покое оставите…
– А сам-то как думаешь, черт старый? Засиделся ты в жильцах. Посылочку-то уже получил, небось? – в ее голосе засквозили злорадные нотки. – Открывал посылочку-то? А ты открой-открой, там ведь не только от нас подарки. Там еще и Зинаида твоя гостинцев положила, порадовать тебя, мудака.
– Да идите вы со своей посылочкой! – прорычал старик.
– Деда, ну что ты опять за старое, а? Приехал бы уже давно, и дело с концом. Ты же наш, весь наш, с потрохами и дерьмом. И нужен ты только нам. Приезжай, давай, не тяни кота за яйца, они у него не резиновые. – В этот раз Маринка не смеялась, и хриплый лай Натки стал слышен отчетливее. Старика передернуло от отвращения, когда он представил младшую внучку, ее бледную кожу с трупными пятнами. – Деда? Ты меня слышишь, деда?
– Слышу, слышу. – Он утер рукавом рубашки выступившую на лбу испарину.
– Ладно, деда, не будем тебя больше сегодня тревожить, так и быть. Можешь выпить водочки, развернуть, не спеша, гостинцы и подумать о переезде. Целую, дедуля, пока! – И она положила трубку.
Теперь они стали звонить каждый день. Звонили утром, когда он был в ванной. Звонили в обед, отрывая его от еды. Звонили ночью, когда он уже спал, но все равно вставал, разбуженный назойливым телефоном. Они говорили с ним такими родными и привычными голосами, и каждый раз теперь на фоне звучал надсадный нечленораздельный хрип Натки. А потом ему позвонила Зинаида.
– Алло, Коленька, родной, слышишь меня? Коленька? – от звуков ее голоса, такого близкого и любимого, на глазах у старика выступили слезы. – Коленька? Слышишь? Коля, ну приезжай уже, в конце-то концов. Столько баб тебя уговаривать еще должны. Приезжай, родной, я соскучилась по тебе безумно. Мы тут с тобой отдохнем, наконец, как в молодости. Тут такая зима чудесная, Коленька! Природа, воздух свежий, снежок чистый, не то, что в городе! Будем баньку топить да в снег прыгать! Мы же с тобой вместе этого хотели! Ты же сам, Коля, говорил: детей, мол, на ноги поставим, и уедем в деревню старость доживать. Коленька, милый, приезжай, я заждалась уже. Летом будем каждый-каждый день на озеро ездить на велосипедах, на пляже загорать! Помнишь, как тогда, в Гаграх? Когда я обгорела на второй день, и ты потратил треть получки, купил мне платье закрытое, чтоб солнце не напекало. Как сейчас помню: атласное платье, изумрудного оттенка, болгарское! Дорогущее же было! Я тогда тебя ругать начала, что ты столько денег-то на тряпку ухайдакал, а ты сказал, мол, ничего страшного, зато я теперь самой красивой у тебя буду. Это ведь мой любимый подарок от тебя был. Помнишь, Коленька? Вот было время-то, а? Чудесное время. Приезжай, давай, не томи, сколько можно тебя упрашивать. Приезжай, любимый. Скучаю сильно-сильно. Да мы все тут по тебе скучаем. И по деткам нашим я соскучилась. На днях Виталику звонила, а его, видать, дома не было, так трубку Алешка взял. До чего славный мальчонка растет, хочу я тебе…
– Что ты сказала? – перебил ее Николай Савельевич. – Повтори! Что ты сказала?
– Как что… – растерянно залопотала Зина. – Виталику, говорю, звонила… С Алешкой пообщалась. Тоже в гости звала. Он сказал, что скучает по мне и по девчонкам…
У старика на секунду перехватило дыхание, но он дрожащим от ярости голосом выдавил сквозь сомкнутые зубы:
– Как ты смеешь звонить моим детям? Ты…
– Знаешь, что, Николай?! Это такие же мои дети, как и твои, понял? Я их вынашивала, я их рожала, я с ними сидела, я их воспитывала. И я буду им звонить. Да и еще, – за ее елейным голосом в трубке снова послышался хриплый вой Наточки. – Я ведь и им посылку собрала. То же, что и тебе. На днях вышлем. Так что, Коленька, лучше приезжай ты. А то Алешка побольше твоего скучает. Его уговаривать долго не придется.
– Ты что? Ты не понимаешь? Ему же всего десять!
– Ну и что, Николай. Ну и что, что десять. Девочкам, вон, тоже одной семь, другой девять. С ними и будет дружить. Так что решай уж, наконец. Глава семьи, тоже мне, – и она положила трубку, а старик остался стоять в темном коридоре один, окруженный безмолвными тенями, слушая гулкие гудки на линии и удары дождя по стеклу.
Сын сказал, что им звонили, когда ни его самого, ни жены дома не было – только маленький Алешка вернулся со школы, и именно он ответил на звонок. Мальчишка обмолвился, что звонили, но кто это был, наотрез отказался отвечать, не поддаваясь на уговоры родителей. Большего Николаю Савельевичу ждать не было ни нужды, ни сил, и он собрался за два дня.
На рынке взял консервов в дорогу, отварил яиц и завернул в фольгу курицу, запеченную в дышащей на ладан духовке. Вымыл накопившуюся посуду и аккуратно сложил ее в шкафчик над раковиной. Подмел везде пыль растрепавшимся веником, ссыпал ее в мусорный пакет и отнес его к переполненной урне во дворе.
Радио, так и лежавшее в углу кухни, он бережно подобрал вместе с разлетевшимися осколками и деталями, сложил в шкатулку, сколоченную из фанеры, и ранним утром, еще до рассвета, понес за дом. Там, зябко кутаясь в бушлат, перешел узкую дорогу, пробегавшую под его окнами, и спустился по косогору к бурной речке, так и не замерзшей в морозы. На обледенелом берегу он долго стоял, глядя на бурлящий перекатами поток, держа радио в руках перед собой, потом прошептал ему что-то, прощаясь, и отправил своего последнего друга в плавание вниз по течению. Стремнина подхватила шкатулку, закрутила ее в пенном водовороте, но, перенеся через шипящий порог, выровняла на середине русла и уже более бережно повлекла к закованному в лед океану. Старик долго смотрел вслед шкатулке, пока она не пропала из виду, а после этого, понурив голову, поднялся к рокочущей грузовиками грунтовке и вернулся в дом.
Из шкафа, где хранились их с Зинаидой вещи, старик извлек свой побитый молью костюм, застиранную рубашку и галстук, который он надевал трижды в жизни: на свою свадьбу, на день рождения сына и на похороны жены. Николай Савельевич сложил вещи на кровати и встал над ними, затаив дыхание, как пловец, готовящийся к прыжку с вышки. На улице в затянутом облаками небе проклевывалось солнце. Холодный утренний свет падал внутрь между тяжелыми бордовыми шторами, и старик стоял, завороженно глядя на танец пылинок, выпорхнувших из шкафа в комнату. Сквозь тюль он видел дом напротив. В одном из окон, в свете праздничных гирлянд молодая пара вручала подарок маленькой дочке. Девочка развернула обертку, заглянула внутрь и радостно засмеялась, и через закрытое окно Николай Савельевич словно услышал столь ненавистный ему всегда смех. Что-то неведомое наполнило его грудь, раздвигая ребра и заполняя легкие, что-то, давно забытое и похороненное под годами серости и одиночества, расправило в нем крылья, и впервые за много лет старик улыбнулся, глядя на соседей.
Он облачился в костюм, медленно и вдумчиво застегивая каждую пуговицу. Закрывая дверцу шкафа, мельком увидел уголок атласного платья, про которое говорила Зинаида. Болгарское, густого изумрудного оттенка. Повинуясь сиюминутному порыву, он вытащил его из-под груды других вещей покойной жены и втянул ноздрями исходивший от него запах. От ворота и разреза на груди даже после стольких лет по-прежнему пахло ее духами. Запах был слабый, он почти выветрился, соскользнул с мягкого атласа и осел вместе с пылью по темным уголкам шкафа, но Николай Савельевич чувствовал его, как и много лет назад, и потускневший мир вокруг него распустился на секунду красками молодости. Платье он аккуратно сложил и убрал на самое дно брезентового вещмешка, сверху поместил присланную родственниками посылку, чтобы ее случайно не обнаружил сын, когда придет искать его. В самом верху он уложил провизию на пару дней и пристроил стоймя вдоль правой стенки рюкзака топорик, после чего перетянул горловину потрескавшимся кожаным ремешком, обул начищенные до блеска туфли, натянул на глаза козырек кожаной кепки с ушами, надел полушубок, закинул вещмешок на плечо и вышел из квартиры. Ключ занес соседу напротив и попросил передать сыну, когда тот приедет. Вышел из темного пропахшего подъезда в хмурый, морозный день и направился по медленно пробуждающимся пустым улицам к железнодорожному вокзалу.
В темном здании вокзала его подхватил шумный людской поток мужиков из деревень с тяжелыми мешками на плечах, женщин с маленькими ребятишками, таксистов, сверкающих золотыми фиксами, и шумных смеющихся цыган. Этот водоворот покрутил его по залу и вынес, посмурневшего и матерящегося сквозь зубы к кассе. Он купил один билет на ближайший поезд на запад и стал пробираться к выходу.
На перроне Николай Савельвевич остановился, пропуская гомонящую вереницу других отъезжающих, отмахнулся от женщины, попытавшейся продать ему не то чебурек, не то кроссворд, и подкурил выуженную из купленной у вокзала пачки беломорину. Горький дым заполнил рот, проник в легкие, и Николай Савельевич с непривычки разразился приступом кашля. «С Зинкиной смерти ведь не курил, подольше пожить хотел», – мелькнула ехидная мысль, и старик горько улыбнулся. Сделал еще пару затяжек, бросил бычок на рельсы и зашагал к подошедшему, нетерпеливо шипевшему поезду, на ходу доставая билет.
Уже через полчаса он сидел на жесткой шконке и выуживал из рюкзака свои скудные припасы. Проводница, заглянувшая в купе, предложила постельное, но он вежливо отказался. Денег с пенсии оставалось совсем чуть-чуть, и последний свой путь можно проделать без особого комфорта, не страшно. Разложив вещи, он сел у окна и стал смотреть, привычно подперев кулаком подбородок, на медленно поплывший мимо пейзаж. Сначала побежал заснеженный перрон, потом изрисованный бетонный забор. За забором лениво чадили трубы завода. А потом за окном потянулся лес. Вековые деревья, белые и недвижные, стояли вдоль рельсов плотной стеной. Лес мелькал за окном час, другой, третий, а старик все так же сидел, глядя на него и словно сквозь него, все силясь увидеть что-то затерянное за густыми макушками в далеких туманных годах его молодости.
Прошла уже неделя, как не звонили. Каждый раз Алешка приходил домой и первым делом бежал в комнату к телефону, чтобы снять трубку и положить ее на стол. Так не дозвонятся. Бабушка не будет уговаривать его приехать, если он снимет трубку до того, как она позвонит. Ему не говорили, но он знал: бабушка давно умерла. Он тогда маленький был совсем и почти не помнил ее, но теперь она позвонила и позвала его в деревню, а он с испугу согласился. По ночам, вспоминая этот звонок, Алешка зябко заворачивался в пуховое одеяло и подтягивал его края под себя, чтобы ненароком не выскользнули наружу пальцы ног, коленка или рука. Просыпался он, как и любой другой ребенок, разметавшись по кровати, уже без одеяла, и каждый раз обещал себе, что этой ночью не будет ворочаться. Но попытки совладать с собой во сне были бесплодны, поэтому ему оставалось только радоваться, что не проснулся ночью. Алешка был уверен, что если проснется в темноте, а одеяла не будет, он просто умрет от страха. Родителям он не мог сказать о бабушкином звонке, и на папины вопросы просто упрямо мотал головой и пожимал плечами. Отец тогда как-то грустно посмотрел на него, спросил, в кого же он такой упертый растет, и, не дожидаясь ответа, оставил его одного делать уроки. И с тех пор Алешка приходил домой, закрывал за собой дверь и, не скидывая рюкзак, обутый бежал в комнату, где стоял телефон, снимал с него трубку и клал рядом. Только после этого он мог спокойно раздеться, разуться и идти греть приготовленный мамой обед, закинув рюкзак в угол комнаты.
Сегодня он задержался после школы – Витька из «Б» класса и Саня с пятого уговорили его пойти с ними на стройку. Там они побросали портфели и долго лазили по грязным и местами подтопленным помещениям, играя в бандитов и Шварценеггера. В итоге Саня подвернул ногу и побрел домой, хныча и подволакивая ступню. А вдвоем играть было скучно, поэтому они с Витькой тоже попрощались и разбрелись. На пути к дому, в заснеженном сквере Алешка заметил, что у него вымазан рукав – обтерся все-таки об изрисованную мелом стенку – и припустил уже бегом, чтобы успеть промыть пуховик под краном в ванной и высушить на батарее, а то уж больно неохота было получать нагоняй от мамы. А нагоняй был бы неизбежен – пуховик новый совсем, Алешке его папин друг привез из Америки, так что мама могла бы очень расстроиться, а то и разозлиться. Это папа добрый – посмотрит с прищуром, поцокает языком, потреплет небрежно по вихрастой голове, а после улыбнется и простит. Так много раз было: и когда Алешка джинсы новые порвал, и когда колонки японские сломал – продавил пальцем динамик, а тот порвался – и много еще когда, всего и не упомнишь. А мама не такая – как начнет причитать, а там и до ругани недалеко. Все грозится выпороть его, но Алешка-то знает, что не выпорет, она же его любит. А вот ругаться будет, и он не хотел огорчать маму.
Залетев маленьким разгоряченным вихрем в квартиру, он метнулся в ванную, кое-как покидав ботинки в прихожей и стягивая на ходу куртку. Включил воду, нашарил под ванной щетку, натер ее смоченным мылом и принялся тереть цветные разводы на рукаве и на спине. Он увлекся занятием, мел кое-как поддавался, хотя щетку постоянно приходилось снова мылить. Сперва с куртки бежала желтая, розовая и синяя пена, но она постепенно светлела, и дело шло к концу. Алешка раскраснелся, то и дело утирал пот со лба и от усердия даже высунул кончик языка. И когда он уже собирался промыть щетку от мыла и выключать воду, в комнате зазвонил телефон. Щетка выпала из рук вместе с курткой. Снова звонок. Алешка на цыпочках вышел из ванной и заглянул в комнату. Телефон мелко трясся на столе, не переставая трещать. А может, это не бабушка? Он уже неделю обводил ее вокруг пальца, и она, должно быть, уже сдалась, он сам на ее месте точно не стал бы звонить, если бы неделю не мог дозвониться. Да точно не бабушка. Она звонила раньше, в два, а уже четыре. Значит, не она. Наверное, папин друг, дядя Толя, они же договаривались с папой сегодня встретиться и поехать вместе к дедушке, посмотреть, что с ним, а то он трубку не берет. А может, и сам дедушка. Алешка любил деда, тот всегда был ласков с внуком, несмотря на свою вечную сварливую ухмылку и колючий взгляд. Мама говорила, что дед такой злой специально, чтобы его не тревожили, и Алешка был с ней согласен во всем, кроме одного – дед и злым-то не был, просто старым, а старые все такие. Наверное.
Тяжело вздохнув, Алешка прошлепал мокрыми ногами по полу и замер у стола, протянув руку к телефону. Когда очередной звонок оборвался, и повисла секундная пауза, он снял трубку и поднес к уху.
– Алло? Кто это?
– Алешенька, это ты, злодей? Привет! Соскучился, небось, а? С Рождеством тебя! – заскрипел в трубке знакомый голос.
– Дедунь, это ты? Я не злодей, сам злодей! С Рождеством! – радостно засмеялся Алешка, и на другом конце провода мертвенно-синие губы, покрытые крошками сырой могильной земли, растянулись в улыбке.
За шторами
Один и тот же ублюдочный тягучий сон каждую ночь. Раз за разом.
Я, Санжар и рыжая у меня в квартире. Зеленые стены, расправленная кровать, окно нараспашку. Во сне губы шевелятся, но ни слов, ни звуков нет, кроме смутного шороха на границе сознания, как будто скребут обломанные ногти по паркету.
Саня с рыжей проходят в спальню, раздеваются, я смотрю на них в приоткрытую дверь. Санжар кидает вещи на сушилку возле кровати, девушка сбрасывает платье на пол. Она ложится на спину и раздвигает ноги. Меня не покидает назойливое ощущение, что не я один смотрю этот сон. Будто еще пара глаз жадно наблюдает за соитием. Рыжая что-то говорит, но вместо слов – лишь ногти по паркету и хриплое дыхание. Я захожу к ним. Санжар отводит взгляд, пока я стягиваю с себя футболку. Внезапно, как по команде, их взгляды устремляются в коридор.
Рыжая встает, укутывается в одеяло и растворяется в полумраке прихожей. Санжар темнеет лицом. Молчит. Он всегда молчит в этом сне. Возвращается Рыжая, за ней двое в полицейской форме. Один коренастый, крепко сбитый. Второй длинный, нескладный, с запавшими глазами. Питбуль и Аист. Что-то говорят, я вижу шевеление их бледных губ. Тяжелое надсадное дыхание за спиной, откуда-то из-за штор. Щелканье, перестук костей по полу. Менты подходят к Санжару вплотную, длинный держит руку на кобуре. Второй обманчиво расслаблен. Санжар неуловимо скользит вперед, разрывая дистанцию. Короткий страшный удар и Питбуль оседает с перебитым кадыком. Держится за горло, жадно пытается глотнуть воздух, пунцовое лицо глупое, как у ребенка. Длинный не успевает достать табельное. Санжар хватает его руками за голову и, подпрыгнув, бьет коленом в подбородок. Брызги крови. Поднатужившись, Санжар скручивает шею полицейскому. Питбуль уже почти не шевелится, лишь слегка подергивается левая нога.
Рыжая сидит на кровати, отстраненно глядя на происходящее, а мы волочим тела в коридор. На штанах Аиста расплывается пятно, и даже во сне я чувствую острый запах мочи. Все молчат. За шторами тишина. Таится, выжидает. Санжар вытаскивает ПМ из кобуры длинного и возвращается в комнату. Я следом, растерянный и напуганный. Меня омывает прибой жаркого страха, паники и растерянности. Санжар одевается, стоя спиной ко мне, и я пытаюсь заговорить с ним, спросить, что делать дальше, но вместо слов лишь скрип по паркету и стучащие косточки. Санжар не отвечает, и я шагаю к нему. Рыжая сидит, не шевелясь. Я замолкаю – эти ногти будто застряли у меня в горле. В пульсирующей тишине Санжар застегивает олимпийку, поворачивается ко мне и стреляет в упор. Удар в нижнюю челюсть, меня отбрасывает назад, падаю на спину. Кое-как переворачиваюсь. Подо мной кровь. Она тянется длинными лоскутами вниз, где расползается ручейками и озерами по обшарпанному полу. В крови плавает белое – осколки костей. Там, где был рот, горячо и мокро. Сознание захлебывается в волнах паники. Я вою, слезы бегут по щекам. Ползу вперед, туда, где темнеет окно. Тяжело ползти. Локти скользят в крови. Сколько же ее во мне? Если хватит сил взобраться на подоконник и вывалиться на улицу, кто-нибудь вызовет скорую. Но я знаю, что не хватит, и все равно ползу. Горячее и соленое попадает в горло, я захлебываюсь, кашляю. Удар в лопатку. Удар в позвоночник. Руки обмякают. Голова падает на пол в липкую лужу. Может, я еще выживу, люди и после худшего выживают. Господи, как не хочется умирать – хоть инвалидом, прошу тебя, дай мне жить. Три удара в поясницу, и свет, за который я отчаянно цепляюсь, тухнет. Последнее, что вижу – это колышущиеся шторы, за которыми хрипит жадное дыхание, скребут по дереву обломанные ногти и едва слышно перестукиваются гнилые кости. То, что таится за шторами, готовится выползти и слизать мою кровь с пола, когда все утихнет.
Просыпаюсь в поту. В комнате душно и стоит кислый запах страха. Светает. В окно лениво стучит ветка одинокого тополя. Уже две недели один и тот же сон. Две недели после него каждый день как в бреду.
Финальная часть сна каждый раз отличается от предыдущего. Бывает, что менты убивают Санжара, а потом и меня. Бывает, что Санжар убивает одного из них, а его самого и меня убивает второй. Бывает, что после того, как Саня разбирается с полицейскими, я убиваю его, но мне перерезает горло рыжая. Отличаются детали, но концовка всегда одна: я лежу на полу, истекая кровью, а темнота за шторами скрежещет и шумно втягивает воздух невидимыми ноздрями.
Несколько раз я пытался разобраться со своей паранойей, раздвигал шторы днем. Моему взору не представало ничего, кроме коленчатого радиатора, труб подачи и обратки да свалявшейся серыми клоками пыли на полу. Вечером заглянуть так ни разу и не решился. Чуть раздвигал шторы на ширину ладони, чтобы видеть фонарь во дворе, и открывал окно еще до наступления темноты. Шумы и шорохи улицы заглушали преследующие меня звуки.
После первой недели кошмара я снял запыленные шторы и сложил их на полу у шкафа. Той же ночью проснулся от удушья. Нечто тяжелое, почти видимое глазу, выползло из теней, скопившихся в углах, и мягко, по-кошачьи забралось на кровать. Я проснулся от того, что не мог вдохнуть. Не то чувство, которое многие суеверные списывают на домового, когда давит на грудь и тяжело дышать, – вовсе нет. Я чувствовал, как на моем горле смокнулись костлявые пальцы, длинные настолько, что полностью обхватили шею. Такое мне доводилось испытывать лишь дважды в жизни: в детстве при приступе астмы и четыре года назад, когда конкуренты из бурятской ОПГ в кооперативном гараже вздернули меня под потолок. В первом случае помогли родители, во втором Санжар с парнями. Тут же помощи не было и быть не могло. Оно выдавливало из меня жизнь, в глазах моих темнело, и я с трудом мог различить бесформенный силуэт над собой, лишь чувствовал холодное смрадное дыхание да костлявый хомут на шее. Когда меня отпустили, и темная пелена забвения спала перед глазами, я увидел шторы, слегка подрагивающие, как всегда, на гардине. Предупредила, тварь. Или предупредило. Я не знаю, как правильно.
Позавчера, отчаявшись, развесил на дверных косяках и оконной притолоке костяные амулеты, накопленные за годы жизни. Часть осталась от матери, часть была из перехваченных партий, шедших на черный рынок в Приморье. Какие-то были сняты с тел конкурентов. Один, мой личный, – маленький птичий черепок с вытравленными рунами – я привез со службы на границе с Суритском, самым сердцем растекающейся Мглы. Наутро обнаружил все, кроме моего, обугленными и в под бурых разводах плевков. Не поможет. Сны продолжались. Истончилась надежда, что это лишь последствия героина. Можно было позвать православного священника, как это делают многие по старой привычке, но слово служителей Божьих утратило свою силу в заклейменном порчей мире. Если вообще когда-либо имело ее. Можно было обратиться к служителям расплодившихся культов Мглы, ячейки которых наливаются жизнью чуть ли не в каждом дворе. Дать им плату кровью, чтобы вычистили жилье. Но это привлекло бы ненужное внимание.
Когда торгуешь наркотиками и оберегами от Мглы в особо крупных объемах, трудно устоять перед соблазном: через твои руки проходит все, что только есть на рынке, и практически любой рано или поздно рискнет попробовать. Когда долго сидишь на наркоте, попутно обвешиваясь талисманами, чтобы заглушить голоса в голове, неизбежно наступает момент, когда ты решаешь соскакивать. Обычно это решение приходит, когда перестает работать перегруженная защита из заговоров, ритуалов и крови. А когда соскакиваешь, всегда тяжело. Бессонница мучает, а если и спишь, то урывками, и сны мутные. Галлюцинации от недосыпа. Паранойя. Постоянный холодный липкий пот. Сушняк, который никак не сбить. Сонм шепотков, неустанно преследующий тебя день и ночь. Они есть всегда, но когда ты расшатан долгими отходняками, то становишься легкой добычей для того, что ждет тебя за гранью, за тонкой стеной, выстроенной твоим сознанием. Тяжело всегда, без исключения. Это моя третья попытка за пять лет, но раньше так жестко не было. Все две недели завязки один и тот же кошмар, реалистичный, будто и не кошмар это, а яркое воспоминание из прошлого. И руки. Руки во сне нормальные. Так не бывает. Когда в детстве мне снился страшный сон, я всегда первым делом смотрел на руки, и они были какие угодно, только не обычные, человеческие. А в этом сне мои руки. Со шрамами на костяшках, с наколками на пальцах. Постепенно стал бояться резких звуков. Пугаюсь каждого движения, внезапно пойманного периферийным зрением. Боюсь подходить к шторам. Даже сейчас, после пробуждения, мне кажется, будто оттуда на меня смотрят. Будто скребут в нетерпении ногти где-то там в темноте. И один этот тихий звук заставил заткнуться голоса тысяч душ, увязших во Мгле.
Две недели не видел Санжара, своего лучшего друга. Только во сне. В день аварии он привез меня в эту квартиру, доставшуюся ему от матери по наследству, и сказал, что все решит, а мне надо сидеть и носа на улицу не показывать лишний раз. И пропал. А я полностью на него положился, больше ничего не оставалось Санжар старше меня на четыре года, но мы с самого детства вместе, если не считать периодов моей службы в армии и его отсидки. Две противоположности. Я – высокий и здоровый, всю жизнь занимался борьбой. Никогда по мне не скажешь, что я торчу и ставлюсь по четыре раза в день. Санжар ниже меня на голову, сухой, увитый жилами каратист. Он всегда предельно серьезен, а у меня, по его словам, до сих пор детство в жопе играет. И, судя по его звонку в пять утра, доигралось.
Он уже ждет меня у подъезда в машине. Позвонил практически сразу, как я проснулся. Молчалив и сосредоточен, как всегда. Мы едем в тишине по пустынным улицам, за окном мелькают запыленные деревья и позеленевшие от сырости дома с черными пастями подворотен. Правый кулак у Санжара сбит, под ногтями земля. Ничего не спрашиваю, сам расскажет. Минут через десять, когда я уже близок к тому, чтобы задремать, он нарушает молчание:
– Когда последний раз ставился? – голос безучастный и тихий.
– Две недели назад.
– Врешь? – хорошо хоть не утверждает, просто интересуется.
– Нет, Санжар, отвечаю.
– Тяжело соскочил?
– Да без особых проблем.
Почти не вру. Если сны не считать, слез легко.
Ближе к центру на улицах видно первых людей, пионеров этого заспанного мира – дворников и бомжей. В мусорных баках копошатся кудлатые псы.
– Тебе снятся кошмары? – спрашивает Санжар.
Мне сперва кажется, что я ослышался. Переспрашиваю:
– Что?
– Кошмары тебе снятся, говорю? – Даже не поворачивается ко мне, не отводит взгляда от дороги.
– Всем снятся.
– Мне никогда не снились.
– Не снились, а сейчас снятся?
Санжар машинально очерчивает рукой защитный знак. Молчит, словно думает, говорить или нет.
– Я, когда сидел, очень много читал. Делать там больше нечего, вот и брал в тюремной библиотеке одну книгу за другой. Все подряд читал. Фантастику, классику, психологию, биологию, по медицине что-то даже было – все, в общем. И в одной из книг попалась мне такая мысль, что наши сны – это отражение подсознания. Страхов, там, переживаний. Знаешь же, что такое подсознание?
– Знаю. Не тупой.
– Ну мало ли, вдруг у тебя за пять лет мозг в кисель расплавился. Так вот, мое подсознание уже две недели выдает мне один и тот же сон с разными вариациями. Бывало у тебя такое?
– Нет, не бывало, – очень надеюсь, что голос мой не дрожит.
Санжар пристально смотрит на меня. Взгляд оценивающий, будто нащупывает цепкими глазами что-то у меня под кожей и костями.
– И у меня раньше не бывало. А теперь есть. И снится мне каждую ночь, что я тебя, Игорян, убиваю. Холодно и бесстрастно, будто и не знакомы мы столько лет. Как думаешь, откуда такое в моем подсознании?
Пожимаю плечами. Не смотрю в его сторону. Нельзя, чтобы он увидел мой испуг. Нельзя, чтобы понял, что я знаю. Откуда такое в нашем подсознании? В его. В моем.
– Не знаешь, – продолжает он. – А я знаю. По крайней мере, догадываюсь. Устал я за тобой дерьмо убирать. И это последний раз, когда я тебе такой добряк делаю. Понял?
– Понял.
– Вот и славно.
На секунду мне кажется, что я слышу стук костей, но Санжар включает радио. За вокзалом сворачиваем на кольцевую, а оттуда – на гудящую фурами трассу. Я приоткрываю окно, чтобы покурить, и веселый, жизнерадостный голос радиоведущего растворяется в предрассветной серой дымке. Один лишь раз вздрагиваю от испуга, когда принимаю обгоняющую нас машину за огромного механического паука, клацающего сочленениями и поршнями, гудящего натруженным дизелем. Сказывается двухнедельный недосып. Санжар неодобрительно косится. Трудно поверить человеку, что он не торчит, когда у него круги под глазами, как две чашки с кофе.
Съезжаем с трассы на проселок под сень разлапистых лиственниц. Дорога идет в сопку, и мы крадемся по киновари опавшей хвои. На середине подъема Санжар сворачивает в лес, и солнце окончательно скрывается от наших глаз. Метров через двести останавливает машину за кустами орешника, осматривается и удовлетворительно кивает своим мыслям.
– У меня для тебя подарок. Пойдем.
Выходим из машины, и кроссовки утопают в податливом мху. Так давно не был на свежем воздухе, что с непривычки кружится голова и слабость в ногах. Над головой вскрикивает ворона и срывается в густую синеву неба. Качаются потревоженные ветви. В ноздри бьет влажный аромат стланика. Впереди небольшая прогалина, окруженная березняком, на краю которой высится куча черной земли с воткнутой лопатой. Санжар направляется туда, а я застываю, как вкопанный. Он уже на поляне, машет мне рукой:
– Подходи, не бойся. Не для тебя могилка, – и, довольный, смеется своей шутке.
Осторожно подхожу к прогалине. На ветвях вокруг развешаны сигнальные обереги. Уверен, что более широкий периметр окружен оберегами отводящими, чтобы не забрел сюда случайный грибник. Санжар ногами разбрасывает в стороны прелую листву у основания кучи и поднимает кроющийся под ней грубо сколоченный деревянный щит. Тяжелый запах сырой земли. Под щитом яма, выкопанная в жирном черноземе. Метра два глубиной. Я не сразу различаю в груде окровавленного, грязного тряпья на дне ямы два человеческих тела. Санжар с любопытством наблюдает за моей реакцией. Ледяной патокой льется его тихий голос:
– С днем рожденья.
– У меня в апреле, – и только потом понимаю, как глупо звучат мои слова. – Твою мать! Что это?
Рябое лицо Санжара на секунду искривляется в ухмылке:
– Сегодня второй будет. Я бы на твоем месте отмечал, – он откидывает щит в сторону. – Люди Адама. Они тебя караулили у подъезда. Машину их я сжег. Сами – вот они. Можешь не благодарить.
Я лишь качаю головой:
– Саня… Ты зачем их грохнул? Мы же с Адамом нормально работали. Нам же хана теперь! – в моей голове уже строятся и рушатся один за другим планы бегства из города.
– Хана была бы, если бы они тебя приняли утром по дороге за пивком. Адам про сестру узнал.
– Он нас обоих теперь за яйца подвесит! Это же Анзор?
– Да, и братик его.
Племянники Адама. Нам конец.
Можно свалить в Читу, можно в Бурятию. И там, и там быстро возьмут. Буряты с Адамом плотно завязаны, как и читинские, укрыться не получится. Можно в Кызыл проскочить, если заранее связаться с людьми – у Санжара там были близкие.
Санжар отвлекает меня от размышлений:
– Это не все. Пойдем.
Возвращаемся к машине. Я еле передвигаю ногами, о стенки черепа хаотично колотятся мысли, в груди полыхает пожарищем страх. Можно попробовать рвануть в Иркутск. А там что? Я там никого не знаю, кроме шелупони всякой. Можно перекантоваться пару дней, в принципе, но придется дергать дальше. А куда? В Приморье? Или в сторону Москвы? По дороге на Москву точно примут, за Урал перевалить не успеем. Значит, Приморье или Хабаровск. В Хабаре у меня сослуживцы были, можно попробовать там осесть. Паспорта намутим. Все заново. А если и там достанут? Мир перед глазами идет паутиной трещин и начинает медленно и неотвратимо сыпаться. Санжар открывает багажник и манит меня рукой:
– Иди, поздоровайся.
В багажнике, весь в синяках, ссадинах и потеках крови, лежит связанный серым скотчем Адам. Он бешено вращает белками глаз и начинает дергаться, как в припадке, когда видит меня. Еще бы. Я бы и не так бесновался.
– Смотри-ка, он тебя узнал, – Санжар смеется.
– Да уж вижу.
Адам мычит, бьется о стенки багажника, пока Санжар не говорит ему:
– Угомонись! – После этой короткой команды, брошенной тихим, как шелест веток над головой, голосом, связанный замирает. Кролик перед удавом.
– Давай, берись, вытащим его.
Мы вытягиваем Адама и ставим на ноги. Санжар указывает пальцем на водительскую дверь:
– Там сбоку в двери нож лежит, принеси, на ногах скотч разрежем.
Пока я иду за ножом, Санжар достает из багажника монтировку, и я слышу за спиной три резких хлестких удара и неприятный хруст. Возвращаюсь с ножом. Адам валяется на земле и ревет, как медведь. Санжар наступает ему на голову, вдавливая лицом в мох:
– Заткнись! Заткнись, сука!
На штанине Адама в районе колена расплывается бурое пятно.
– Так не убежит, если что, – разрезая скотч, говорит Санжар. – А бегать он мастак – от меня в окно сиганул, еле догнал его в сквере.
– Саня, что мы творим? Нахер ты его-то взял? Нам теперь точно не жить, понимаешь? Вся диаспора на уши встанет.
– Мы делаем то, что необходимо. Они пока очухаются, что к чему, пока власть делить будут, нас и след простынет. Следы заметем. Будем защиту менять, как перчатки – так и уйдем. Адам тебя убить собирался. Те двое привезли бы тебя к нему, так же в багажнике и связанным, а он бы тебя на ремни порезал. После того, что с его сестрой по твоей вине случилось, это тебе гарантировано было.
– Саня, ну там же несчастный случай был!
Санжар подходит ко мне вплотную, снизу-вверх пристально глядит в глаза:
– Несчастный случай, Игорян, это когда ты едешь после работы домой к семье, а в тебя на трассе врезается угашенный амбал. А когда ты и есть этот угашенный амбал, обнюхавшийся и обколовшийся товара вместе с сестрой того, кто дал тебе его на продажу, то это не несчастный случай, а косяк. И за такие косяки спрашивают по всей строгости. Особенно, если ты работаешь на ингушей. Пошли.
Он пружинисто поднимается на ноги, поднимает Адама и тащит его, подволакивающего кровоточащую ногу и тихо вскрикивающего сквозь скотч, к чернеющей могиле на залитой солнцем прогалине. На ходу продолжает:
– Помнишь, Игорь, когда я откинулся? Когда тебя в дело привел? Сразу же тогда сказал, что дело рисковое, что нужно аккуратно все мутить и без глупостей. Ювелирно надо работать. А то аукнется. Ты тогда согласился, сказал, что готов на все. Я ж тебя из такой жопы вытащил, в люди вывел, а ты меня так подставляешь. И сам подставляешься. Не будь ты моим другом, закопал бы тебя вместо этих. А так, раз ты на все готов, вот тебе выход из ситуации, – он ставит Адама на колени на краю ямы так, чтобы тот видел тела на дне. – Адам? Адам! Ты меня слышишь? Узнаешь Анзора с братом?
Тот угрюмо кивает в ответ.
– Так вот, Игорян, выход такой. Убей его, и свалим на пару месяцев в Кызыл к Белеку, он нам поможет, укроет на время. За ним должок висит мне за те фуры отжатые. Отсидимся в комфорте, пока тут передел территории идти будет. Вали его, как хочешь. Есть нож, есть бита, есть монтировка. Тут неподалеку ручей, отмоешься потом.
– Да как так… Нет другого выхода?
Твою мать, твою мать, твою мать! В ушах отбойником лупит пульс.
– Я мог бы сам его грохнуть, но уже и так поработал, – Санжар кивает на яму. – Да и сколько можно жопу тебе подтирать? Давай, не церемонься, гаси его.
– Я не о том, Саня. Может как-то можно… Ну, я не знаю.
Я действительно не знаю. Ситуация патовая. Хоть есть, куда валить. Но, черт возьми, как так? Просто взять и убить человека, связанного к тому же. Всякое бывало, но такое… Санжар словно читает мои мысли:
– В живых его оставить хочешь?