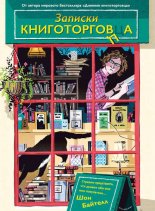В краю непуганых птиц (сборник) Пришвин Михаил
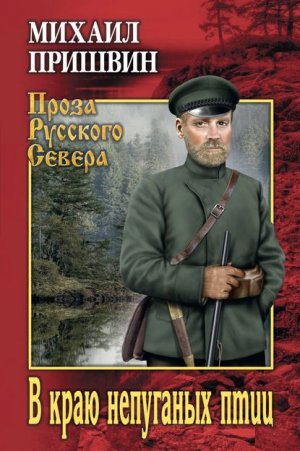
© Пришвин М.М., наследники, 2019
© ООО «Издательство „Вече“», 2019
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019
В краю непуганых птиц
(Очерки Выговского края)
На угоре
(Вместо предисловия)
Мох и мох, кочки, озерки, лужицы. В сапогах вода, свистят, как старые насосы, сил нет вытаскивать их из вязкого болота.
– Подожди, Мануйло, устал, не могу. Далеко ли до леса?
– Теперь недалёко, вон лес, смотри через сухую сосну. Видишь? Да вон там черная сосна, громом разбило. Там и лес.
Торчит деревце, небольшое, ниже Мануйлы, и на всей моховине деревья ниже Мануйлы, он кажется огромным.
Остановились усталые. Лайка, тоже заморённая, так и пала на месте, тяжело дышит, высунула язык.
– И так всю жизнь, – говорит Мануйло, – всю жизнь по мхам да лесам. Идешь, идешь, да и свалишься в сырость и спишь. Собака, бедная, подбежит, завоет, думает – помер. А отлежишься и опять зашагаешь. С моховинки в лес, из леса на моховинку, с угора в низину, с низинки на угор. Так вот и живем. Ну, пойдем. Солнце садится…
И опять свистит сапог-насос. Навстречу нам лес посылает мелкие елочки, потом покрупнее, потом высокие сосны обступают со всех сторон. В лесу темнеет, хоть и коротка северная летняя ночь, а все же надо заснуть. Холодно, сыро. Мы раскачиваем сухое дерево, оно валится с треском, другое, третье. Тащим их на угор, укладываем рядом. На середине деревьев зажигаем сухие сучья. Костер разгорается. Черные стволы сосен становятся вокруг нас, чуть перешептываются вершинами, по-своему рады гостям. Мануйло снимает шкурки с убитых белок, кормит их мясом собаку, что-то бормочет ей.
– Да купи ты себе собачку, – говорит он мне, – без собаки нельзя.
– На что мне она, я живу в городе.
– А веселее с собачкой, хлебца ей дашь, поговоришь…
И гладит свою собаку широкой, грубой ладонью, пригибая упругие, острые, чуткие ушки.
– Ну, спи. Спокойно спи. Звирь подойдет, собака услышит, проснемся. Ружье поближе к себе положи. Змей тут нету, место сухое, спи спокойно. Проснешься – увидишь, что середка прогорела, сдвинь дерев и ложись. Спи спокойно, место сухое.
Снится страна непуганых птиц. Полунощное солнце – красное, устало, не блестит, но светит, белые птицы рядами уселись на черных скалах и смотрятся в воду. Все замерло в хрустальной прозрачности, только далеко сверкает серебристое крыло… И вдруг сыплются страшные красные искры, пламя, треск…
– Зверь! Мануйло, вставай, медведь, зверь! Скорее, скорее!
– Звирь? Где звирь?
– Трещит…
– Это дерево треснуло в костре. Надо сдвинуть. Да спи же спокойно, звирь нас не тронет. Господь его покорил человеку. Что тебе не спится, место сухое.
И насторожился… Что-то завозилось наверху, на ближайшей сосне, у костра.
– Птица шевлится. Верно, рябок подлетел. Ишь ты, не боится!..
Посмотрел на меня, сказал значительно, почти таинственно:
– В наших лесах много такой птицы, что и вовсе человека не знает.
– Непуганая птица?
– Нетрщенная, много такой птицы, есть такая…
Мы опять засыпаем. Опять снится страна непуганых птиц. Но кто-то, кажется, городской, хорошо одетый, маленький, спорит с Мануйлой.
– Нет такой птицы.
– Есть, есть, – спокойно твердит Мануйло.
– Да нет же, нет, – беспокоится маленький, – это только в сказках, может быть, и было, только давно. Да и не было вовсе, выдумки, сказки…
– Ну вот, поди ты говори с ним, – жалуется мне огромный Мануйло. – У нас этой птицы нет счету, видимо-невидимо, а он толкует, что нету. Обязательно есть такая птица. В нашем-то лесу да и не быть!
…
– Ну, вставай, вставай, солнце взошло. Ишь угрелся. Вставай! Пока солнце росу не угнало, птица крепко сидит, смирёная…
Я встал. Мы затоптали костер, вскинули ружья и спустились с угора в низину, в лесную чащу, в топь.
Вступление
От Петербурга до Повенца
Прежде чем начать рассказывать о своем путешествии в «край непуганых птиц», мне хочется объяснить, почему мне вздумалось из центра умственной жизни нашей родины отправиться в такие дебри, где люди занимаются охотой, рыбной ловлей, верят в колдунов, в лесовую и водяную нечистую силу, сообщаются пешком по едва заметным тропинкам, освещаются лучиной, – словом, живут почти что первобытной жизнью. Чтобы сделать себя понятным, я начну издалека: я передам одно мое впечатление из Берлина.
Как известно, этот город окружен железной дорогой, по которой живущим в германской столице приходится постоянно ездить и наблюдать из окна уличную жизнь. Помню, меня очень удивили рассеянные всюду между домами и фабриками маленькие домики-беседки. Возле этих домиков на земле, площадью иногда не более пола средней комнаты и окруженной живою изгородью, с лопатами в руках ковырялись люди. Странно было видеть этих земледельцев между высокими каменными стенами домов, среди дыма фабричных труб почти в центре Берлина. Меня заинтересовало, что бы это значило. Помню, один господин тут же в вагоне, снисходительно улыбаясь этим земледельцам, как улыбаются взрослые, глядя на детей, рассказал о них следующее. В столице между домами всегда остаются еще не застроенные, не закованные в асфальт и камень кусочки земли. Почти у каждого берлинского рабочего есть неудержимое стремление арендовать эти кусочки, с тем чтобы потом по воскресеньям, устроив предварительно беседку, возделывать на них картофель. Делается это, конечно, не из выгоды: много ли можно собрать овощей с таких смешных огородов. Это дачи рабочих – «Arbeiterkolonien». Осенью, при поспевании картофеля, рабочие на своих огородах устраивают пир «Kartoffelfest», который оканчивается неизменным в таких случаях «Fackelzug».
Так вот как отводят себе душу эти берлинские дачники. От смысла дачи – средства восстановления сил, отнятых городом, посредством общения с природой, – в этом случае остается почти лишь мечта. Немного лучше и с нашими дачниками из мелкого служащего люда, ютящегося летом на окраинах городов. Теперь читатели меня поймут, почему, имея в своем распоряжении два свободных месяца, я вздумал отвести свою душу так, чтобы уже не оставалось тени сомнений в окружающей меня природе, чтобы сами люди, эти опаснейшие враги природы, ничего не имели общего с городом, почти не знали о нем и не отличались от природы.
Где же найти такой край непуганых птиц? Конечно, на Севере, в Архангельской или Олонецкой губерниях, ближайших от Петербурга местах, не тронутых цивилизацией. Вместо того чтобы употребить свое время на «путешествие» в полном смысле этого слова, то есть передвижение себя по этим обширным пространствам, мне казалось выгоднее поселиться где-нибудь в их характерном уголку и, изучив этот уголок, составить себе более верное суждение о всем крае, чем при настоящем путешествии.
По опыту я знал, что в нашем отечестве теперь уже нет такого края непуганых птиц, где бы не было урядника. Вот почему я запасся от Академии наук и губернатора открытым листом: я ехал для собирания этнографического материала. Записывая сказки, былины, песни и причитания, мне и в самом деле удалось сделать кое-что полезное и вместе с тем за этим прекрасным и глубоко интересным занятием отдохнуть духовно на долгое время. Все, что мне казалось интересным, я фотографировал. Обладая теперь этим материалом, я, по возвращении в Петербург, решился попытаться дать в ряде небольших очерков если не картинку этого края, то дополненное красками его фотографическое изображение.
Занятые петербуржцы мало интересуются теми местами столицы, которые тесно связаны с памятью преобразователя России. Сколько тысяч людей ежедневно проходят мимо памятников величайшего исторического значения, проходят всю жизнь куда-нибудь на службу, фабрику и т. д., совершенно их не замечая. Да и неловко даже и присматриваться к памятникам, когда все кругом спешит по делу. Для этого нужно быть иностранцем или провинциалом.
Но вот вы выехали за город. Сначла скрылись дома и остался только лес фабричных труб. Потом исчезли и трубы, и дома, и дачи; позади остается только серое пятно. И тут-то начинаются разговоры о делах Петра Великого. Указывают полузасохшее дерево на берегу Невы и говорят, что это «красные сосны». Петр Великий будто бы взбирался на одно из бывших здесь деревьев и смотрел на бой… А вот и Ладожское озеро и начало канала вокруг него. Кто-то сейчас же говорит: Петр Великий наказал этой канавой непокорное озеро… Тут же виднеется на островку белая крепость Шлиссельбург… Вот где, кажется, и вспомнить о делах Петра и вообще подумать над судьбой родины: крепость, построенная новгородцами и названная ими Орешек, перешла потом к шведам и стала называться Нотебург. В 1702 году, после знаменитого сражения, крепость достается снова русским и называется Шлиссельбург, – ключ, которым, по словам Петра, были открыты двери в Европу.
Но все почему-то молчат, когда смотрят на белую крепость: и батюшка, и гимназисты, и барышня, и господин с фотографическим аппаратом.
– Э-х-х-х, Господи!.. – бормочет батюшка.
Словно какие-то болезненные бледные призраки становятся на пути мысли к легким, приятным воспоминаниям о славных делах Петра…
И чем дальше, тем больше и больше указывают различных памятников пребывания Петра Великого в этих местах. Нет никакой возможности здесь передать все эти народные предания, указать на все памятники. Их так много, что не знаешь, с чего начать, как связать. Здесь нужен историк. Необходимо пополнить этот пробел в нашей литературе.
Солнце погрузилось в Ладожское озеро, но от этого нисколько не стало темнее. Просто не верится, что оно закатилось, скорее подходит сказать: солнце «село». Словно там, за водной гладью горизонта, оно притаилось, прячется, как страусы прячут от охотника голову в песок. Светло по-прежнему, но мало-помалу все становится призрачным.
Призрачным становится этот оранжевый, освещенный притаившимся солнцем дым… Это не дым, это длинная широкая дорога уходит вдаль, в небо. Призрачным кажется след на воде от парохода, почему-то не исчезающий, но все расширяющийся и расширяющийся туда, дальше, к исчезнувшему берегу. Призрачны все эти молчаливые люди, глядящие на водную и небесную дорогу… Это не полковник, батюшка, барышня и гимназист, а таинственные глубокие существа.
Легкая зыбь – «колышень» – рябит воду. Пароходом она не ощущается, но маленькое озерное судно «сойма» слегка покачивается. Немножко колышется и «лайда» – финское судно с картинно натянутыми парусами. Вдали показывается белое пятно. Маяк это, церковь с того берега, который уходит в Ладогу, или парус какого-то большого судна? Пятно куда-то исчезает, но скоро показывается маяк, а на красном небе вырисовывается полногрудый силуэт большого озерного старинного судна: «галиота».
Я не помню, кто это из путешественников сказал: будьте осторожны, когда садитесь на русский пароход, осмотрите каюты, не каплет ли в них, не случалось ли чего с этим пароходом, например, не отваливалось ли дно и т. д. Все эти меры предосторожности я принял. Мы ехали на новом пароходе «Павел»; он совершал свой первый рейс от Петербурга в Петрозаводск – Повенец и был построен в Англии. Даже самое общество пароходовладельцев основалось на английский манер.
– Помилуйте, – говорил нам один из нескольких членов общества, маленький, кругленький петрозаводский купчик, – помилуйте, в Англии даже одно общество лакеев имеет свой собственный пароход, а мы, русские купцы, для своих товаров не можем завести собственных пароходов.
Я не знаю, бывали ли в России когда-нибудь такие общества. В нем объединялись мелкие и средние торговцы. Достаточно было внести пай, кажется, в двести рублей, чтобы сделаться членом этого общества, но с обязательством возить свои грузы лишь на собственных пароходах. Тут было немножко политики. Время было юное, бодрое, с розовыми надеждами… Раздавались неслыханные раньше голоса в Государственной думе.
– Вы знаете, – торопились новые борцы, – разве теперь время, чтобы сидеть сложа руки… А у нас по берегам Онего такие угодники сидят, что знать никого не хотят. Что ни место, то свой святой… А самолюбие! Такие самолюбивые, скажу вам, что газету из-за самолюбия читать не станут!
Все эти купчики, оживленные новыми перспективами, широкими горизонтами новых времен, сопровождая пароход при первом рейсе, разыгрывали из себя настоящих моряков. Один юркнет в машину и вернется с черным пятном на лбу и платком вытирает масляное пятно на одежде, другой мешает капитану. Но больше всего их собралось на корме у аппарата, отсчитывающего узлы.
– Да не может быть! Шестьдесят узлов! Тридцать верст в час!
Узлы, секунды, курс… так и сыплются морские термины у моряков с брюшками. У одного даже очутился в руках компас…
Все дело в том, чтобы догнать пароход «Свирь», принадлежащий старому обществу. Пароход «Павел» делал на столько-то узлов больше в час, чем «Свирь», и должен был перегнать его на Ладожском озере. Об этом говорили даже публике, когда выдавали билеты. Вот почему и считали узлы, и смотрели вдаль: не покажется ли дым.
И дым показался! Больше. Показалась труба. Узлы, секунды, курс – все было забыто. Еще полчаса, и на Ладожском озере европейцы-купцы готовы были торжествовать победу.
Вдруг в машине что-то заскрипело, затрещало, оттуда на палубу повалил дым. И все засуетились: и публика, и настоящие матросы, и матросы с брюшками. Кто-то направлял наконечник пожарной трубы в машину.
Через час все благополучно кончилось. Пароход снова пошел. Но с мыслью догнать «Свирь» пришлось расстаться навсегда.
– Ничего, ничего, – грустно утешались хозяева, – машина новая, оботрется…
Теперь, когда я пишу, оба парохода этого общества, «Петр» и «Павел», грустно стоят на Неве без котлов, без колес. Оба потерпели аварии: один на Свирских порогах, другой на озере Онего. За все лето они совершили лишь по одному или по два рейса.
– И где им, – торжествовали «самолюбивые» купцы. – Собралась у них всякая мелкота. Да разве можно такие большие пароходы по нашим рекам и озерам пускать. Да и лоцмана были дрянные.
Не знаю, повысило ли теперь старое общество пассажирскую плату. Новое общество сбило было ее почти наполовину.
Едва справились с бедой, как стало покачивать, и, чем дальше, все сильней. Сначала поднялась с места задумчивая барышня и подошла к борту. Потом заболела девочка на руках у матери и сказала: «Мама, эта конка бя!» Наконец, полковник-старичок сходил к борту и, вернувшись, словно извинялся: «Тысячу раз клялся не ездить по этому проклятому озеру!» Ему было особенно неловко, потому что он только что рассказывал, как он ходил на медведей с рогатиной. Как бы там ни было, но все обрадовались, когда показалось наконец широкое устье Свири.
Река Свирь – прежде всего место для перевозки леса, муки. Она есть одно из тех устьев Мариинской водной системы, которая соединяет Петербург с Поволжьем. Я это говорю не для того, чтобы сделать очерк о промышленности, но только хочу отметить, что торговая жизнь здесь уж очень кладет свой отпечаток на все. Вот, например, большое торговое село с большими деревянными домами со множеством окон. Это, конечно, хорошо, но почему же возле этих удобных, светлых домов нет садика, деревца, огорода, вообще каких-нибудь признаков заботливости у своего жилища? Лучше всего это станет понятным, если прислушаться к разговору тверской няньки, едущей при господах, и олончанина из Шуньги. Нянька, как и я, недовольна видом этих домов.
– И зачем только едут господа? – говорила она, сильно окая. – Да где же у вас усадьбы, огороды, а где пашня, зачем изгороди косые?
Олончанин говорит тоже окая, но не так сильно, как мне показалось, сравнительно с уроженкой Тверской губернии. Он говорит, что косые изгороди прочнее, а ковыряться в огородах по здешним местам невыгодно, есть другие промыслы. По его словам, лоцмана зарабатывают рублей триста в лето, и тут уж не до капусты.
Но у няньки своя логика, «женская», и потому она прерывает рассудительную речь олончанина:
– А у нас-то везде огороды, усадьбы, поля как скатерти верст на пятнадцать стелются, изгороди прямые. Что это! – презрительно восклицает она, показывая на берег. – Кусты, ямочки, горочки, камни…
Берега в самом деле какие-то невеселые. Хороши они, вероятно, были раньше, когда на них были вековые леса. И теперь лес тут всюду, только и слышишь слово «лес», но с прилагательными: пиленый, строевой, жаровой, дровяной и т. д. Этот лес тащат буксирные пароходы, он загромождает пристани, о нем говорят, около него хлопочут торговые деловые люди. Вся эта жизнь вокруг леса, баржей и т. д. кажется как-то не своей собственной: все это тяготеет к Петербургу. И люди тут немножко американского типа. Вот, например, молодой человек в модном петербургском пальто, вообще вполне культурный человек. Он охотно, как это часто бывает у русских в дороге, рассказывает свою биографию. Родился на берегу Свири. Сын крестьянина-землепашца. Мальчиком раз был сильно болен. Родители, чтобы спасти его жизнь, затеплили свечку перед иконой, упали на колени и молились: «Поправь, святой угодник!» В свою очередь, они тут же обещались угоднику отдать сына на год в Соловецкий монастырь. Угодник помог, и потому, когда мальчик стал восемнадцатилетним юношей, его отправили «годовиком по обещанию» в Соловецкий монастырь. Он пошел с большим религиозным подъемом духа. Но там остыл совершенно. Жизнь в монастыре оказалась почти такой же, как в миру, и даже хуже. «Был всякий грех, табак доходил до пятидесяти копеек за коробочку». Вернувшись домой, ему захотелось «жить». Но какая же это жизнь земледельца на Свири: рубить деревья, косым крюком удалять камни, «орать» первобытной сохой и сеять рожь, жито, репу, не рассчитывая даже прокормить себя этим год. Юноша пошел в Петербург искать счастья. Брался за все, но кончил портным и теперь возвращался щеголем в родную деревню, чтобы обшивать всех по-питерски.
Мне не хочется описывать здесь Подпорожье, Мятусово, Важины – все эти большие торговые села. Не хочется даже писать о Свирских порогах, потому что они опять-таки имеют отношение только к баржам. На вид же они незначительны и отличаются от всей остальной реки по беспокойству воды, по «вьюнам» и т. п. У Вознесенья, последнего села на Свири, начинается по виду совершенно такой же канал, или канава, вокруг Онежского озера, как и около Ладожского.
Редко бывает совершенно спокойно бурное Онежское озеро. Но случилось так, что, когда мы ехали, не было ни малейшей зыби. Оно было необыкновенно красиво. Большие пышные облака гляделись в спокойную чистую воду или ложились фиолетовыми тенями на волнистые темно-зеленые берега. Острова словно поднимались над водой и висели в воздухе, как это кажется здесь в очень тихую теплую погоду.
Онежское озеро называется местными жителями просто и красиво «Онего», точно так же, как и Ладожское в старину называлось «Нево». Жаль, что эти прекрасные народные названия стираются казенными. Один молодой историк, здешний уроженец, большой патриот, с которым мне удалось познакомиться в Петрозаводске, очень возмущался этим. Он мне говорил, что администрация таким образом уничтожила массу прекрасных народных названий. И это не пустяки. В особенности это ясно, если познакомиться с местной народной поэзией, с причитаниями, песнями, верованиями. Там, в народной поэзии, постоянно поминается это «страшное Онего страховатое» и иногда даже «Онегушко»… Кто немного ознакомился с народной поэзией, все еще сохраняющейся на берегах этого «славного великого Онего», тому назвать его Онежским озером, ну… назвать, например, пушкинскую Татьяну, как это нехорошо делал Писарев, по отчеству… Онего в народном сознании является уже не озером, а морем. Так его иногда и называют. Онего огромно, как море, страшно в своих скалистых берегах. Скалы его берегов то голые с причудливыми формами, то украшенные зубчатой каймой хвойных лесов. На этих берегах до сих пор живут еще певцы былин, вопленицы, там шумят грандиозные водопады: Кивач, Порпор, Гирвас. Вообще Онего полно поэзии, и только случайно оно не было воспето каким-нибудь поэтом. «Жаль, что Пушкин не побывал на нем», – сказал мне один патриот.
Недостаток художественного описания Онего я почувствовал особенно отчетливо потом, когда ознакомился с «Губернскими ведомостями», «Олонецким сборником» и «Памятной книжкой Олонецкой губернии». Сколько там рассеяно описаний различных местных литераторов, любящих Онего, но как-то с чересчур переполненной душой. Помню, один при описании Кивача, помянув, как водится, державинское «алмазна сыплется гора», восклицает вдохновенно: «И не знаешь, чему дивиться, – божественной ли красоте водопада или не менее божественным словам бывшего олонецкого губернатора, из которых каждое есть алмаз».
Таково Онего. Совсем другое Онежское озеро. Это просто северный «водоем», раскинувшийся на карте в виде громадного речного рака, с большой правой клешней и с маленькой левой. Водоем этот значительно меньше Ладожского озера (Ладожское -16 922 квадратных версты, Онежское – 8569) и переливается в него рекой Свирью. На севере между клешнями рака заключен громадный, весь изрезанный заливами полуостров Заонежье. На левом его берегу, если смотреть на рака от хвоста к голове, расположился губернский город Олонецой губернии Петрозаводск, недалеко от правого – Пудож, Вытегра, в самом северном уголку правой клешни – Повенец, где и «всему миру конец» и куда лежал мой путь.
Густая толпа народа, которая встречает каждый пароход, представляет из себя живой этнографический музей и уносит воображение в отдаленные времена колонизации этого края. Правда, тут в толпе непременно есть представители современности: урядник, ученики Петрозаводской духовной семинарии, иногда студент, сельская учительница. Но они теряются. Большинство собравшихся, конечно, из ближайших деревень; им просто любопытно посмотреть на проезжающих. И, вероятно, для них это любопытнее, чем для нас лекция, театр, путешествие. Это сказывается и на внешности молодежи. Неуклюжая кофточка, ленточка являются сначала результатом простого созерцания дам на пароходе, а потом, глядишь, появилась портниха и мало-помалу одела всех по-питерски. Но среди модной современности виднеются и приехавшие из глуши совсем серые люди. И что это за экипажи, на которых они приехали! Прежде всего удивляют при летней обстановке сани, обыкновенные дровни. Очевидно, хозяин их приехал из какого-нибудь такого глухого местечка, где совершенно невозможны никакие колесные экипажи. Впрочем, тут же стоят и колесные экипажи, но что это за колеса! Это просто толстые большие отрезки дерева, иногда даже не совсем правильно скругленные… Колес с шинами и спицами совершенно нет: такие колеса скоро бы разбились о каменистую дорогу и потому оказались бы дорогими. Вся масса людей носит серый тон: преобладает какой-то мелкий корявый тип с светлыми глазами, очевидно потомки чуди белоглазой; но между ними попадаются такие молодцы, что вот одеть – и был бы настоящий Садко, богатый гость.
Эти два типа так различны, так бросаются в глаза своим контрастом, что на минуту забывается толпа, и с каменистого берега смотрят на пароход очи истории.
В этих местах существует много курганов и других самых разнообразных памятников когда-то упорной кровопролитной войны новгородских славян и финских племен, «белоглазой чуди», закончившейся в XI веке победой новгородцев. Дальше все шло обычным порядком: знатные новгородские люди здесь приобретали земли, леса, реки и озера и посылали сюда удалых добрых молодцев для управления своими угодьями и промыслами. Все эти земли, занимающие огромную площадь между Ладожским озером, рекой Онегой и Белым морем, составили Обонежскую пятину Великого Новгорода… Вся эта дикая лесная Обонежская страна в то время была бесконечно богата пушными товарами.
Тогда коренные жители были настоящими дикарями, жили в подземных норах и пещерах, питались рыбой и птицей и верили, согласно свидетельству историков, так: «Кто им когда чрево насытит, тогда и Бога сопостовляще, а еще иногда каменем зверя убиет – камень почитали, а еще палицею поразят ловимое – палицу боготворят». Христианство начал здесь распространять князь Святополк еще в 1227 году, вместе с тем и новгородские промышленники во время поездок. Но особенно много потрудились здесь те бескорыстные пустынники, которых с величайшим благоговением, как святых, чтило все Обонежье. Это Корнилий Палеостровский, Александр Свирский, Герман, Зосима и Савватий Соловецкие и многие другие.
Я упоминаю здесь именно этих святых, потому что основанные ими монастыри (Александро-Свирский, Палеостровский, на острове того же названия, и Соловецкий) привлекают к себе до сих пор огромные массы богомольцев. И все, что нам известно об этих первых христианах, говорит о них как о людях удивительно чистых и хороших, сделавших массу добра для края. Жизнь их вдохновляла потом и следующих за ними колонизаторов края – раскольников. Многие из этих людей приближались вполне к жизни первых христиан. Да и до сих пор в глухих местах Архангельской губернии есть старцы, идеалом жизни которых служат жития этих святых.
Так мало-помалу, частью силой, частью подвигами этих старцев, финские племена приняли крещение и сжились с славянскими. Во время шведских походов карелы переходили то на шведскую, то на русскую сторону. А теперь финские племена, особенно карелы, так сжились с русскими, что отличить их можно только по отдельным ярким представителям.
На Онежском озере есть несколько старинных монастырей. Тут лежит путь богомольцев в Соловецкий монастырь. На берегах его до сих пор совершается борьба официального православия с его сгущенной формой – расколом. Наконец, здесь между религиозно настроенной толпой и монастырем можно постоянно видеть посредников. Все это кладет какой-то своеобразный паломнический отпечаток на плавание по Онежскому озеру. Тени святых обонежских пустынножителей словно живут и блуждают по этому озеру. Блуждают, потому что дело их сделано, язычников финнов нет уже в каменных пещерах. Другие язычники появились теперь на Онежском озере, несравненно более упорные и сильные, чем те, вооруженные палицами и пращами, финские племена. Старцам их следовало бы оставить совершенно, как это сделали старцы в других местах: труд бесполезный! Но по странному упорству они продолжают беспокоить всех проезжающих, даже самых закоренелых язычников.
Почему, например, капитан, который на Ладожском озере все время ел семгу, икру и кровавые бифштексы, теперь ведет в рубке религиозно-философский спор с почтенным господином? Он доказывает, глядя с верхней палубы на богомольцев, что все это пустяки и глупость, и отказывается понимать, как человек с высшим образованием может серьезно интересоваться такой чепухой. Почему так пришлось, что полковник именно на Онежском озере рассказывает, будто раз его собаки в лесу загнали на высокую сосну монаха и что при этом у монаха из кармана выскочили две бутылки водки? Почему господин с фотографическим аппаратом снимает теперь кривого монаха, который, опираясь о борт, улыбаясь и играя по-своему единственным глазом, что-то шепчет богомолке? Почему, наконец, и я, совершенно не имея этого в виду, попал в глухой Климентский монастырь, куда и пароход-то ходит всего один раз в год, да и то с благотворительной целью? Случилось это так. Раз в год те самые «самолюбивые» пароходовладельцы, о которых мне пришлось уже говорить, как люди русские и благочестивые, уступают на один день губернатору пароход в бесплатное пользование для организуемой им поездки в монастырь на Климентский остров. Этот остров, самый большой на Онежском озере, находится у конца полуострова Заонежья. На этом каменистом и бесплодном месте был основан монастырь еще в 1490 году Ионой Климентским, сыном богатого новгородского посадника. Случилось, что буря разбила все его суда около каменистого острова, сам он едва спасся от смерти. После этого Иона Климентский (в миру Иван Клементьев) порвал связь с миром, стал жить на этом острове и основал монастырь. В настоящее время этот монастырь, оставаясь в стороне от пароходного сообщения, пришел в упадок. Чтобы хоть сколько-нибудь помочь монахам, и организовывались эти ежегодные поездки.
От Петрозаводска туда всего несколько часов езды. Мы выехали из Петрозаводской губы, миновав замыкающий ее Шуй-наволок и необитаемые Ивановские острова, пересекли почти половину «Большого Онега», то есть его широкой, лишенной островов части, и были у Климентского острова. Монахи в светлых ризах, с крестами и иконами; окруженные пришедшей с другой части острова толпой народа, встречали нас у самого берега. Потом, версту или две, мы шли по лесу, по каменистой лесной тропе, ежеминутно спотыкаясь. Несложная, угрюмая картина открылась нам, когда мы вышли из леса. Покосившийся крест в воде на том месте, где разбились суда, масса камней, каменная церковь, деревянная, две-три постройки и на фоне хвойный лес. Церкви по виду самые обыкновенные: деревянная выстроена недавно, каменная сохранилась с основания монастыря. Внутри каменной церкви стенная живопись изображает между прочим чертей в аду; сам Иона, сложив руки, молится под водой… После службы нам показывали в лесу жалкие поля, скот…
Что же делали здесь все эти люди столько столетий? Молились, трудились? Но где хоть малейшие следы этой вековой работы и молитвы? И эти вялые ответы, неодушевленные лица… Вся церемония походила на именины в провинции, когда хозяевам в этот год не удалось куда-нибудь уехать и пришлось их праздновать. Наконец нас повели в трапезную закусить; здесь мы ели «рыбники», то есть пироги с рыбой, любимое кушанье олончан, и кое-как поддерживали разговор. Нужно знать, что в это время в Петрозаводске носился уже слушок, что в монастыре что-то неладно, что его пора бы закрыть и преобразовать в женский, как это делается всегда, когда хотят спасти разоряющийся мужской монастырь… Женщины всегда оказываются в этих случаях настойчивее и упорнее мужчин.
Один батюшка, приехавший вместе с нами из Петрозаводска, время от времени за трапезой делал ехидные замечания и развлекал нас. Когда, например, настоятель нам сообщил, что у них тридцать шесть коров и двадцать монахов, то батюшка заметил вскользь:
– На шестнадцать больше…
– Чего? – тревожно спросил настоятель.
– А коров, отец настоятель, – сказал батюшка, сильно выделяя «о», – коров, говорю, на шестнадцать больше.
Настоятель закусил губу и только сердито поглядел на врага. Но батюшка не унимался.
– Говорят, вы коровушек-то продаете, почем?
Это уже был явный, грубый намек на ликвидацию монастыря. Настоятель сейчас же оборвал:
– Если вам угодно ознакомиться с нашими делами, то я с удовольствием…
Батюшка даже выронил рыбник из рук от огорчения и тысячу раз извинился. Но когда недоразумение было устранено, он поинтересовался судьбой монастырских актов. Настоятелю решительно не везло. Только что он обстоятельно изложил, как сгорели акты при пожаре, кто-то из публики сказал:
– Акты, отец настоятель, целы, они у Ивана Ивановича в Петрозаводске, целы и невредимы.
В это время богомольцы, успокоив свою грешную душу молитвой и, конечно, ничего не подозревая о таких тонких политических разговорах у отца настоятеля, сидели кучкой на камнях возле парохода у красивой бухточки с часовенкой и дожидались отхода парохода. Скоро и мы присоединились к ним и уехали в Петрозаводск.
На возвратном пути, через два месяца, мне сказали, что Климентский монастырь уже преобразовался в женский… Некоторые говорили, что будто бы монахи были ничего себе, а это дело рук хитрого игумена другого монастыря, которому хотелось сделаться вместе с тем и настоятелем женского Климентского монастыря. Другие же, напротив, утверждали, что игумен тут ни при чем, а виноваты сами монахи. Но я не буду разбирать этот сложный вопрос и беспокоить тени преподобных Корнилия, Зосимы и других святых старцев…
В Обонежском краю по пути мне удалось ознакомиться с двумя городами – Петрозаводском и Повенцом. Как их характеризовать? Отметить памятники старины, торговлю, промышленность? Все это есть в них понемножку, но не характерно. Помню, когда я гулял в Петрозаводске в ожидании парохода, мне почему-то казалось, что чистенький городок не живет, а тихо дремлет. Я не хочу этим словом обидеть городок; он дремлет не так, как наши провинциальные города центра, а как-то по-своему. В нем всегда тихо, и было бы нехорошо, если бы на берегу такого красивого озера, между холмами, что-нибудь сгущенное, человеческое шумело и коптело. Городок дремлет в тишине, и только время от времени что-то тяжело звякнет, стукнет или загудит снизу из котловинки в средине города. И вот этот-то звук чего-то упавшего железного в котловинке, очевидно на Александровском пушечно-снарядном заводе, и объясняет теперь при воспоминании весь смысл городка. И в самом деле, вся история этого городка сложилась как-то возле неудачных попыток устроить здесь завод. Почин в этом деле принадлежал Петру Великому; раньше жил здесь лишь одинокий, выселившийся из соседней деревни мельник. Завод этот как-то плохо работал, закрылся, затем действовал некоторое время медноплавильный, потом завод, открытый французской компанией, наконец, и Александровский пушечно-снарядный завод, основанный Екатериной II. Последний существует и до сих пор: громадное красное здание в средине города в котловине. Говорят, что дела завода очень плохи, и только нерешительностью правительства прекратить невыгодное дело объясняется его еще до сих пор теплющаяся жизнь. Так что завод этот; вполне невинный и нисколько не нарушает картины общего безмятежного спокойствия.
Памятники старины относятся, конечно, к пребыванию здесь Петра Великого. Тут есть деревянный собор Петра и Павла, устроенный так, чтобы с внешней его стороны можно было взбираться наверх. Говорят, что Петр Великий любил подниматься на этот собор и любоваться озером Онего.
Есть здесь также прекрасный парк, где Петр собственноручно сажал деревья и где был выстроен для него дворец. Есть тут монументы Петру Великому и Александру II, есть дом Державина и, конечно, как в губернском городе, много больших казенных зданий. Другой город, Повенец, уже относится к краю леса, воды и камня.
Лес, вода и камень
Про Повенец говорят обыкновенно: он всему миру конец. Но, как я уже говорил, для меня с Повенца только и начинался самый любопытный мир.
И опять я задаю себе тот же вопрос: как характеризовать маленький городок в северном углу Онежского озера – Повенец? Я помню постоянный звук колокольчиков: это бродили коровы по улицам городка. Звук этих колокольчиков мне объясняет все. Повенчн, так же как и петрозаводцев, я не хочу этим обидеть; не их вина в том, что старинное, существовавшее еще в XVI веке, селение Повенцы потом было названо городом Повенцом. Если же считать его селением, то в присутствии коров на улицах нет ничего удивительного. И в самом деле, коренные жители этого «города» занимаются до сих пор земледелием; тут же за деревянными домиками и начинаются их поля. Другая, «лучшая» часть населения, в лучших домах – чиновники. Вот и все, что я могу сказать о Повенце.
Дальше: широкая дорога между непрерывными стенами угрюмого северного леса. То и дело вздрагивает повозка, наскакивая на разбросанные повсюду камни-валуны, или шипит по желтоватому крупнозернистому песку с мелкими гальками. А из леса сверкает чистая вода лесных озер, «белых ламбин»[1]. Время от времени шум экипажа пугает купающихся в разогретом песке тетерок с цыплятами. Но мать не оставляет детей, а торопливо уводит их в лес, постоянно оглядываясь назад.
Повозка мчится все выше и выше, то спускаясь, то поднимаясь между террасами, холмами и скатами. Тихо ехать нельзя: бармачи (овода) замучат лошадей. Их целые полчища танцуют возле нас, и кажется – движение вперед им не стоит усилий.
В тринадцати верстах от Повенца, в деревне Волозеро переменили лошадей и снова понеслись вверх. Проехав еще верст пятнадцать, мы пересекли в косом направлении Масельгский хребет – высшую точку подъема. Этот хребет есть водораздел Балтийского и Беломорского бассейнов.
С этого места, если бы только можно было видеть так далеко, открылась бы грандиозная каменная терраса со ступенями назад, к Балтийскому морю, и вперед, к Белому. Величественные озера выполняют ступени этой гигантской двойной лестницы и переливаются одно в другое шумящими реками и водопадами. Назади узкая лента Долгих озер переливается Повенчанкой в Онежское озеро. Многоводное Онего по Свири стекает в круглую Ладожскую котловину, по-старинному озеру Нево, а оно по коротенькой Неве спускается к Балтийскому морю. Впереди тоже ряд озер: Маткозеро, Телекинское, Выгозеро со множеством островов; последнее тремя живописными водопадами переливается в стремительный Выг и стекает к Белому морю. У подножья первого склона террасы – Петербург, а у другого – Ледовитый океан, полярная пустыня.
Так рисуется воображению географическая картина этих мест. Но и простым глазом видно то же самое, только на меньшем пространстве. В дымчатой синеве океана лесов тут сверкают террасы озер, рассеянных всюду между причудливо смыкающимися склонами.
– Лесом, водой и камнем мы богаты, – говорит ямщик.
И замирают слова человека. Безмолвие! Лес, вода и камень…
Творец будто только что произнес здесь: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша!»
И вода стала стекать к морям, а из-под нее – выступать камни.
В этих местах создалась такая карельская легенда:
«Вначале в мире ничего не было. Вода вечно волновалась и шумела. Этот шум несся к небу и беспокоил Бога. Наконец, разгневанный, он крикнул на волны, и они окаменели, превратились в горы, а отдельные брызги – в камни, рассеянные повсюду. Места между окаменелыми волнами наполнились водой, и так образовались моря, озера и реки».
В этом случае, как часто бывает, художественное творчество предупредило медленные поиски науки. Теперь и наука утверждает, что вначале здесь была только вода. Ледовитый океан в этом месте соединялся с Балтийским морем. Немногие такие мели, как вершина Масельгского хребта, выглядывали с поверхности ледникового моря. Громадные льдины Скандинавского ледника плавали по океану, задерживаясь только на этих мелях. Тут, на мелях, они таяли и оставляли всю массу камней, которую увлекли с собою, спускаясь с гор. Работою подземных сил из воды выдвигались все новые и новые мели, а льдины оставляли на них холмы ледникового наноса. Вот так и образовались здесь всюду раскинутые, вытянутые с ССЗ на ЮЮВ грядки кряжей: сельги. Низменные же места между сельгами остались наполненными водой. На каменных сельгах выросли хвойные леса, а в лесах люди «живяху, яко же и всякий зверь».
Название «Выговский край» не существует в географии. Он входит в общее название «Поморья». Но он своеобразен во всех отношениях и достоин отдельного названия. Он занимает всю ту местность, которая прилегает к берегам Выгозера, впадающего в него с юго-запада Верхнего (южного) Выга и вытекающего из северного конца озера Нижнего (северного) Выга.
Мне казалось удобнее ознакомиться с этим краем, если поселиться где-нибудь в деревне в центре его и отсюда уже ездить на лодке на юг или на север. Как раз посредине длины Выгозера, на одном из его бесчисленных островов, есть деревенька Карельский остров. Вот ее-то я и избрал своим пристанищем. Этот план был одобрен и дедом рыбаком, у которого я ночевал перед поездкой по Выгозеру.
– Жёнки едут на Карельский, они тебя и отвезут, – сказал мне старик.
– Вот наши жёнки, любы тебе? – рекомендовал он мне двух женщин с загорелыми, обветренными лицами, в сапогах, высоко подтянутых юбках и с веслами в руках.
Потом дед повернул свою седую большую голову по ветру и сказал «жёнкам»:
– На озере вам хорошая поветерь будет, шалонник дует.
Слово «шалонник» означает SW ветер. Другие ветры, как я потом узнал, назывались: летний (S), сток (W), побережник (NW), обедник (SW), полуночник (WN), торок (вихрь) и жаровой, то есть – случайный летний ветер.
– Хороший, походный ветерок, – продолжал дед, – парус не забудьте.
– А мы не взяли, дедушка, – отвечали жёнки.
– Так дать, что ль?
– А бе есть, так и дай.
Дедшка одолжил нам парус, сшитый из мешков, и мы пошли к берегу. Там была вытащенная наполовину из воды простая небольшая лодка. На этой лодке и приходилось плыть по громадному, в семьдесят верст длины и до двадцати верст ширины, бурному Выгозеру. Ко всему этому я узнал, что лодка «без единого гвоздя сделана» и «сшита» вересковыми прутьями. Так оказывалось прочнее, проще и дешевле. Так, кажется, по преданию, строился и Ноев ковчег.
Немножко жутко было ехать в такой лодке, да еще с жёнками. Но это только с самого начала; потом же, как я убедился, жёнки, которые выросли на воде и начали плавать по озеру грудными младенцами, ничем не уступали мужчинам. Мужья сохранили только за собой право всегда сидеть на руле. Сначала кажется несправедливым, когда видишь, как жёнка гребет, а муж сидит на корме, чуть придерживая рулевое весло, а иногда еще при этом выпивая и закусывая рыбником. Но когда я присмотрелся, какое огромное напряжение сил требуется от рулевого в бурю и даже вообще при ветре на лодке с парусом, то понял, что тут ничего особенно несправедливого нет. Оно, может быть, и есть, но уж это везде и во всем пока так водится.
Итак, мы ехали по Выгозеру с жёнками, на лодке без гвоздей, на Карельский остров. Вперед уходила на север бесконечная водная ширь, «большое озеро», свободное, без островов, а направо виднелся лес.
– Это острова?
– Нет, это сузёмок. Вон острова!
– А это?
– Это тоже острова. У нас их так много, что и не толкуем. Всего на озере их – сколько дней в году и еще три. Дальше еще кучнее пойдут. Острова да салмы, острова да салмы.
«Салмы» – значит проливы, слово карельское, как и все географические названия, сохранившие память о старых хозяевах этого озера.
– На веках тут у нас обязательно кареляк жил, – поясняют мне жёнки.
Дед, который сулил нам поветерь, не ошибся. Как только мы выбрались из лабиринта салм, подул сильный попутный ветер. Жёнки, довольные, стали устанавливать мачту, продевая конец ее через отверстие в лавочке и укрепляя в прибитой на дне лодки железной подкове.
– Как поветерь, – заговорили они оживленно, – тут уж поездка любая, тут сиди пла да посвистывай. Не здымай высоко! Срьвется! Поставь райн[2] повыше! Погорже отпусти, не порто натягивай, а то лодку опружит.
Жёнки наконец установили парус; одна обмотала снасть вокруг сапога, уперлась им в уступ на дне лодки, а обеими руками стала держать рулевое весло.
Лодка понеслась как стрела. Закипели белые волны. Надвигалась туча.
– Ветер чернеет! Темень стават, Божия милость, – крестятся гребцы. – Наше озеро свирипо; как повиют ветры большие да забегают беляки, падет погодушка необъятная! Хоть вопи, а ехать надо. Забежит девятка[3], как хорома великая, и словно в могилушку опустит. Между девятками, как между хоромами, не видать лодки. Раз нас со старухой на остров выкинуло, так дня два зубами щелкали.
– Гляди, гляди, молвия маше! – восклицала другая жёнка. – Эк грянуло!
Туча прошла, и ветер стал стихать.
– Боком прошла Божия милость. Ветер лосеет! Заехали в салму, и стало вовсе тихо. Парус заколыхался. Над озером повисла радуга.
– Краса идет! Радуга! Надо парус рнить.
Стали присматриваться, куда падает конец радуги. Если на сузёмок, то дождя не будет, если на воду, то снова темень зайдет.
– Да теперь недалеко осталось. Вот салмочку проедем, обогнем коргу, там будет брежная сельга, потом комлевая, медвежий бор и Карельский остров.
Большие бури на Выгозере бывают осенью, а летом оно часто совершенно спокойно и сверкает на солнце, как громадное зеркало. Налетит торочек – случайный ветерок (вихрь), и заблестит водная гладь миллионами искр. Но летом ветер быстро пролетает куда-то и исчезает бесследно; этот жаровой ветер не имеет никакого значения при поездке, и через пять – десять минут озеро остается таким же спокойным, как и раньше. Иногда солнце так греет, что становится и очень тепло. Но все как-то не доверяешь этому теплу. Словно за теплом и светом где-то притаился холодок и шепчет: «Это не лето, это только межень. Пройдет эта теплая пора, и здесь, на этом месте, будет лед и темная беспрерывная ночь».
На озере всюду разбросаны большие и маленькие острова. Большие не так интересны: их не охватываешь глазом, и они кажутся берегом. Но маленькие своеобразно красивы. Особенно хороши они в летнюю, совершенно тихую погоду. Из водной глади тогда всюду вырастают кучки угрюмых елей. Они тесно жмутся друг к другу и будто что-то скрывают между собою. Напоминают они немного бёклиновский «Остров смерти». Как известно, на знаменитой картине бросается в глаза сначала группа кипарисов, скрывающая загадку смерти, потустороннюю жизнь. Присмотревшись к картине, замечаешь, что между кипарисами продвигается лодка и кто-то в белом везет гроб, осыпанный розами…
Вот и тут так же что-то выдвигается белое. Что это? Семья лебедей. И вдруг над северным островом смерти раздается дикий хохот: га, га, га!.. Это летит гагара, падает на воду и исчезает.
Между островами, особенно у низких травянистых берегов, непременно плавают утки всяких пород: алейки, овсянки, крёх и другие; они смирные, непуганые, и «в уме не дёржат», что человек их может обеспокоить.
Не всегда можно добраться до острова на лодке. Он окружен подводными камнями – лудами. А с двух сторон, обыкновенно с ССЗ и с ЮЮВ, от него спускаются в озеро каменистые стрелки – корги. От этого кажется, что остров лежит на выдающемся из воды каменном пьедестале. Камни, окружающие остров, объясняют, что он не что иное, как размытая сельга. В середине его, на неразмытой части, где сохранились песок и галька, селились деревья, охватывая камни корнями, а размытые части образовали корги, то есть каменистые косы, и луды – подводные камни. Иногда вода совершенно размывала остров, и деревья не могли поселиться на голых камнях, – это мели, сухие луды. На лудах нерестится рыба, на сухих лудах любят собираться большими стадами чайки.
Все эти птицы – утки всех пород и лебеди – почти не боятся человека. Их не стреляют. «Зачем, скажут, их бить, когда для пищи определена „дичь“, то есть лесная птица: рябчики, тетерева, мошники (глухари)». «Лебедь и утка, скажут, нам никакого вреда не приносят, самая безобидная птица». Про хорошего человека здесь говорят: «Степенный человек, самостоятельный, Бога почитает и не то что лебедей, но и уток не трогает».
Вот почему лебеди не боятся человека, подплывают с детьми к деревням. А утки так непременно селятся в болотах, ближайших к селениям. Когда мне про это рассказывал один старичок, то прибавил: «Стало быть, и ей (утке) это нужно, понимает она».
Как-то раз мы плыли с этим старичком на лодке в узкой салме. Семья лебедей плыла впереди, стараясь уплыть от нас и не желая улетать и оставлять маленьких детей. Старику показалось, что я хочу их стрелять; он в страхе схватил меня за руку и сказал:
– Что ты, что ты, господь с тобой, это нельзя!
И рассказал мне по этому поводу такую историю:
– Молод я был, глуп. Пришла мне раз в голову такая дурь – убить лебедя. Ходил я полесовать, день проходил – хоть бы что. Настала ночь. И такая-то светлая, хоть баба шей! Озеро стоит тихое-тихое. Смотрю, посередине у камня быстерок (струйка) играет. Думаю – это не рыба быструет. Пригляделся и вижу: на камне среди озера выдра сидит, хвост свесила, оттого и вода колышется. Стал прилаживаться. Фырсь! носом и в воду. И взяла досада. Вижу, плывет пара лебедей. Сошлись близко головками. Я прицелился. Не успел сливить[4] – разошлись. А по одной стрелять я не посмел. Отошел саженей пять, смотрю, катит на меня олень – что стог сена, рога – что борона. Я его и свернул. А если бы я по лебедям стрелял, то верст на пять распугал бы всех оленей.
– Да вот покойник Иван Кузьмич, – сказал другой гребец, – убил лебедя весной, а к осени и помер, через год жена померла, дети, дядя, весь род повымер.
– Эх, а что тоски-то в нем! Попробуй одну уить. Полетит кверху, будет на воду падать и пары себе уж больше никогда не подберет.
Я долго старался добиться, почему именно лебедь нельзя стрелять, но мне не могли этого объяснить. «Грех»– последняя причина в сознании местных людей.
Трудно понять, откуда взялось это поверье. Как известно, в наших сказках царевна обращается в лебедь, а в мифологии всех вообще арийских народов лебедь привозит и отвозит божества. Но если это поверье связано с древнеславянской мифологией, то почему же в былинах так часто «рушают» белую лебедь? Быть может, оно заимствовано от финнов? Или, быть может, связано с тем, что здесь, на Севере, староверы поддерживали законы Моисея, запрещающие употреблять в пищу лебедь? Как бы то ни было, но обычай прекрасен, и кажется, будто он непременно так и должен быть здесь, в этом краю непуганых птиц.
Вероятно, многие из необитаемых теперь выгозерских островов были когда-то заселены. Иногда увидишь врубленный в дерево восьмиконечный староверский крест, иногда попадаются сложенные в кучи, очевидно рукою человека, камни. Местные люди здесь находят котелки, монеты, стрелы. Есть много поверий о зарытых в них кладах. Острова кажутся могилами.
И в самом деле в этом краю, как и во всем Обонежье, происходили когда-то постоянные столкновения шведов, финнов и славян. Это было время непрерывных войн и опасностей. Вот почему, вероятно, стариннейшие селения здесь и до сих пор находятся на островах или в едва проходимой глуши. Большинство обонежских курганов, сопок, относится к этим старым временам. Но здесь, в Выговском краю, мало осталось об этом преданий. «На веках жили», и больше ничего. А чьи эти котелки, монеты, стрелы, могилы? Кто зарыл в землю клады, о которых с такой уверенностью говорят старые люди? Здесь сейчас же ответят: это паны. Они тут жили, это всем известно.
– Вот тут жили, где Кузнецова изба стоит, – сказал мне раз один старик, и так уверенно, словно сам лично видел этих панов.
– А вот на том месте их главный притон был, – рассказывал мне дальше старик о панах.
Остров, на котором жили паны, называется Городовой и, вероятно, потому, что там было городище, укрепленное место, вроде небольшой крепости. Отсюда, с этого острова, по преданию, паны приезжали в селения, грабили их, забирали с собой крестьян и заставляли на себя работать. Но кто же были эти паны? Долго я не мог добиться, как объясняют себе местные люди появление панов в таком глухом краю. Наконец одна старая, девяностолетняя женщина, знавшая всякие сказки, стихи и былины, рассказала о них следующее:
«Был царь Гришка-расстрига; он женился в другой земле и взял жену Марину. Стали возить Маринино приданое и возили три года.
Раз шел конь с приданым, да остановился, устал. А пономарь звонил на колокольне, увидал и спросил:
– Что везете?
– Везем Маринино приданое.
Пономарь взял да и разбил одну бочку с воза. А там, в бочке, – два пана. Пономарь и объявил царю:
– Ваше царское величество, вот какое приданое возят с другой земли.
Пришла сила, повернула Маринину палату вверх дном. Марина же волшебница была, обернулась сорокой и улетела в окно. А паны разбежались по русской земле, вот и у нас жили и грабили».
Так объясняет народ появление панов в Выговском краю. На самом же деле вторжение панов относится к тому времени, когда разбитые в сердце России войска второго самозванца рассеялись по ее окраинам. Эти банды поляков, татар и казаков вторглись в Олонецкую губернию из Вологодского и Белозерского уездов. «Паны»., по современным актам, оскверняли церкви Божии, снимали с образов оклады, мучили и секли крестьян, отнимая у них деньги и другое имущество, выжигали гумна и клети, а хлеб увозили с собой в остроги. Эти остроги, или острожки, были укрепленные места и, вероятно, находились там, где теперь указывают панские городки, или городища, как, например, остров Городовой на Выгозере.
Шайки грабителей бродили по Олонецкому краю более трех лет (до начала 1615 года). В конце 1614 года царь Михаил Федорович отправил на имя белозерского воеводы Чихачева грамоту с приказанием объявить казакам всепрощение и пригласить их на государеву службу против шведов с обещанием денежного жалованья. Казаки откликнулись и в январе 1615 года явились в сборном пункте (село Мегра Вытегорского уезда) в количестве от тридцати до сорока тысяч человек при семидесяти четырех атаманах, желавших идти на государеву службу под Новгород, под Ладогу и под Орешек.
Так кончились эти тяжелые времена для Олонецкою края. Неизвестно, ушли ли в это же время и паны с острова Городового на Выгозере или, быть может, продолжали более или менее долгое время грабить окрестных жителей. А может быть, народ расправился с ними по-своему. Возможно и то и другое. Выгозерцы все, от старого до малого, рассказывают о конце панов такое предание:
Там, где теперь находится Койкинский погост (селение на острове в северо-западном большом заливе Выгозера), жил крестьянин Койко с своей старухой. Раз, когда Койко уехал на лов, паны пришли к его старухе и стали требовать денег. Но старуха денег им не показала. Паны убили старуху. В это время приехал Койко и сказал, что он знает, где клад, и взялся доставить панов туда.
Паны согласились и легли в лодку спать. Старик прикрыл их парусом и повез к Воицким падунам (то есть в северный конец Выгозера, к истоку реки Северный Выг). Как раз у того места, где находится падь, есть Еловый островок. У этого островка Койко бросил весла, ухватился за дерево и выскочил, а паны с лодкой полетели в пучину.
Я помню, что предания о панах мне рассказывали как раз в то время, когда я ехал на лодке осматривать Воицкие водопады. Говорят, что шум этих падунов бывает слышен еще в Дуброве, в десяти верстах от них. Но попутный нам ветерок уносил звук в другую сторону, и я ничего не слыхал, даже когда мы приехали в Надвоицы – селение на Выгу, почти у самых Воицких водопадов.
Те гребцы, которые привезли меня в Надвоицы и брались доставить к водопадам, говорили, что это опасно. Но тут, в Надвоицах, местные опытные люди сейчас же предложили свои услуги доставить меня на тот самый Еловый островок, возле которого падает вода и где потонули паны. Гребцы взялись меня доставить на островок сверху, прямо над водопадами. Если бы я знал, как это опасно, то, конечно, уж предпочел бы ехать снизу, по обессилевшей уже воде падунов. Но я этого не знал и поехал.
Выг у селения Надвоицы еще не имеет вида обыкновенной горной, бурливой реки. Однако все-таки вода довольно сильно стремится куда-то, всюду всплескивает о камни, беспокоится, всюду виднеются вьюны, лодкой нужно только управлять. Впереди, посредине реки, виднеется кучка елей, с виду как раз такой же островок, как на Выгозере.
По мере приближения к этому острову, хотя и не видно падунов, начинаешь понимать всю страшную опасность такой поездки. Становится очевидным, что вода низвергается возле самого островка по обеим его сторонам, а между водопадами только каменный мысок, к которому и нужно непременно пристать лодке, иначе она полетит вниз. Хотелось бы повернуть назад. Но уже поздно, у гребцов рассчитаны все движения; теперь даже и говорить неудобно: малейшая ошибка – и конец всему. Один правит, а другой держит наготове жердь, чтобы удержать лодку, когда она пристанет. Торопливо, с замирающим сердцем выскочил я на остров. А гребцы сказали, что приедут через час снизу, где они будут поездоватъ, то есть ловить рыбу сетью в клокочущей воде. Я остался один на каменной глыбе между елями, окруженный бушующей водой.
…Гул, хаос! Трудно сосредоточиться, немыслимо отдать себе отчет, что же я вижу? Но тянет и тянет смотреть, словно эта масса сцепленных частиц хочет захватить и увлечь с собой в бездну, испытать вместе все, что там случится.
Но, внимательно всматриваясь, замечаешь, что прыгающие брызги у темной скалы не всегда взлетают на одну и ту же высоту: в прошедшую секунду выше или ниже, в следующую не знаешь, как высоко они прыгнут.
Смотришь на столбики пены. Они вечно отходят в тихое местечко, под навес черной каменной глыбы, танцют там на чуть колеблющейся воде. Но каждый из этих столбиков не такой, как другой. А дальше и все различно, все не то в настоящую секунду, что в прошедшую, и ждешь неизвестной будущей секунды.
Очевидно, какие-то таинственные силы влияют на падение воды, и в каждый момент все частички иные: водопад живет какою-то бесконечно сложной собственной жизнью…
С Елового островка видны только два водопада: средний, самый большой и величественно-спокойный, падающий отвесно, и правый, если стать лицом к Выгозеpy, – бурливый, беспокойный, брызжущий; он называется «Боковой». Третий водопад нужно смотреть с берега; его не видно с Елового островка за другим голым каменным островком, сзади которого он и падает. Он называется «Мельничный». Теперь мельница находится вблизи Бокового водопада, но он все-таки по-старому называется Мельничный. По этому водопаду спускается лес при сплаве его в Сороку, потому что он значительно меньше, чем другие. Вода от всех трех водопадов собирается в небольшой котловине сзади Елового островка, который отсюда уже представляет довольно высокую скалу. В этой котловине разделенные натрое воды Выга встречаются и, словно радуясь встрече, бурлят, кипят, прыгают, вертятся, прижимаются к левому высокому скалистому берегу и уносятся, разливаясь вскоре широким Надвоицким озером.
В бурливой котловине, где встречаются воды, живописно разбросаны громадные валуны; кое-где на них сидят мальчики, удят рыбу. Тут же, на этой бурливой воде, поездуют с сеткой в руке ловцы, ловят хариусов и форель. А на верху высокой скалы, на сосне, ждет свою добычу всегда ненасытная скопа.
В Боковом падуне, хотя и чрезвычайно бурном, есть место, где вода падает по уступам, – вероятно, с высоты не более одной-полутора саженей; вот в этом-то месте и проходит беломорская семга в Выгозеро. По словам местных рыбаков, семга, ударяя хвостом о воду, может прыгнуть до двух аршин над водой. Стремление этой рыбы пробраться в реку к местам нерестования так велико, что она решается перескочить и падун. Прыгая с уступа на уступ по щельям[5], она попадает наконец в Выг и в Выгозеро. Иногда она, не рассчитав расстояния, выпрыгивает на сухую скалу и тут же немедленно расклевывается скопой. Один местный батюшка, разведав ход семги, приспособил как-то у падуна ящик, так что в него попадала вся семга. Однако выгозерские рыбаки скоро потребовали от батюшки, чтобы он убрал свой ящик.
Перебраться с Елового островка на берег не совсем безопасно и снизу; поэтому приходится переезжать через ослабленную, но все еще быструю струю Бокового падуна. Маленькая долбленая лодочка, карбасик, ставится кормщиком приблизительно под углом 45° к струе. Вода, ударяя в нос карбаса, старается перевернуть его, но вместе с тем и относит на другую сторону. Ловкий удар веслом вовремя окончательно переносит карбас из бурлящей воды в тихое место, к берегу.
За рекой Выгом находится довольно высокая скала из хлоритового сланца, она называется Летегорой; за ней следует моховое болото, снова гора, но уже из талькового сланца, и потом возвышается над всею местностью прилегающая к северному углу Выгозера и Северному Выгу Серебряная гора.
Мне рассказывали, что где-то в пещерах этой горы течет струя чистого серебра, что место это знала одна старуха, но умерла, и теперь уже никто не может его найти.
Как ни фантастично это предание, но оно имеет основание; и по геологическому строению местности, и по тому, что недалеко, в окрестностях Сегозера, уже найдены залежи серебряной руды, можно думать, что здесь она есть.
Местные жители убеждены, что где-то здесь есть серебро. Рассказывают, будто даниловские скитники добывали руду, делали из нее рубли, и эти рубли ходили по всему Северу несколько дешевле правительственных.