Собрание сочинений. Собственник Голсуорси Джон
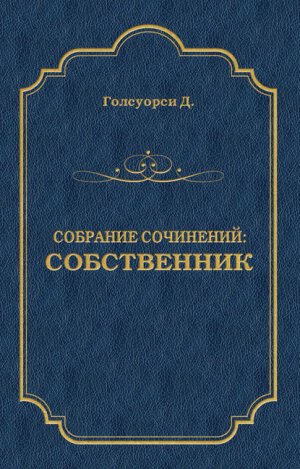
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2008
© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2008
Джон Голсуорси
(1867–1933)
«Размышления о нашей нелюбви к вещам как они есть» – так назвал Джон Голсуорси статью, написанную им в начале его творческого пути. Протестуя против фарисейских запретов и условностей, сковывающих английскую литературу, он утверждал, что долг художника – изображать подлинную жизнь. Эта мысль была девизом нескольких поколений английских реалистов, которым приходилось бороться за право изображать «вещи как они есть», за право ставить в романе острые социальные проблемы своего времени. История этой борьбы отмечена не только победами, но порой и компромиссами и поражениями. Для того чтобы понять необходимость такой борьбы в начале XX века, когда Голсуорси стал писателем, нужно представить себе атмосферу, которая царила в это время в английской литературе.
На «литературном климате» Англии сказался духовный кризис, который переживала буржуазная культура конца XIX – начала XX века. Сошли со сцены великие английские реалисты «блестящей плеяды», немногим их последователям приходилось противостоять все усиливающимся антиреалистическим, декадентским течениям. Буржуазные критики поддерживали тех, кто, как Киплинг, прославлял британский империализм. Многие из них благоволили к писателям-эстетам, призывавшим литературу к уходу в мир «чистого искусства». Велик был также удельный вес литературы, рассчитанной на требования книжного рынка, романов с захватывающей фабулой и «счастливым концом». Авторы этих романов, обходя острые углы, удовлетворяли давно укоренившемуся в английских издательствах требованию не касаться мрачных сторон действительности. Как писал позднее Голсуорси в статье «Кредо романиста», это требование выдвигала «критическая школа, которая стремится свести круг сюжетов в романе к тому, что желательно дать в руки молодой девице, – критическая школа, уже давно воплощенная в образе Подснепа».
Не случайно вспомнил Голсуорси мистера Подснепа из романа Диккенса «Наш общий друг» – самодовольного английского буржуа, убежденного в превосходстве всего английского, стремящегося навязать пуританские требования литературе. Мир диккенсовских образов – родной мир для Голсуорси. Плодотворным для его творчества оказалось стремление следовать традициям критического реализма Диккенса и других английских классиков. Это было несколько необычно в то время, когда выступившие на авансцену эстеты требовали от литературы «бесстрастности» и ополчались на писателей, выражавших ненависть к социальному злу. В предисловии к «Холодному дому» Диккенса, написанном в 1912 году, Голсуорси, восставая против «бесстрастности» эстетов, говорил о том, какой резкий контраст их установкам представляет собой творчество Диккенса, который ненавидел подлость и жестокость всей силой своего благородного сердца. Подлость и жестокость в их новом обличье Голсуорси видел и в современной ему Англии.
Голсуорси вошел в литературу в начале XX века, в период, когда в стране ширилась оппозиция политике империализма, посредством которой Англия пыталась разрешить внутренние противоречия, рос протест рабочего класса против своего положения «другой нации».
Истинную суть британской внешней политики раскрыла Джону Голсуорси позорная для Англии война с бурами 1899–1902 годов, вызвавшая в нем возмущение. Война заставила его также яснее увидеть несправедливость господствующего в Англии правопорядка. Чувство ответственности перед обществом становится основным качеством Голсуорси-писателя. Этим он близок к Герберту Уэллсу, почти ровеснику его, несколько ранее вошедшему в литературу, и к их старшему современнику Бернарду Шоу. Как и эти писатели, Голсуорси содействовал становлению критического реализма XX века, стремился поднять роль литературы, призванной, по его убеждению, быть средством глубокого осмысления жизни и критики социальных институтов своего времени, носительницей гуманных идей.
Заслуга Голсуорси, выдвинувшего такое понимание задач литературы, станет тем более очевидной, если вспомнить, что он отнюдь не был подготовлен к этому своим воспитанием, средой, в которой он вырос. В ответ на запрос издателя одного журнала о том, как он стал писателем, Голсуорси сообщал, что до 28-летнего возраста он «не воспринимал литературу всерьез», что, будучи «воспитан в английской закрытой школе и университете, питал склонность к спорту и путешествиям, имел небольшой самостоятельный доход и был непрактикующим адвокатом». Из других высказываний Голсуорси и из его произведений мы знаем, что в английской привилегированной школе и привилегированном университете, в данном случае Оксфордском, готовили «джентльменов», которые должны были смотреть на жизнь сквозь призму своего положения в обществе, мыслить стандартно и подавлять в себе все эмоции, связанные с восприятием подлинного искусства, ибо они объявлены «сентиментальностью».
Как же отзывался сам Голсуорси о своих первых литературных опытах? Рассказы сборника «Под четырьмя ветрами» (1897), возникшие в результате его кругосветного путешествия, он считал экстравагантными по тематике, лишенными глубины чувства, философской мысли, темперамента. В процессе работы над романом «Джослин» (1898) он, по его словам, стал постигать то, что называют «ощущением характера», но, говорит он, роман был плох, нельзя было сказать, что он «написан». Вскоре после выхода этих вещей, не имевших успеха, Голсуорси начал читать Тургенева и Мопассана. «Это, – отмечал он, – были первые писатели, которые сразу же возбудили во мне подлинное эстетическое волнение и открыли мне глаза на то, что значит чувство пропорций в трактовке темы и экономия слов. Вдохновленный ими, я начал второй роман – „Виллу Рубейн“. Он больше приближался к подлинному роману, в нем чувствовалась атмосфера и были соблюдены пропорции, но и он все же не был „написан“».
В романе «Вилла Рубейн» (1900) впервые затронута важная для Голсуорси тема – противопоставление искусства, в котором писатель видел животворную, преобразующую силу, дух свободы, нравам общества, чуждого свободной творческой мысли, живущего по омертвелым традициям. Наиболее удался автору образ Николаса Трефри. Его внучка ломает традиции семьи, уходит из дому с художником Гарцем, мятежным человеком, появление которого нарушает устоявшийся уклад жизни на вилле Рубейн.
В основных ситуациях, в трактовке образов романа чувствуется влияние Тургенева, атмосфера «Дворянского гнезда», отчасти «Рудина». По свидетельству друзей Голсуорси, русский писатель оказал на него глубокое духовное воздействие. Сам Голсуорси вспоминал в предисловии к «Холодному дому», что Тургенев овладел его умом и душой, когда он впервые познакомился с ним. Позднее он писал, что видит между ним и Диккенсом следующие точки соприкосновения: глубокое понимание человеческой натуры, глубокий интерес к жизни, глубокую ненависть к жестокости и обману. Изучение Тургенева помогло Голсуорси увидеть, как подлинный писатель подходит к жизни, помогло различить основные силы, действующие в обществе, выразить их через характеры.
Вышедший через год после «Виллы Рубейн» сборник рассказов «Человек из Девона» доставил писателю, по его словам, большее удовлетворение, чем предыдущие вещи, хотя он полагал, что и эти рассказы еще нельзя было считать «написанными». Через несколько лет он основательно переработал их, так же как и «Виллу Рубейн».
Любовь к родному Девонширу помогла автору придать поэтическую прелесть произведению, давшему название сборнику. В рассказе показаны красота девонширской природы, жизнь обитателей приморской деревни (среди них есть потомки пиратов, сподвижников Дрейка), трагическая история молодой любви.
Примечателен в сборнике рассказ «Спасение Форсайта»; в нем впервые выведен представитель семьи, с которой неразрывно была связана почти вся творческая жизнь Голсуорси. Путешествуя в молодости по Европе, Суизин Форсайт случайно сталкивается с семьей венгерского революционера Болешске и его друзьями, участниками революции 1848 года в Венгрии. Перед Суизином приоткрывается дверь в совсем иную жизнь; она привлекает своей необычностью и в то же время отталкивает: ведь она противоречит форсайтским нормам! С точки зрения этих норм неприлична манера открыто и смело выражать свои чувства, да и самые чувства эти так странны. «Свобода, равенство, самопожертвование», – слышать эти слова было «все равно, что смотреть на то, чему нет места при дневном свете». Почему бы им «не заняться каким-нибудь настоящим делом вместо этой болтовни?» Форсайт не в состоянии постигнуть, как можно заниматься тем, что не приносит выгоды. И все же Суизина притягивает семья Болешске, чувство, которое он испытывает к его дочери, похоже на любовь, и, может быть, это единственная подлинная любовь в его жизни. Но форсайтская натура Суизина берет верх: опасаясь, что ему готовят ловушку, чтобы женить его, он обращается в бегство. Суизин спасает свою форсайтскую цельность, но в конце жизни, на смертном одре, он не может отделаться от смутного ощущения, что утратил нечто очень важное.
Позднее Голсуорси писал, что рассказ «Спасение Форсайта» «высвободил сатирика» в нем. И правда, здесь впервые сказался его сатирический дар: Суизин выглядит этаким Джоном Буллем, исполненным сознания превосходства своей страны и своего класса, презирающим иностранцев. Специфические его черты видны особенно четко при столкновении с людьми иных принципов, иной жизненной философии.
Сатирический метод является основным и в «Острове фарисеев» (1904), самом значительном из всех ранних произведений Голсуорси. По его словам, этому роману предшествовали годы духовного напряжения. Сатира заключается уже в самом заглавии. Голсуорси назвал Англию «островом фарисеев», подчеркивая распространенность фарисейства среди английских правящих классов… Как не вспомнить определение Белинского, который воспринимал это характерное для английского общества свойство как всеобщее тартюфство! Вспоминаются и слова М. Горького: «…английское лицемерие – наилучшее организованное лицемерие…»[1]
В письме к американскому критику У.-Л. Фелпсу, автору статьи о Голсуорси, последний опровергал высказанное в статье мнение, будто путешествия помогли ему по-настоящему увидеть Англию. По словам Голсуорси, тут были иные причины; он назвал две из них. С одной стороны, писал он, сыграла роль англо-бурская война, с другой – встреча с бродягой, черты которого получили воплощение в романе «Остров фарисеев» в образе Феррана.
Встреча героя романа Ричарда Шелтона с «деклассированным человеком», выходцем из буржуазной семьи, свободным от всяких условностей, обладающим даром видеть то, что скрыто за фасадом «порядочного общества», – своего рода фермент, возбуждающий в Шелтоне мучительную работу мысли[2]. В результате он обретает способность увидеть в новом свете респектабельное общество, к которому он сам принадлежит, переоценить все то, что казалось ему раньше обычным и естественным. Шелтону становится ясной несправедливость порядка, при котором «один обедает на золоте, а другой отыскивает себе обед в помойной яме». Он видит в то же время, что те, кто принадлежит к верхам общества, выдают этот порядок за правомерный и единственно возможный.
Основное определение истоков фарисейства дано в романе устами бывшего актера – одного из обитателей ночлежки, куда Шелтон попадает в поисках Феррана: «Невыгодно добираться до сути вещей!» Шелтон постепенно осознает, что «суть вещей» во всех областях скрыта покровами фарисейства. Оно царит и в сфере колониальной политики (управление Индией, которое приносит Англии большие барыши, именуется великой и благородной миссией), и в сфере религии (служители церкви закрывают глаза на то, что проповедуемые ими правила абстрактной морали вступают в вопиющее противоречие с тяжелым положением бедняков), и в сфере буржуазной семьи (супруги, чуждые друг другу, вынуждены жить вместе, чтобы не нарушать предписанного государством канона о святости брака), и в сфере искусства («романисты в лайковых перчатках» создают литературу, не имеющую ничего общего с жизнью, а драматурги преподносят зрителям «сладкую кашицу», превращают театр в «рассадник фальшивых чувств и морали»), и в сфере науки (ученые мужи Оксфорда, накапливающие сведения о вымерших племенах и греческих глаголах, стараются не проникать в «суть вещей», связанных с запросами жизни, знают, «когда и где следует остановиться»). Фарисейство царит и в высшем обществе. Светские люди, стремясь сохранить свое достоинство, как члены правящей касты верны неписаному закону, обязывающему скрывать чувства помимо тех, что дозволены хорошим тоном; все, что выходит за эти рамки, объявляется «крайностью». «Чувства?! – казалось, говорил всем своим видом собеседник Шелтона. – Чувства! Я родился в Англии и учился в Кембридже…» Старательно оберегая ощущение собственного превосходства, представители высшего общества страшатся «идей» и содержат «свои мысли и мнения в таком порядке, чтобы ничто чуждое не могло ненароком затесаться между ними». «Чуждыми» они считают мысли о бедности, преступлениях, несовершенстве законов. Именуя все это «мрачными сторонами жизни», они стараются не видеть их и тем самым как бы объявляют несуществующими. Воздвигнув барьеры между собой и людьми «не своего круга», они снисходят до бедняков лишь постольку, поскольку филантропия является для них одним из средств заполнить досуг, так же как игра в теннис; доброта, не требующая жертв, вызывает у них приятное ощущение, «словно массаж ног».
Человеческая неполноценность, стандартизация мыслей и чувств людей высшего общества, которые представляются Шелтону «слепками с какого-то одного оригинала», становятся особенно ясными, когда он сравнивает их с теми, что «на дне», с обитателями ночлежки. В них он видит подлинную человечность, искренность, способность критически мыслить.
На романе сказался тот факт, что автор стремился охватить как можно больше сторон жизни «острова фарисеев»; ряд его мыслей выражен не через образы, а в форме, приближающейся к публицистической. Сам Голсуорси считал, что роман еще не «отстоялся», что «напиток слишком бурлит, чтобы можно было спокойно разлить его в бутылки». Но именно это «бурление» ненависти к фарисеям и придало силу роману Голсуорси. Как выразился его биограф Г.-В. Мэррот, он вонзал стальное оружие иронии и сатиры «в упитанную плоть и ожиревшие души».
Характерные черты персонажей романа выявлены «изнутри», так, как их мог показать человек, который сам принадлежит к этой среде, но поднялся над ней. Именно потому роман этот особенно сильно возмутил буржуазную читающую публику.
Уже в этом раннем произведении Голсуорси проявляется его дар речевых характеристик, получивший развитие в дальнейшем. В этом смысле интересен образ миссис Денант. Вся эгоистическая сущность ее, воспитанное поколениями свойство считаться только со своими интересами выражены в ее речи. Миссис Денант делится с Шелтоном своим огорчением по поводу того, что ее садовник, удрученный потерей жены, стал плохо справляться со своими обязанностями: «Я сделала все, что могла, чтобы подбодрить его, ведь очень грустно видеть его таким подавленным! Ах, дорогой Дик, если бы вы знали, как он калечит мои новые розовые кусты! Боюсь, не сошел бы он с ума; придется мне уволить его, беднягу!» Далее характеристика миссис Денант дается путем так называемой несобственно-прямой речи: «Она, конечно, сочувствовала Беньяну или, вернее, считала, что он вправе погоревать самую малость, поскольку потеря жены – вполне законная и разрешенная церковью причина для скорби. Но впадать в крайности?! Нет, это уже слишком!»
В романе находит действенное применение прием косвенной характеристики через деталь. Чрезвычайно выразительную роль, например, играет рука дорожной спутницы Шелтона – полной дамы с римским профилем. Рука дает представление о том, что ее владелица находится в состоянии презрительного возмущения. Шелтон дал соверен девушке, у которой не было денег на билет, а это противоречит понятиям полной дамы о благопристойности. От «холеной, белой руки веяло необычайным самодовольством и обособленностью; какая-то уверенная праведность в ее изгибе, чопорная жеманность отставленного толстого мизинца – все это приобрело совершенно необъяснимую значимость, словно олицетворение приговора, который вынесли его спутники…».
Снимая один за другим покровы с общества фарисеев, Шелтон подвергает сомнению их право рассматривать мир как свой заповедник и приходит к мысли, что положение, которое занимают они, как и сам он, не более, чем «счастливая случайность». Однако Шелтон не делает последнего, более смелого вывода по поводу системы, порождающей подобные «счастливые случайности».
«Остров фарисеев», в котором дана общая картина буржуазно-аристократической Англии, – своего рода прелюдия к зрелому творчеству Голсуорси, здесь затронуты все волнующие его вопросы современной жизни, которые он рассматривает более пристально в последующих произведениях. В центре романа «Собственник», вышедшего через два года после «Острова фарисеев», стоит проблема семьи – «мощного звена общественной жизни», «точного воспроизведения целого общества в миниатюре». В критике семьи как цитадели устоев буржуазного общества Голсуорси шел по пути своих предшественников – Сэмюэля Батлера, с его романом «Путь всякой плоти», и Бернарда Шоу, назвавшего буржуазную семью «страшным институтом».
На фоне большинства тех романов, которые выходили в Англии в начале XX века, «Собственник» выделился остротой поставленной в нем проблемы. Один из младших современников Голсуорси, Комптон Макензи, писал в своих воспоминаниях, что воздействие этой книги на молодых людей его поколения было подобно электрическому току. Есть все основания считать, что роман «Собственник» – высшее творческое достижение Голсуорси. К такому выводу пришел и сам Голсуорси, который в конце своего творческого пути заметил, что он пишет романы с большим удовольствием, чем пьесы, и что «Собственник» – самое любимое его произведение.
Многое в «Собственнике» помогает понять особенности творчества Голсуорси. Показав в этом романе семью Форсайтов в период ее расцвета (80-е годы прошлого века), писатель через нее дал представление о целом классе, по чьим законам идет жизнь в стране. Форсайты – финансисты, рантье, члены акционерных обществ – принадлежат к эпохе империализма, когда Англия, после утраты своей промышленной монополии, стала вывозить накопленные капиталы в отсталые страны. Они потомки английских буржуа времен славы Англии – «мастерской мира». Их портреты могли бы занять место в галерее, где выделяются такие образы Диккенса, как владелец торгового дома Домби, как фабрикант Баундерби. Но в романе Голсуорси мы, пожалуй, впервые в английской литературе находим такой глубокий, последовательный анализ собственнической психологии, проявляющейся во всем, начиная от взгляда Форсайтов на колонии Британской империи и кончая их отношением к своему меню.
Представление о непосредственной связи между эксплуатацией природных богатств в британских колониях и обогащением Форсайтов дается в одной из первых глав романа. Николасу Форсайту посчастливилось в этот день осуществить свой план использования на Цейлонских золотых приисках одного племени из Верхней Индии. «Добыча на его приисках удвоится, а опыт показывает, как Николас постоянно твердил, что каждый человек должен умереть, и умрет ли он дряхлым стариком у себя на родине или молодым от сырости на дне рудника в чужой стране, это, конечно, не имеет большого значения, принимая во внимание тот факт, что перемена в его образе жизни пойдет на пользу Британской империи».
Автор находит наиболее выразительные средства для раскрытия форсайтизма как распространенного социального явления (Голсуорси подчеркивает, что форсайтизм не ограничивается рамками одной семьи, что Форсайтов множество). Он добивается органического единства между исчерпывающим, можно сказать, научным анализом форсайтизма как характерного явления английской действительности и образным выражением его сущности. Эпитеты, сравнения, метафоры объединены в стройную систему единством цели. Их назначение – содействовать более острому читательскому восприятию сути форсайтского миропонимания. Так, через них автор раскрывает, что значат для Форсайтов деньги и вещи. Деньги стали для них «светочем жизни, средством восприятия мира». «Если Форсайт не может рассчитывать на совершенно определенную ценность вещей, значит, компас его начинает пошаливать…» О том, что глагол «иметь» употребляется не только по отношению к деньгам и вещам, говорит формула о бесчисленных Форсайтах, ведущих дела, «касающиеся того или иного вида собственности (начиная с жен и кончая правом пользоваться водными источниками)».
Критерий денежной оценки, соответствующий строю мыслей Форсайтов, кладется в основу всех авторских определений форсайтизма, в частности в основу характеристики отношений отца и сына. Даже на любви к детям, входящей в сферу чисто человеческих отношений, лежит печать собственнического эгоизма. В основе такой любви – отношение собственника к наследникам своего имущества. Взять хотя бы сравнение: Джемс и Сомс «смотрели друг на друга как на капитал, вложенный в солидное предприятие, каждый из них заботился о благосостоянии другого и испытывал удовольствие от его общества».
Критерий денежной оценки играет роль и в отношениях между братьями; здесь он связан с законом конкуренции, которая царит внутри форсайтского клана, как и в буржуазном обществе в целом. Каждый из шести братьев Форсайтов опасается, что кто-то из пяти остальных «стит» больше, чем он сам. Этот же критерий применяется и к людям, которые приобщаются к клану Форсайтов. Список свадебных подарков, ценность которых зависит от положения жениха, «устанавливался всей семьей примерно так же, как устанавливается курс на бирже».
Великолепны сатирические метафоры, выражающие сущность форсайтизма. При всем их лаконизме они вбирают в себя обширный смысл. «Все Форсайты… живут в раковинах, – пишет Голсуорси, характеризуя собственническую замкнутость Форсайтов, – подобно тому чрезвычайно полезному моллюску, который идет в пищу как величайший деликатес… никто их не узнает без этой оболочки, сотканной из различных обстоятельств их жизни, их имущества, знакомств и жен…» Для Форсайтов – устриц, замкнутых в рамки своего класса, который они отождествляют со всей страной, – эпитет «иностранный» всегда является синонимом всего чуждого их классу, подозрительного и недобропорядочного.
Характер благотворительности Форсайтов определяется метафорой о храме форсайтизма, где денно и нощно поддерживается «неугасимый огонь в светильнике, горящем перед богом собственности, на алтаре которого начертаны возвышенные слова: „Ничего даром, а за пенни самую малость“». Этот девиз получает выразительное подтверждение в конце романа. Маленький Публиус, внук Джемса, подал нищему фальшивую монетку, и под влиянием этого известия удрученный заботами Джемс просветлел.
Предельно краткая метафора «их лица – тюремщики мыслей» характеризует скрытность Форсайтов, их связанное с тем же законом конкуренции свойство не показывать своих мыслей и чувств.
Важную роль в раскрытии форсайтизма играют речевые характеристики Форсайтов. Их разговоры, вращающиеся вокруг курса акций, дивидендов, стоимости домов и вещей, сопровождаются неизменными возгласами: «У Джобсона за это дадут хорошую цену!», «У Джобсона такие вещи уже давно не идут!»; ехидными замечаниями, которыми каждый из них отмечает покупки и продажи другого: «Переплатил!», «Продешевил!» Очень действенна в романе несобственно-прямая речь, когда отрывки разговора вплетаются в авторское повествование. Таким путем, в частности, характеризуются обитатели Форсайтской биржи – дома Тимоти, где «производился обмен семейными тайнами и котировались семейные акции», – передаются интонации своего рода «хора сплетников»; в их вопросах, намеках, недомолвках, замечаниях, сделанных вскользь, проглядывает замаскированное любопытство, порицание, притворное сочувствие, тайное желание уколоть.
Выдающееся достижение Голсуорси – портреты Форсайтов. Рисуя их немногими, но выразительными чертами, он сумел показать нерасторжимую связь индивидуального и типического. В каждом из Форсайтов наряду с родовыми чертами видно, если употеблять выражение Голсуорси, «неповторимое „я“». Оживленные силой авторского мастерства, сходят со страниц книги Форсайты: закованный в броню собственнической самоуверенности Сомс, с его квадратной челюстью бульдога, надменным видом, вызывающим уважение его клиентов; сухопарый Джемс, снедаемый вечной тревогой за сохранность своих капиталовложений и незыблемость собственнического бытия своей семьи, с его вечными возгласами: «Мне никогда ничего не рассказывают!» и «Я так и знал, чем все это кончится!»; величественный, осанистый Суизин во всем великолепии своих жилетов (особый – на каждый случай!), и даже осторожный накопитель Тимоти, который из-за боязни инфекции стал почти невидимым для остальных Форсайтов и для читателей.
Воспринимая Форсайтов как живых людей, читатели спрашивали автора, что сталось с его героями. Многие читатели утверждали, что именно их семья изображена в «Собственнике», а однажды Голсуорси получил письмо, где говорилось следующее: идя по Кокспер-стрит, автор письма встретил человека, которого тотчас же узнал, но не мог вспомнить, где и когда его видел; напрягая память, он вдруг понял, что это был Сомс Форсайт.
Основная мысль Голсуорси – собственническая философия противоречит всему истинно человеческому – становится особенно ясной, когда он рисует мир природы. Движение и яркость красок отличают ее от мертвенности застывшего существования Форсайтов. «Широкие яркие листья блестели в лучах, танцуя под звуки шарманки»; «Над полем дрожал зной, все кругом было пронизано нежным, еле уловимым жужжанием, словно мгновения радости, в буйном веселье проносившиеся между землей и небом, шептали что-то друг другу»; «На дорожку неба между рядами деревьев выбежали новые звезды…» Оживают даже неподвижные пни: «Священная рощица оленей, причудливых пней, фавнами скачущих в летних сумерках вокруг серебристых березок-нимф!»
Но автор запечатлевает и тишину сумерек, и тяжелую неподвижность ненастного дня, улавливая все оттенки «настроений» пейзажа, часто рисуя их в органической связи с душевным состоянием героев.
Если Форсайт – городской житель, как правило, чуждый вольной красоте полей, почему-либо изменяет своей натуре, то вместе с ним в природу вторгается глагол «иметь» или его синонимы. Сомса, выбирающего участок для постройки загородного дома, угнетает тишина луга, но красота открывшегося перед ним вида все же захватывает его: «Против воли что-то ширилось у него в груди. Жить здесь и видеть перед собой этот простор, показывать его знакомым, говорить о нем, владеть им! Щеки его вспыхнули. Тепло, блеск, сияние захватили Сомса так же, как четыре года назад его захватила красота Ирэн».
С женой Сомса Ирэн связана драма в доме собственника. Твердыня форсайтской семьи дает трещину. Сила чувства Ирэн, ее любовь к архитектору Босини вырывает ее из замкнутой сферы, где ей отведена роль прекрасной вещи, обладание которой было венцом собственнических устремлений Сомса.
Показывая перипетии этой драмы, Голсуорси рисует Сомса как мужа-собственника, который считается только со своими чувствами, не желает расставаться с тем, что было им завоевано, проявляет цепкость бульдога, зная, что за его спиной стоит собственническое общество, что на его стороне закон. Голсуорси смог увидеть в семейной драме социальное ее значение. Вместе с тем в изображении этой драмы, как и в блестящем воплощении форсайтизма в живых образах, чувствуется, что писатель знал форсайтский мир «изнутри». Биографические данные говорят о том, что к этому миру принадлежала и семья, в которой вырос Голсуорси. Многое из того, что изображено в «Собственнике» и более позднем романе, «В петле», пережито и выстрадано им самим. Эти переживания роднят его с выразителем его мыслей в романе – молодым Джолионом, который ушел от семьи во имя «недозволенной», по форсайтским нормам, любви, посвятил себя живописи – компрометирующему, с точки зрения Форсайтов, занятию[3]. В Форсайтах Голсуорси воплотил черты некоторых членов своей семьи и своих родственников; в частности, его отец – прообраз старого Джолиона.
В предисловии к трилогии «Сага о Форсайтах», первым романом которой стал «Собственник», Голсуорси писал, что образ Ирэн – «воплощение волнующей Красоты, врывающейся в мир собственников», и что главная тема романа – «набеги Красоты и посягательства Свободы на мир собственников».
Красоту и Свободу символизируют в романе образы Ирэн и Босини. Автор связывает эти образы с искусством, которое в его глазах является великой моральной силой, призванной изменить собственнический мир, внести в него гармонию и чувство пропорций. Эту мысль, характерную для всего творчества Голсуорси, он развивает позднее и в своих статьях.
Противопоставленный собственникам образ Ирэн, исполненный обаяния Красоты, подчеркивает уродство обесчеловечивающего Форсайтов культа денег, сухой утилитаризм духовно убогих людей. Но Красота, задуманная как отвлеченный символ, не имеющая опоры в самой жизни, не может противостоять форсайтизму. Автор, по существу, и не возлагает на нее эту миссию. В письмах к своему другу и критику Эдуарду Гарнету Голсуорси пояснял, что «Ирэн не действует, она пассивна». Эпитеты в романе, относящиеся к Ирэн, прочно связаны с представлением о ее пассивности, загадочности, непроницаемости. Но, подчеркивая, что она чужда миру Форсайтов, Голсуорси создает впечатление, что она непричастна и к жизни в целом.
Отвлеченность его идеала сказалась и на образе Босини. Мысль, что свобода – нечто имманентно присущее искусству и художнику, опровергается в самом романе, где показаны реально сложившиеся отношения между художником и собственническим обществом, которое покупает его талант и губит его. Как художественные образы Ирэн и Босини уступают полнокровным образам Форсайтов. Голсуорси и сам это чувствовал. Как он писал сестре, ему пришлось показать Ирэн и Босини «со стороны», только через восприятие других действующих лиц. «Ни тот, ни другая не наделены жизнью в отличие от Форсайтов; но они выполняют свое назначение». По мысли Голсуорси, назначение Босини в том, чтобы показать своей смертью, что «собственность – пустая оболочка». Можно признать, что автор таким путем показывает моральное поражение Форсайтов, но, по существу, Красота и Свобода сдаются без боя, конфликта между ними и собственниками не происходит. Поиски причин этого приводят нас к выводу, что они таятся в противоречивом отношении автора к Форсайтам. Об этих противоречиях свидетельствует в основном образ старого Джолиона.
Дав трезвый и проницательный анализ форсайтизма, выраженного в образах большинства Форсайтов, Голсуорси возвышает над ними старого Джолиона – собственника по своей сущности – за то, что в нем есть и нефорсайтские свойства: сердечная теплота, чувство юмора, умение мыслить отвлеченно и понимать Красоту. Эти истинно человеческие черты старого Джолиона, противоречащие нормам форсайтизма, не являются, однако, в изображении автора источником внутренней дисгармонии. Здесь таится зерно развившейся позднее мысли о совместимости подлинно человеческих чувств с бытием собственников, облагороженных, лишенных «крайностей» чувства собственности[4]. Вместе с тем автор именно с этим образом связывает мысль о положительном значении класса Форсайтов, отмечая в старом Джолионе «здравость ума, выдержку и жизнеспособность – все то, что делало его и многих других людей одного с ним класса ядром нации». Отмеченные им качества, необходимые для созидательной работы, Голсуорси находит только в Форсайтах, не видя их в английском народе; с другой стороны, он как будто забывает, что у старого Джолиона эти качества были подчинены целям стяжательства. Та же мысль о «ядре нации» проглядывает и у молодого Джолиона в его иронической лекции о «симптомах форсайтизма». Давая меткое определение этих симптомов, он в то же время гипертрофирует значение Форсайтов, как и автор, не видя в английской действительности сил, способных им противостоять. Таким образом, сатирическая линия, очень четкая в начале романа, не получает логического развития.
В то же время в романе проступает мысль, свидетельствующая об ощущении автором «духа времени».
Хотя Форсайты не воспринимают гибель Босини как свое поражение и все в форсайтском мире остается неизменным, автор дает понять, что с этой гибелью связана первая трещина в твердыне форсайтского благополучия. Свою мысль он выражает через символ: смерть Босини – удар молнии в семейное дерево Форсайтов, которое уходит корнями в закон собственности. «На взгляд посторонних, оно еще будет цвести, как и прежде, но ствол его уже мертв». Предчувствием угрозы форсайтскому семейному очагу – этой основе основ собственнического бытия – проникнута и нарисованная в первой части книги сцена похорон тети Энн, старшей в роде Форсайтов. Сравнивая клан Форсайтов с деревом в разгар цветения, «почти отталкивающим в своей пышности», Голсуорси уже предчувствует, что дерево это должно засохнуть. Его предчувствие было порождено обстановкой, сложившейся в начале XX века, когда создавался «Собственник»; писатель ощущал, что стабильное существование Форсайтов, принадлежащих XIX веку, отходит в прошлое.
«Собственник» был задуман как самостоятельное произведение. Лишь через 12 лет автор вернулся к Форсайтам и продолжил эпопею этой семьи[5].
С выходом «Собственника» Голсуорси прочно занял одно из первых мест в английской литературе своего времени. Правда, реакционная критика, тотчас же почувствовавшая, что в «Собственнике» изображены «вещи как они есть», выразила свое недовольство романом. В частности, автор рецензии в журнале «Спектейтор» сожалел, что Голсуорси нашел такое применение своему таланту, предупреждал, что к книге надо подходить с большой осторожностью, ибо из-за «уродливых мест» она производит «гнетущее впечатление» и это делает ее неприемлемой для широкого читателя.
Иначе встретила та же критика вышедший вслед за «Собственником» роман Голсуорси «Усадьба» (1907). Так, рецензент «Таймс» нашел, что это произведение «хотя и менее сильное, но более приятное, а также более правдивое».
В «Усадьбе» нет той резкости и четкости постановки проблемы, как в «Собственнике». Но автору удается дать образное представление еще об одном слое собственнического общества – земельном дворянстве, также занимающем «место наверху». В образе помещика Хорэса Пендайса нашла прекрасное воплощение черта, которую автор определяет как проявление «пендисита» – тупая уверенность в том, что именно дворянство унаследовало от предков и призвано передать потомкам право управлять страной, что для этой цели привилегированные учебные заведения будут вечно поставлять государству все новые кадры, что порядок этот незыблем и вечен. Эти убеждения Пендайса сформулированы в его выразительном «символе веры»: «Верую в отца моего, и в его отца, и в отца его отца, собирателей и хранителей нашего поместья, и верую в самого себя, и в сына моего, и в сына моего сына. И верую, что мы создали страну и сохранили ее такою, как она есть. И верую в закрытые школы и особенно в ту школу, где я учился! И верую в равных мне по общественному положению, и в усадьбу, и в порядок, который есть и пребудет во веки веков. Аминь».
Твердо убежденный в том, что его сословие – оплот государства, Пендайс берет на себя роль блюстителя нравственности по отношению к фермерам-арендаторам, живущим на его земле. Тесный контакт его с преподобным Хасселом Бартером, «за спиной которого стоят века неоспоримой власти церкви», вполне понятен. Основное место в романе занимают события в семейной жизни Хорэса Пендайса: переживания миссис Пендайс, любимой героини автора, не понятой мужем и сыном Джорджем – людьми с более грубой душевной организацией, перипетии любви Джорджа к Элен Белью, которая ушла от мужа, но не получила развода. Здесь снова ставится вопрос о семье, о жестокости и лицемерии буржуазного закона о браке – вопрос, к которому Голсуорси постоянно возвращается в своем творчестве; ему, в частности, посвящена пьеса «Беглянка» (1912). Но в отличие от «Собственника» семейная драма здесь лишена значительности, так же как и действующие лица ее. По своей жизненной убедительности ни один из образов романа не может сравниться с образом Хорэса Пендайса.
О тех, кто находился за пределами замкнутого круга Пендайсов и Форсайтов, о «другой нации», Голсуорси поднимает вопрос в пьесах «Серебряная коробка» (1906) и «Борьба» (1909), в сборнике рассказов «Комментарий» (1908), в романе «Братство» (1909).
Постановку «Серебряной коробки», своей первой пьесы, Голсуорси охарактеризовал позднее в письме, относящемся к 1925 году, как «вторжение» в английский театр, «продиктованное возмущением против искусственности английских пьес того времени и решительным намерением представить на сцене реальную жизнь». Насколько необходимо было такое «вторжение», можно судить хотя бы по замечанию английского драматурга Г.-А. Джонса, что драматургия в Англии находилась в течение всего XIX века в состоянии интеллектуального паралича. Голсуорси встал на путь Бернарда Шоу, предпринявшего в конце XIX века поход за то, чтобы сломить в английском театре дурную традицию искусственных пьес и вынести на сцену острые проблемы действительности. Свои мысли о состоянии английского театра Голсуорси высказал еще в 1903 году в статье «После просмотра пьесы». Он отмечал в ней, что современные драматурги, обладающие «практическим здравым смыслом», поставляют из года в год пьесы, отвечающие определенным стандартам. Вместо того чтобы показывать реальную жизнь, они исходят из готовой схемы. Все действия персонажей, их речи, исполненные риторики и сентиментальности, продиктованы занимаемым ими «положением в обществе». Конец пьесы неизбежно сводится к торжеству добродетели.
«Серебряная коробка» Голсуорси явилась полной противоположностью таким пьесам; здесь нет хитросплетенной интриги, которой подчинены действия персонажей, нет «счастливого конца». На сцене – сама жизнь, с теми ее проблемами, которые встали в Англии в первые годы XX века: тяжелый экономический кризис, массовая безработица. В обнаженной форме показан реальный жизненный конфликт, подлинное соотношение сил в обществе. На одном полюсе его – семья члена парламента Бартвика, на другом – семья безработного Джонса. «Тут человек камни готов ворочать до кровавого пота… а ему не дают. И это справедливость, и это свобода, и все прочее» – так в возгласе Джонса выливается горечь, накопившаяся в его душе за то время, что он обивал пороги, выпрашивая работу, как милостыню. Случай сводит Джонса, доведенного безработицей до отчаяния, с сыном Бартвика – Джеком, «безработным богачом», живущим в свое удовольствие. Оба они в пьяном виде совершают аналогичные проступки, но Джонс фигурирует на суде как подсудимый, Джек Бартвик благодаря стараниям отца и искусного адвоката – лишь как свидетель. «Видимость и сущность» – так можно сформулировать мысль, лежащую в основе пьесы. Торжественно провозглашенное равенство богатых и бедных перед законом – по существу, лишь фикция. Критерий для тех, кто творит буржуазное правосудие, – имущественное положение подсудимого; материальная обеспеченность – сертификат благонадежности. За «принципиальностью» мистера Бартвика, буржуазного либерала, почтенного члена парламента, скрывается отсутствие принципов. Вместо них страх быть скомпрометированным из-за поведения сына. Маска высокой добродетели миссис Бартвик, стоящей на страже морали, скрывает душевную жесткость по отношению к нижестоящим, безграничную снисходительность к порочным наклонностям сына.
Теме двух полюсов социальной жизни посвящен сборник рассказов Голсуорси «Комментарий». Мир горя и нищеты противопоставлен миру сытых и самодовольных. Автор рисует беспросветно тяжелый труд людей, объятых вечным страхом потерять работу, и отчаяние тех, кто ее уже потерял («Комментарий», «Страх», «Пропащий человек»), трагедию стариков, которые, проработав всю жизнь, находятся на грани голодной смерти («Старость»). Большинство бедняков, фигурирующих в рассказах этого сборника (как и сборника «Смесь», вышедшего два года спустя), отличает безропотный стоицизм. Характерное выражение его автор дает в рассказе «Надежда» в образе хромого уличного торговца, который продает за гроши птичий корм. Во всякую погоду на людном перекрестке стоит «обтрепанная статуя, олицетворение человеческого свойства – „Мужество без Надежды!“.
Мысль о том, как позорно для Англии наличие вопиющей нужды на ее земле, выражена в проникнутом горькой иронией рассказе „Ребенок“. С маленьким мальчиком из бедной семьи, бледным заморышем, лишенным детства, вдруг произошла необычная вещь: он засмеялся. Раздался жесткий звук, „как будто ударились друг о друга две дощечки“. В смехе ребенка автору слышится смех миллионов таких же полуголодных детей. „Это смеялось Будущее нации, самой богатой, самой свободной и гордой из всех когда-либо живших на земле…“
Рассказы „Дом молчания“ и „Порядок“ посвящены теме, занимающей Голсуорси на протяжении всего его творчества. Он показывает здесь антигуманность пенитенциарной системы в буржуазном обществе, рассчитанной на то, чтобы духовно подавить заключенных, и утверждает, что это общество в силу своего несправедливого устройства несет ответственность за тех, кто совершает преступления. Та же идея выражена в рассказе „Заключенный“ из сборника „Смесь“ и в вышедшей в одном году с ним пьесе „Правосудие“. Голсуорси считает также, что общество ответственно за унижение женщин, которых гонит на улицу нужда; тема проституции, поставленная в одном из рассказов сборника „Комментарий“, также является „сквозной“ в его творчестве.
„Сытые“ представлены в рассказе „Мода“ в образе дамы в экипаже, приученной думать, что цель ее жизни – заботиться о своем чистом, хорошо упитанном теле; в рассказе „Комфорт“ – в образах тех, кто старается всячески оградить себя от неприятных впечатлений, связанных с существованием „низов“.
В подтексте рассказов сборника заключена мысль автора, что спасти положение могут реформы, но он видит препятствия к осуществлению своих скромных надежд и дает портреты тех, кто хочет, чтобы существующий порядок был незыблем. Это финансист в рассказе „Деньги“, который сопротивляется созданию пенсионного фонда путем увеличения подоходного налога[6]; это правительственный чиновник, который старается предохранить государственный корабль от всяких реформ, чтобы курс его оставался неизменным („Власть“); это член парламента, который относится с симпатией ко всем социальным законопроектам, но считает менее рискованным тормозить их („он чувствовал, что, не будь его, страна слишком быстро двигалась бы по пути прогресса“) („Осторожный человек“).
Именно в реформах в рамках существующей системы видит Голсуорси выход из тяжелого положения народа; об этом свидетельствуют также его статьи и высказывания. Подобно своим положительным героям, он, обладая, по выражению английских критиков, „социальной совестью“, смотрит на людей из народа глазами человека, который глубоко им сочувствует, но отделен от них довольно значительной дистанцией. Ему представляется, что народу необходима благожелательная опека состоятельных людей, проникшихся пониманием его положения. Предоставленный себе народ, доведенный правящими классами до состояния деградации, может стать опасным. Эта мысль выражена в рассказе „Демос“, отличающемся от большинства рассказов сборника, где изображены вызывающие сочувствие автора одинокие бедняки. По мнению Голсуорси, люди из „низов“, объединившись, станут грубой, озверелой массой, склонной к безрассудным насильственным действиям.
Но уже в 1909 году ставится пьеса Голсуорси „Борьба“, рисующая организованные действия бастующих рабочих (подобная пьеса, вероятно, впервые была поставлена английским театром!), не сопровождающиеся грубостью и насилием. Создание пьесы с таким необычным для Голсуорси сюжетом объясняется тем, что он не старался закрывать глаза на факты, не отвечавшие его взглядам, но пристально всматривался в явления английской действительности, которую отличали в то время напряженность экономической и политической обстановки, рост стачечного движения. Голсуорси увидел основной для своего времени конфликт между трудом и капиталом и почувствовал весь драматизм его.
Правда, взгляды Голсуорси помешали ему глубоко понять суть описываемых им событий и неизбежность их. Вот почему он как бы ставит на одну доску председателя правления компании Джона Энтони, отстаивающего собственнические интересы, и рабочего Робертса, руководителя стачечного комитета, который борется за то, чтобы рабочие были избавлены от нужды и страданий; писатель рисует конфликт между ними как состязание двух упрямцев: ни тот ни другой не хотят сдавать свои позиции, более „широко“ посмотреть на вещи, хотя такое упрямство и идет в ущерб делу. Когда остальные члены правления, боясь снижения прибылей, за спиной у Энтони и Робертса заключают компромиссное соглашение с профсоюзом, оказывается, что они делают это на условиях, первоначально предложенных профсоюзом, и, следовательно, вся длительная, ожесточенная борьба была напрасной, как напрасна, по мысли автора, и классовая борьба в целом.
В романе „Братство“, вышедшем, как и „Борьба“, в 1909 году, на „верхнем полюсе“ изображены представители интеллигенции. „У каждого из нас есть своя тень там, на тех улицах“, – говорит профессор Стоун, подразумевая кварталы бедняков. В утопической книге о всемирном братстве, над которой он работает, современное общество, названное „кастовой пагодой“, изображено как отошедшее в прошлое; люди этого общества „жили в различных слоях, отделенные друг от друга, класс от класса… Среди трупов бесчисленных жертв тучнели и багровели полчища мясников, физически окрепшие от запаха крови“. Стоун провидит время, когда рухнут перегородки „кастовой пагоды“ и на земле воцарится всемирное братство. Единственный путь к этому – любовь; восставший пролетариат – опасная сила. Профессор Стоун, изображенный маньяком (хотя Голсуорси и высказывает через его посредство некоторые свои мысли), витает в обособленном мире. Но перед остальными героями романа реально встает проблема кастовых перегородок; о ней заставляют их думать „тени“, с которыми они сталкиваются волей случая, – метельщик улиц Хьюз, его жена, старый продавец газет, девушка-натурщица. Голсуорси выдвигает в центр романа отношение к этой проблеме поэта Хилери Даллисона, видя в нем, как он писал впоследствии, слабость, характерную для современной писателю интеллигенции.
Хилери Даллисон способен увидеть порочные черты своего класса, осознать бедственное положение народа, но, считая, что избавления можно ожидать лишь „сверху“, он видит препятствия к этому в том, что среди десятков тысяч людей, принадлежащих к привилегированным классам, только несколько тысяч обладают „социальной совестью“, „…а многие ли даже среди нас, – говорит он, – готовы… поступать так, как подсказывает нам наша совесть… боюсь, что мы слишком резко разделены на классы. Человек всегда поступал и поступает как член своего класса“. Влечение к „маленькой натурщице“ приводит Хилери к тому, что он готов переступить кастовые перегородки, но внезапно он осознает, что мир, к которому она принадлежит, слишком чужд ему. В романе уловлены сдвиги в сознании английской интеллигенции, ее тревога при мысли о пропасти, отделяющей ее от народа. По словам Джозефа Конрада, „Братство“ – голос „совести эпохи, услышанный Голсуорси“. К этому мнению близок отзыв М. Горького о романе. Рекомендуя книгу для издания на русском языке, он писал: „Мне кажется, что к ней нужно дать небольшое предисловие на тему о развитии самокритики в английском обществе…“[7]
Неудивительно, что буржуазная пресса обрушилась на „Братство“. Характерен следующий отрывок из рецензии на этот роман в журнале „Сатердей ревью оф литератюр“: „Мистер Голсуорси выпустил в форме романа очень опасную и революционную книгу. „Братство“ – не более, не менее, как ожесточенная атака на нашу социальную систему. Роман рассчитан на то, чтобы унизить правящий класс и внушить публике предубежденный взгляд на многие важные проблемы. Автор нарушил все каноны искусства и сделал свой роман средством политической пропаганды“.
Из приведенных здесь примеров рецензий буржуазной критики на произведения Голсуорси видно, как сильно было давление реакции на английскую литературную жизнь. Писателя, возлагавшего надежды на реформы, на постепенную эволюцию, обвиняли в ниспровержении устоев, называли социалистом. С другой стороны, эта атмосфера дает нам представление о смелости, которая необходима была Голсуорси, чтобы „идти против течения“.
Многочисленные высказывания Голсуорси о русском романе – в его глазах, „великой живительной струе в мире современной литературы“ – позволяют сделать вывод, что в данной обстановке для писателя, который стремился высоко держать знамя реализма, русская литература служила опорой. Выше уже говорилось о глубоком духовном воздействии Тургенева на Голсуорси в начале его творческого пути. На зрелых произведениях английского писателя отразилось его творческое общение с Толстым.
Еще в 1902 году, после прочтения „Анны Карениной“, Голсуорси писал переводчице романа Констанции Гарнет, что в его глазах искусство Толстого нечто совершенно новое, ни с чем не сравнимое; особенно поражала его глубина проникновения Толстого во внутренний мир человека. В статье об Эдуарде Гарнете (пропагандировавшем в Англии русскую литературу) Голсуорси, отмечая необычайную жизненную силу Толстого и никем не превзойденное стремление к правде, называл его величайшим из всех русских писателей. Толстой, чья роль великого обличителя буржуазной цивилизации явилась для всей Европы, по выражению Э. Гарнета, знамением духовного беспокойства, охватившего современный мир, помог английскому писателю глубже осознать порочность буржуазного общества. Голсуорси видел в английской действительности и осмысливал в своем творчестве проблемы, которые поднимал и Толстой: пропасть между „верхами“ и „низами“, паразитизм и фарисейство привилегированных, бедственное положение народа, жестокость, лицемерие внутренней и внешней политики государства, неравенство богатых и бедных перед законом, лицеприятие суда, виновность общества в преступлениях его членов, ложные основы буржуазной семьи. Близость к Толстому особенно чувствуется в таких произведениях Голсуорси, как „Остров фарисеев“, „Собственник“, „Братство“, „Серебряная коробка“. Однако в отличие от Толстого, который в своей разрушительной критике самых основ буржуазного общества выражал протест народа, Голсуорси, ставя те же проблемы, трактует их более узко; здесь сказались исторические условия развития английского общества, влияние на писателя реформистской идеологии. Иное, чем у Толстого, отношение к народу, неверие в его духовные возможности видно, в частности, в статье Голсуорси „Неопределенные мысли об искусстве“, в которой он возражает против критерия народности, выдвинутого Толстым в трактате „Что такое искусство?“.
Названная статья Голсуорси, включенная, как и ряд других, написанных им до войны статей об искусстве и литературе, в сборник „Гостиница успокоения“ (1912), примечательна еще в одном смысле. Одновременно с рядом верных положений здесь выражена мысль о том, что только искусство, с его чувством пропорций, может привести к гармонии и равновесию в отношениях между людьми. Эта мысль перекликается с другими высказываниями писателя, судя по которым он считает отличительной чертой миропорядка столкновение противоположных принципов – света и тени, жизни и смерти и т. д. Тот же процесс, по его мнению, происходит в природе, в жизни человека, в сфере его морали. В результате конфликта противоположных начал устанавливается равновесие. В подобных рассуждениях сквозит мысль, что именно таким путем, а не посредством классовой борьбы будет достигнута гармония в социальной жизни. Сосредоточивая внимание главным образом на моральном аспекте социальных противоречий, обвиняя людей высшей касты в гипертрофии чувства собственности, эгоизме, черствости, фарисействе, Голсуорси считает, что гармония будет установлена, если они освободятся от этих свойств и обретут чувство пропорций в моральной сфере. Такой ход мысли противоречит логике его произведений, из которых явствует, что все эти черты собственников, как и дисгармония в собственническом обществе, неразрывно связаны с самими его основами.
Стремление Голсуорси отделить моральные свойства людей от обусловившей их, как он сам же показывает, социальной сущности, истолковать в абстрактном плане очень конкретные факты, отраженные в его же произведениях, противоречивость подхода ко многим явлениям – все это говорит о том, что ему нелегко было „идти против течения“, что творчество для него было далеко не спокойным процессом. Голсуорси пытался преодолеть в себе мироощущение, связывавшее его с его классом, и именно победам в этой борьбе, хотя бы и неполным, он как художник обязан своими достижениями.
О внутренней борьбе, сопряженной с его творческой работой, Голсуорси упоминал не раз. Он писал Гарнету, что в процессе работы над основными своими романами у него всегда было ощущение, что в нем сидят два человека, причем один из них, олицетворяющий творческое начало, атакует „того, другого“, в ком воплощены черты, связывающие его с кастой. В свете этого письма становится понятным высказывание Голсуорси в предисловии к „Братству“, вышедшему в Собрании сочинений в 1930 году. Давая понять, что в некоторых образах он воплощает свои собственные черты, Голсуорси писал: „Рассекая Хилери… Сомса Форсайта… их создатель чувствует, как нож глубоко вонзается в него самого“. Пытаясь разобраться в этом неожиданном – в отношении образа Сомса – признании, проследить нити родства автора с Сомсом, отвлекаясь при этом от всего грубособственнического в образе последнего, мы можем предположить, что „сомсовское начало“ в писателе – это некая внутренняя скованность, ощущение невозможности совсем отделиться от „раковины“, образованной традициями давно устоявшейся жизни класса, – при всем критическом отношении к ним; это привычка смотреть на тех, кто вне раковины, как на людей иного мира, – при всем сочувствии к ним и сознании тяжести их положения.
В своем письме к Гарнету Голсуорси выражал мысль, что критическая линия его книг была действенной именно потому, что он по опыту хорошо знал свойства, которые критиковал в своих персонажах. Нельзя, однако, не заметить, что „тот, другой“ человек в Голсуорси порой оказывается сильнее своего критика.
Это проявляется в романе „Патриций“ (1911), в котором выведены крупные землевладельцы-аристократы. Прочитав роман в рукописи, Гарнет почувствовал отступление от той линии в творчестве Голсуорси, которая была начата „Островом фарисеев“. В своих письмах к другу, который был дорог ему как писатель, он всячески стремился дать ему это понять. Основное отличие „Патриция“ от предыдущих романов Гарнет справедливо находил в том, что здесь в изображении аристократии нет той определенности и четкости, с которой Голсуорси ранее изображал представителей других классов.
Голсуорси отвечал Гарнету, что обличение аристократии не являлось его целью; это был бы слишком легкий путь. Став на него, он свел бы на нет основную линию книги. Его цель – показать, как воздействует на духовный облик героев романа их привилегированное положение, привычка повелевать, как это ведет к стандартизации, бесплодной сухости их внутреннего мира. Он стремился также показать, по его словам, столкновение кастового духа с поэтической стороной жизни, с любовью. Далее Голсуорси пояснял, что его творчество вступает в новую фазу, в нем ослабевает критическая линия, элемент сатиры и в то же время растет стремление к красоте, и высказывал предположение, что это, может быть, признак возраста.
Герой романа „Патриций“ лорд Милтоун и его сестра Барбара каждый по-своему, сталкиваясь с людьми иной среды, узнают „поэтическую сторону жизни, любовь“. Но каждый из них, пройдя через мучительные переживания, все же остается верным традициям своего класса, причем Милтоун жертвует любовью ради политической карьеры.
По окончании „Патриция“ Голсуорси записал в дневнике, что это последний из серии романов, в которых дан критический обзор различных слоев общества (буржуазии – в „Собственнике“, земельного дворянства – в „Усадьбе“, интеллигенции – в „Братстве“, аристократии – в „Патриции“). В конце одного из писем Голсуорси к Гарнету по поводу „Патриция“ стояла фраза: „Во всяком случае, роман заканчивает то, что я начал „Островом фарисеев“. Аминь“.
Такое „финальное“ слово заставляет предположить, что писатель отказывается от своей роли критика общества. Следующий его роман, „Темный цветок“ (1913), не опровергает это предположение. Писатель вместе с героем романа скульптором Марком Леннаном уходит в сферу ничем не стесненных чувств. Любовь – „темный цветок страсти“ – рисуется как всепоглощающая сила, перед которой человек бессилен. Здесь происходит расщепление психологической и социальной тем, обычно слитых у Голсуорси, и нельзя сказать, чтобы художник от этого выиграл.
Но Голсуорси еще только один раз обращается к роману, близкому по типу к „Темному цветку“ („Сильнее смерти“, 1917).
Писатель его склада не мог искусственно изолировать себя от жизни с ее многообразными вопросами, они тревожили его, и среди них был один из самых острых – политика его страны в колониях. В 1914 году выходит пьеса Голсуорси „Толпа“, в которой осуждаются британские „цивилизаторы“, развязывающие войну против маленького народа за отказ подчиниться им. Голсуорси и здесь склонен рассматривать вопрос в плане отвлеченной морали: поясняя действия своего героя Стивена Мора, заместителя министра, настойчиво выступающего против политики правительства, он подчеркивает, что дело не столько в защите малых стран, сколько в том, что человек должен упорно отстаивать свои идеалы. Но объективное положение вещей правдиво освещено в пьесе, особенно хорошо показан образ мышления колонизаторов, прикрывающих жестокость своей грабительской политики фразами о необходимости „наказания“ „дикого, не ведающего законов“ народа.
Острая проблема поднята и в романе „Фриленды“ (1915), по своему духу примыкающем к серии романов, начатой „Островом фарисеев“. Это знакомая нам по „Усадьбе“ проблема отношений между фермерами-арендаторами и помещиками, считающими себя вправе быть моральными судьями зависящих от них людей, но здесь эти отношения принимают форму конфликта, разрешающегося стачкой арендаторов и сельскохозяйственных рабочих в знак протеста против навязанной им моральной опеки. Писатель, относившийся отрицательно к решительным массовым действиям, разумеется, осуждает стачку, но, давая почувствовать атмосферу морального гнета, созданную помещиками Маллорингами, он тем самым вскрывает причины, вызвавшие эту стачку.
В романе слышатся отголоски идей Толстого, в частности высказанная в связи с трагической историей фермера Триста мысль, что общество само толкает людей на преступления, а потом судит их несправедливым судом. В манере, напоминающей Толстого, в резко контрастном противопоставлении даются параллельно картины жизни помещика Маллоринга и фермера Триста, живущего на его земле. В романе отражена обычная для Голсуорси тревога в связи с упадком сельского хозяйства Англии, наступлением индустриального города на деревню. Он высказывает мысль о губительном влиянии техники на жизнь людей, о необходимости „возврата к земле“. Джону Фриленду, крупному чиновнику, и Стенли Фриленду, промышленнику, воплощающим дух касты, противопоставлен их младший брат Тодд – своего рода „толстовец“, который вместе с членами своей семьи ведет „опрощенную“ жизнь, сам обрабатывает землю.
Роман „Фриленды“ вышел в свет уже во время Первой мировой войны.
Война вызвала у Голсуорси самые различные мысли и чувства, которые нашли выражение в его статьях („Первые мысли о войне“, „Искусство и война“, „Литература и война“, „Воля к миру“ и др.). Представления Голсуорси о том, что Англия сражается за свободу, демократию и справедливость (здесь сказалось влияние на него британской пропаганды), перемежаются с взглядами на войну как на чудовищное безумие, внезапно охватившее мир, с попытками рассматривать войну в свете своих абстрактных воззрений по поводу „борьбы противоположных принципов“, – он объявляет ее взрывом диких инстинктов, давно не находивших выхода, взрывом, после которого, возможно, очистится атмосфера. Писателя часто тревожат опасения, что война углубит социальные противоречия, вызовет острые конфликты, возможно, гражданскую войну. Надо всем преобладает, однако, ненависть к бессмысленной жестокости войны, влекущей за собой неисчислимые страдания и жертвы, ненависть к шовинистическим настроениям, разжигаемым в стране.
Этими чувствами продиктованы и художественные произведения, написанные Голсуорси в связи с войной.
Война вторгается в жизнь людей, разрушает узы семьи, все человеческие отношения, требует напрасных жертв – такой предстает она в рассказах „Присяжный“, „Рассказ учителя“, „Распря“. В рассказе „Хандра“ прекрасно передано душевное состояние солдата, который накануне выписки из госпиталя лежит на траве, думая о том, что завтра ему снова надо вернуться на фронт, видеть искалеченные тела, крыс, снующих между трупами, слышать рев орудий; чудовищную противоестественность этого подчеркивает картина безмятежного летнего дня, шелест листьев ивы, стрекотание цикад. О том, как страна вознаграждает тех, кто сражался за нее, говорит рассказ „Человек с выдержкой“. В фантастическом рассказе „Казнь“ автор выражает мысль об ответственности своего поколения за гибель молодежи. Осуждение озлобленного, фанатического национализма звучит в рассказах „Все имеет свою хорошую сторону“, „А собака подохла!“, „Поражение“, „Митинг в защиту мира“. Шовинизм осуждается и в романе „Путь святого“ (1919), который интересен также своей мыслью о несовместимости догматов христианской религии с живой жизнью.
В военные годы Голсуорси написал ряд произведений, которые говорят о развитии его сатирического дара. К ним принадлежит книга „Горящее копье“ (1919), высмеивающая тех, кто создает атмосферу военной истерии, и тех, кто является ее жертвой, этюды „Гротески“ (1919), где дается сатирическое изображение жизни Англии во время войны, ее политики, культуры и быта. Очень остроумны „Экстравагантные этюды“ (1915) – серия сатирических портретов.
В Великой Октябрьской революции Голсуорси увидел подтверждение тех дурных предчувствий, которые у него были во время войны. Писатель, всю жизнь высказывавшийся против ломки общественной системы, которую он критиковал, не мог не ощутить тревогу, наблюдая ту огромную ломку, тот переворот в истории человечества, которые знаменовал собой Октябрь. Опасением, что революция может перекинуться в Англию, во многом определено его умонастроение, вызвана мысль о необходимости добиваться классового мира в стране.
Но Голсуорси не перестает чувствовать себя критиком общества, он видит, что те явления, которые он осуждал на протяжении своего творчества, приобрели гораздо более острую форму в послевоенной Англии. Сознавая еще более ясно, чем прежде, ответственность писателя перед обществом, он выступает с воззваниями и статьями (такими, например, как „Международная мысль“), главная цель которых – предостережение против угрозы новой войны, призыв к объединению сил интеллигенции всех стран в борьбе против производства новых средств разрушения. В своей положительной программе писатель нередко высказывает наивные суждения, но главное в этих статьях – его тревога за судьбы человечества.
В статьях, посвященных литературе, Голсуорси с новой силой обосновывает теоретически свои позиции писателя-реалиста. В атмосфере углубившегося после войны духовного кризиса, распространения декадентской литературы, с ее антигуманистическими тенденциями, он твердо отстаивает взгляды на искусство как средство общественного воздействия, считая, что долг художника – влиять на этику своего времени. Признавая необходимость эксперимента, содействующего развитию искусства, Голсуорси считает, что на долгую жизнь может претендовать лишь эксперимент, который с необходимостью вытекает из самой темы, произведения же тех, кто экспериментирует только во имя новизны и эффекта, умрут очень скоро. В противовес декадентам, которые отказывались от изображения характеров, Голсуорси считал, что писатель именно путем создания характеров и их окружения должен вносить свой вклад в социальные и этические ценности своего времени. В статье „Создание характера в литературе“ он, говоря о бессмертных образах мировой литературы, ссылается, в частности, на историю создания Тургеневым образа Базарова и значение этого образа.
Мысль о принципе подчинения выразительных средств содержанию заключена в статье „О выражении мыслей“, в которой писатель выступает против формалистических упражнений в области языка, служащих самоцелью. Кстати сказать, сам Голсуорси – один из лучших стилистов Англии, обладавший тонким чувством языка, искусно использовавший всю его гибкость, и его творчество – пример того, как плодотворны могут быть новаторские опыты в этой сфере, если они служат цели наибольшей выразительности.
Отстаивая принципы реализма в теоретических статьях, Голсуорси следует им в своем творчестве. Об этом прежде всего говорят его довольно многочисленные рассказы, выходившие после войны. Они противостоят аморфным декадентским новеллам, с символическим „вторым планом“, и, с другой стороны, чрезвычайно распространенному типу английской и американской новеллы, с острым сюжетом, обязательным напряжением кульминационных пунктов и эффектной концовкой. Таким образом, Голсуорси осуществлял принцип, которому он настойчиво призывал следовать молодых писателей: быть верным себе, не гнаться за модой, не подчинять свой талант требованиям книжного рынка. В рассказах Голсуорси нет ничего необычайного; в них дана повседневная жизнь, но образы, которым подчинен сюжет, побуждают задуматься над тем, что представляет собой эта повседневная жизнь, часто страшная именно своей повседневностью, каковы нравственные качества людей, подвергающиеся испытанию в тех или иных жизненных ситуациях.
В 1918 году вышел сборник Голсуорси „Пять рассказов“. Одному из этих рассказов суждено было стать знаменательной вехой на его творческом пути. Это „Последнее лето Форсайта“, где снова перед нами предстает старый Джолион, удалившийся от дел, „очищенный“ от всего собственнического; именно потому гармоничность его образа не кажется искусственной. Автор рисует его молчаливую любовь к Ирэн в последний для него „месяц лета в полях и в его сердце“. Поэтическая проза рассказа подчинена единому ритму, проникнута настроением шекспировских строк, взятых эпиграфом: „И жизни летней слишком срок недолог“. Старый Джолион, возлюбивший красоту больше разума, умирает сидя под дубом, в буйный, яркий день.
Рассказ „Последнее лето Форсайта“ можно сопоставить по контрасту с другим рассказом сборника, „Цвет яблони“, герой которого, связанный прочными узами с традициями своего класса, проходит мимо настоящей любви и осознает это только на склоне лет.
Иного рода ассоциацию „Последнее лето Форсайта“ вызывает с рассказом того же сборника „Стоик“. Если, возвышая старого Джолиона, автор дает в его образе противоположные качества в „сбалансированном“ виде, то герой „Стоика“ поднимается на щит именно как стопроцентный собственник, воплощение прозорливости, выдержки, смелости в деловых операциях – качеств дельцов „старой школы“, отличающих его от буржуа новой формации.
„Последнее лето Форсайта“ явилось для его автора стимулом к тому, чтобы продолжить семейную хронику Форсайтов, с которыми он расстался двенадцать лет тому назад. „Думаю, что то воскресенье в июле 1916 года в Уингстоне, – писал он впоследствии, – когда я внезапно почувствовал, что могу продолжить историю своих Форсайтов на протяжении еще двух томов, со связующим звеном между ними, было самым счастливым днем в моей творческой жизни“. Этими двумя томами явились романы „В петле“ и „Сдается внаем“. „Связующим звеном“ между ними стала интерлюдия „Пробуждение“.
Голсуорси возвращается к Форсайтам после того, как совершилась величайшая в истории революция. Тревожное состояние духа писателя отражается на его видении жизни послевоенной Англии; ее положение, как он писал позже, представляется ему „расплывчатым и безысходным“, и это заставляет его нередко обращаться мыслью к прошлым, более устойчивым в его глазах временам.
В романе „В петле“ мы снова погружаемся в мир Форсайтов и прежде всего утверждаемся в мысли, что соприкосновение с ними автора, в области ли романа или рассказа, производит на него как бы магическое действие. Он вновь постигает секрет жизненности характеров, с которыми не могут сравниться характеры других его произведений.
Действие романа „В петле“ происходит в 1899–1901 годах, и здесь по-прежнему царит собственнический комплекс Форсайтов во всех его проявлениях; глагол „иметь“ применяется ко всему, что они считают своим, от колоний до жен. Эта философия получает исчерпывающее воплощение всего в нескольких фразах Сомса. Он мысленно сближает поведение Ирэн, которая, уйдя из его дома двенадцать лет назад, отказывается вернуться к нему, и позицию буров, отказавшихся признать суверенитет Англии. „Буры отказываются признать суверенитет“, – читает он заголовок газеты. – Суверенитет! Вот как она… Всегда отказывалась. Суверенитет! А я все же обладаю им по праву».
Сомс по-прежнему предстает как истый собственник, но здесь автор подчеркивает трагизм переживаний Сомса, тщетно пытающегося вернуть Ирэн.
Писатель изображает Англию на рубеже XX века, но в романе порой чувствуются настроения, владеющие автором после войны. В изображении Голсуорси грядущие события как бы отбрасывают сюда свою тень. Это проявляется в сцене столкновения Сомса с участниками уличного карнавального шествия по случаю взятия у буров Мейфкинга. Он предвидит, что эта веселая толпа – «живое отрицание аристократии и форсайтизма» – может когда-нибудь выйти на улицы в ином настроении. «Казалось, он внезапно увидел, как кто-то вырезает договор на право спокойного владения собственностью из законно принадлежащих ему документов; или словно ему показали чудовище, которое подкрадывается, вылезает из будущего… Словно он вдруг обнаружил, что девять десятых населения Англии – чужестранцы. А если это так, тогда можно ждать чего угодно!» В этих мыслях Сомса слышатся отголоски опасений автора; в то же время здесь великолепно дана психология английских собственников, которые считают, что именно они, а не девять десятых населения олицетворяют всю страну.
Осознание автором рубежа, переломного момента в истории современной ему Англии, предчувствие социальных бурь особенно чувствуется в сцене похорон королевы Виктории. В этой сцене проявляется двойственное отношение автора к тому, что он изображает. С одной стороны, остро характеризуется уходящий «золотой век» Форсайтов, эпоха, сделавшая своим богом Маммону и так канонизировавшая фарисейство, что «для того, чтобы быть респектабельным, достаточно было казаться им», с другой стороны, в размышлениях Сомса о том, что век уходит, что «со всем этим тред-юнионизмом и с этими лейбористами в парламенте… никогда уже не будет так спокойно, как при доброй старой Викки!..», также можно узнать интонации автора.
В романе «Сдается внаем» предстает уже послевоенная Англия, потрясенная войной, забастовками, экономическим кризисом. Психология собственника в этом смутном мире – вот что с первой же главы показывает нам автор. Сохранение своего богатства, ограждение его по мере возможности от возросших налогов на капитал – главная забота Сомса. Он склонен утешать себя тем, что цены на землю и картины хоть и колеблются, но все же растут и, следовательно, есть за что держаться в этом мире, где столько нереального. Моментами в нем просыпаются чувства, свойственные собственникам «золотого века» английской буржуазии: «Во всем неустройство, люди спешат, суетятся, но здесь – Лондон на Темзе, вокруг Британская империя, а дальше – край земли… И все, что было в Сомсе бульдожьего, с минуту отражалось во взгляде его серых глаз». В такие моменты мы как будто видим за спиной Сомса фигуру мистера Подснепа, который презирает все неанглийское, считает столицу Англии столицей мира, английскую конституцию – даром провидения процветающей стране.
И в то же время именно через Сомса автор выражает мысль, что класс Форсайтов обречен историей. Дощечка с надписью: «Сдается внаем», водруженная на доме Джолиона в Робин-Хилле после его смерти, приобретает характер символа в мыслях Сомса, только что похоронившего Тимоти – последнего из старых Форсайтов: «Сдается внаем форсайтский век, форсайтский образ жизни, когда человек был неоспоримым и бесконтрольным владельцем своей души, своих доходов и своей жены». Этот четкий вывод не могут затемнить дальнейшие рассуждения, которыми утешает себя Сомс, – рассуждения о вечно присущем человеческой натуре собственническом инстинкте и, следовательно, вечности собственнического порядка. Эти рассуждения перекликаются с аналогичной мыслью автора в предисловии к «Саге о Форсайтах». Но в том же предисловии автор говорит, что он забальзамировал класс крупной буржуазии (которому, возможно, суждено перейти в небытие), чтобы его могли увидеть посетители музея Литературы. Так сложно протекает внутренняя борьба писателя – критика общества с «тем, другим человеком». В романе «Сдается внаем» и во второй трилогии о Форсайтах, «Современная комедия», Голсуорси передает дух послевоенной буржуазной Англии так же верно, как дух позднего викторианства в первых двух романах трилогии. «Гротески» послужили своего рода прелюдией ко всем этим произведениям.
В «Белой обезьяне» Голсуорси критикует главным образом декадентское искусство, бесплодное формалистическое экспериментирование в области живописи, скульптуры, музыки, высмеивает романы, похожие на психоаналитические трактаты. В центре «Серебряной ложки» – критика буржуазного парламентаризма, который Голсуорси разоблачал уже в ранних своих рассказах.
Писатель схватывает характерные черты складывающихся в новой обстановке типов. Перед нами проходят представители «золотой молодежи» – нигилисты и циники, поэты, пишущие «ни о чем», художники, деформирующие мир, музыканты, создающие сонаты «со слегка хирургическим оттенком».
Явления, которые Голсуорси улавливает в жизни, он в некоторых случаях выражает в виде символов. В то время как у декадентов символы – это «знаки», выражение чрезвычайно субъективных и потому трудноуловимых представлений автора, у Голсуорси символы – действенное средство истолкования действительности, воплощения ее сущности: они исполнены силы обобщения. Таким обобщающим символом является белая обезьяна на картине китайского художника, которая тоскует и сердится, не находя в апельсине того, что, по ее представлению, там скрыто. В этом образе автор воплотил черты представителей молодого поколения форсайтской Англии, которые, не видя уже смысла в накоплении капитала, не видят смысла и в самом своем существовании; они так же, как и белая обезьяна, съедают плоды жизни и разбрасывают кожуру, жадно стремясь удовлетворить свои желания, но не зная сами, чего хотят.
Эти черты присущи и дочери Сомса Флер, у которой форсайтская цепкость и упорство, унаследованные от отца, сочетаются с душевной пустотой, с сознанием, что цепляться-то, собственно, не за что.
Однако о духовном банкротстве молодежи форсайтской Англии говорят и образы положительных героев Голсуорси. Это Майкл Монт с его филантропическими начинаниями, планами спасения империи путем «фоггартизма» – реакционного проекта о переселении детей английских рабочих в колонии в целях борьбы с безработицей; это Джон, сын Ирэн и Джолиона, который в «Лебединой песне» во время всеобщей забастовки 1926 года вместе с другими представителями форсайтской Англии встает на защиту своего класса, принимая участие в штрейкбрехерской работе.
Вместе с Майклом Монтом писатель ищет путей разрешения острых проблем, назревших в стране, его устами он задает постоянный вопрос: «Так что же у нас неладно?» – и так же, как и Майкл, не находит ответа.
В этой обстановке особое значение приобретает для автора образ Сомса. По сведениям американского литературоведа У.-Л. Фелпса, один из читателей Голсуорси после прочтения «Серебряной ложки» спрашивал его в письме, являются ли изменения в характере Сомса результатом определенного авторского плана. Голсуорси ответил, что у него не было определенного плана в этом отношении и он не видит особых изменений в характере Сомса в «Серебряной ложке» сравнительно с романами «Сдается внаем» и «Белая обезьяна», но что вообще Сомс смягчается с годами, главным образом благодаря своей любви к Флер.
Благодаря любви к дочери Сомс действительно смягчается. Эгоист, всегда считавшийся только со своими желаниями, он теперь готов ради нее на жертвы. В этой любви – источник новой его трагедии: Флер не любит его так, как ему бы хотелось. Влияет на его характер и возраст, ослабевает стремление к стяжательству. Но, помимо этих естественных изменений, в Сомсе происходят изменения, не соответствующие логике его образа, в нем появляются такие черты, как склонность к философским раздумьям. Красота, которая раньше не давалась Сомсу, теперь становится ему доступной. Мы чувствуем духовный контакт автора с Сомсом. Он часто говорит его устами, и нам теперь не приходится догадываться, что же подразумевал Голсуорси в предисловии к «Братству», когда он говорил, что чувствует в себе черты Сомса. Правда, так бывает не всегда, в образе Сомса переплетено несколько линий, и перед нами моментами возникает прежний Сомс, но к концу «Современной комедии» все реже. Образ Сомса во многом служит опорой автору в этом смутном для него мире. Создается впечатление, что протягиваются нити между Сомсом и старым Джолионом при всем различии их образов. Сомс также в глазах автора становится представителем «золотого века».
Но как отрицательные, так и положительные образы «Современной комедии» говорят о том, что форсайтский порядок обречен. В большинстве случаев автор, как художник-реалист, не изменяет своему служению правде. Так, несмотря на то, что, судя по статьям и высказываниям Голсуорси, он придерживался «теории фоггартизма» до конца своей жизни, в «Серебряной ложке» он в соответствии с правдой жизни показал ее несостоятельность.
«Лебединой песней», где показана гибель Сомса, автор заканчивает свою эпопею о Форсайтах. В 1930 году он, однако, издает сборник рассказов «На Форсайтской Бирже», где описаны различные случаи из жизни Форсайтов разных поколений. Среди них, в частности, рассказ «Сомс и Англия», действие которого происходит во время Первой мировой войны. В нем автор устами Сомса осуждает войну, выражает свое отвращение к шовинизму.
Творчество Голсуорси завершает трилогия «Последняя глава» (романы «Девушка ждет» – 1931, «Пустыня в цвету» – 1932 и «Через реку» – 1933). Он сам рассматривал ее как эпилог своего творчества. По-прежнему озабоченный тяжелым положением страны (в последнем романе трилогии находит отражение мировой экономический кризис), писатель пытается найти опору в новых героях – членах старинной дворянской семьи Черрелей, хранителей, в его глазах, лучших традиций Англии. Но сама идея искать путь спасения Англии в ее прошлом обречена на неудачу. Это особенно ясно в романе «Девушка ждет», где видно, насколько косны, мертвы, реакционны эти «лучшие традиции». В отличие от эпопеи о Форсайтах здесь семейная тема часто дается в отрыве от социальной, хотя многие явления в жизни Англии начала 20-х годов получили отражение в трилогии. Узкому миру клана Черрелей автор часто придает больше значения, чем он того заслуживает. Наиболее удачен роман «Пустыня в цвету», где показан конфликт между истинной человечностью и властью представлений о престиже Британской империи. Последний роман, «Через реку», Голсуорси заканчивал тяжелобольным; книга вышла после его смерти.
В эпилоге, завершающем творческий путь Голсуорси, не нашли проявления самые сильные стороны писателя, но в целом этот большой и сложный путь отмечен славными победами, и, оглядываясь на него, мы можем сказать, что творчество Джона Голсуорси принадлежит к лучшим страницам истории английской литературы XX века.
Д. Жантиева
Предисловие автора
Название «Сага о Форсайтах» предназначалось в свое время для той ее части, которая известна теперь как «Собственник», и то, что я дал его всей хронике семьи Форсайтов, свидетельствует о чисто форсайтской цепкости, присущей всем нам. Против слова «Сага» можно возражать на том основании, что в нем заключено понятие героизма, а героического на этих страницах мало. Но оно употреблено с подобающей случаю иронией; а кроме того, эта длинная повесть, хоть в ней и говорится о веке процветания и о людях в сюртуках и турнюрах, не лишена страстной борьбы враждебных друг другу сил. Несмотря на гигантский рост и кровожадность, которыми наделяет предание героев древних саг, они по своим собственническим инстинктам были очень сродни Форсайтам и так же беззащитны против набегов красоты и страсти, как Суизин, Сомс и даже молодой Джолион. И хотя в нашем представлении эти герои никогда не бывших времен сильно выделяются среди своего окружения – вещь неприемлемая для Форсайта времен Виктории[8], – мы можем с уверенностью предположить, что родовой инстинкт и тогда был главной движущей силой и что семья, домашний очаг и собственность играли такую же роль, какую играют сейчас, несмотря на все разговоры, с помощью которых их стараются в последнее время свести на нет.
Столько людей в своих письмах ко мне утверждали, будто прототипами Форсайтов послужили именно их семьи, что я почти готов поверить в типичность этой разновидности человеческого рода. Нравы меняются, жизнь идет вперед, и «Дом Тимоти на Бэйсуотер-Род» в наше время попросту немыслим во всех отношениях; мы не увидим больше такого дома, не увидим, возможно, и людей подобных Джемсу или старому Джолиону. А между тем отчеты страховых обществ и речи судей изо дня в день убеждают нас в том, что наш земной рай – и теперь еще богатый заповедник, куда украдкой совершают набеги Красота и Страсть, чтобы среди бела дня похитить у нас наше спокойствие. Как собака лает на духовой оркестр, так же все, что есть в человеческой природе от Сомса, неизменно и тревожно восстает против угрозы распада, нависшей над владениями собственничества.
«Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов» – это изречение было бы убедительнее, если бы прошлое когда-нибудь умирало. Живучесть прошлого – одно из тех трагикомических благ, которые отрицает всякий новый век, когда он выходит на арену и с безграничной самонадеянностью претендует на полную новизну. А в сущности никакой век не бывает совсем новым. В человеческой природе, как бы ни менялось ее обличье, есть и всегда будет очень много от Форсайта, а он, в конце концов, еще далеко не худшее из животных.
Оглядываясь на эпоху Виктории, расцвет, упадок и гибель которой в некотором роде представлены в «Саге о Форсайтах», мы видим, что попали из огня да в полымя. Нелегко было бы доказать, что в 1913 году положение Англии было лучше, чем в 1886 году, когда Форсайты собрались в доме старого Джолиона на празднование помолвки Джун и Филипа Босини. А в 1920 году, когда весь клан снова собрался, чтобы благословить брак Флер с Майклом Монтом, положение Англии стало чересчур расплывчатым и безысходным, точно так же, как в 80-х годах оно было чересчур застывшим и прочным. Будь эта хроника научным исследованием о смене эпох, мы, вероятно, остановились бы на таких факторах, как изобретение велосипеда, автомобиля и самолета; появление дешевой прессы; упадок деревни и рост городов; рождение кино. Дело в том, что люди совершенно неспособны управлять своими изобретениями; в лучшем случае они лишь приспосабливаются к новым условиям, которые эти изобретения вызывают к жизни.
Но эта длинная повесть не является научным исследованием какого-то определенного периода; скорее, она представляет собой изображение того хаоса, который вносит в жизнь человека Красота.
Образ Ирэн, который, как, вероятно, заметил читатель, дан исключительно через восприятие других персонажей, есть воплощение волнующей Красоты, врывающейся в мир собственников.
Было замечено, что читатели, по мере того как они бредут вперед по соленым водам Саги, все больше проникаются жалостью к Сомсу и воображают, будто это идет вразрез с замыслом автора. Отнюдь нет. Автор и сам жалеет Сомса, трагедия которого – очень простая, но непоправимая трагедия человека, не внушающего любви и притом недостаточно толстокожего для того, чтобы это обстоятельство не дошло до его сознания. Даже Флер не любит Сомса так, как он, по его мнению, того заслуживает. Но, жалея Сомса, читатели, очевидно, склонны проникнуться неприязненным чувством к Ирэн. В конце концов, рассуждают они, это был не такой уж плохой человек, он не виноват, ей следовало простить его и так далее. И они, становясь пристрастными, упускают из виду простую истину, лежащую в основе этой истории, а именно что если в браке физическое влечение у одной из сторон отсутствует, то ни жалость, ни рассудок, ни чувство долга не превозмогут отвращения, заложенного в человеке самой природой. Плохо это или хорошо – не имеет значения; но это так. И когда Ирэн кажется жестокой и черствой – как в Булонском лесу или в галерее Гаупенор, – она лишь проявляет житейскую мудрость: она знает, что малейшая уступка влечет за собой невозможную, немыслимо унизительную капитуляцию.
Говоря о последней части Саги, можно поставить в упрек автору, что Ирэн и Джолион – эти представители бунта против собственности – посягают как на некую собственность на своего сына Джона. Но, право же, это было бы уже чересчур критическим подходом к повести в том виде, в каком она дана читателю. Ни один отец, ни одна мать не позволили бы своему сыну жениться на Флер, не рассказав ему всех фактов; и решение Джона определяют именно факты, а не доводы родителей. К тому же Джолион приводит свои доводы не ради себя, а ради Ирэн, а довод самой Ирэн сводится к одному: «Не думай обо мне, думай о себе!» Если Джон, узнав факты, понимает чувства своей матери, это, по совести, едва ли можно считать доказательством того положения, что и она, в сущности, принадлежит к породе Форсайтов.
Однако, хотя главной темой «Саги о Форсайтах» являются набеги Красоты и посягательства Свободы на мир собственников, автор ее не может отвести от себя обвинение в том, что он в некотором роде забальзамировал класс крупной буржуазии. Как в Древнем Египте мумии окружали предметами, необходимыми умершим в загробной жизни, так я попытался наделить образы теток Энн, Джули и Эстер, Тимоти и Суизина, старого Джолиона и Джемса и их сыновей тем, что обеспечит им хоть малую толику жизни «будущего века», что явится каплей бальзама в стремительном потоке всерастворяющего «прогресса».
Если крупной буржуазии, так же как и другим классам, суждено перейти в небытие, пусть она останется законсервированной на этих страницах, пусть лежит под стеклом, где на нее могут поглазеть люди, забредшие в огромный и неустроенный музей Литературы. Там она сохраняется в собственном соку, название которому – Чувство Собственности.
Джон Голсуорси
1922 г.
«Сага о Форсайтах»
Собственник
Шекспир. «Венецианский купец»
- …Ответ мне будет:
- Рабы ведь эти наши.
Часть первая
I
Прием у старого Джолиона
Тем, кто удостаивался приглашения на семейные торжества Форсайтов, являлось очаровательное и поучительное зрелище: представленная во всем блеске семья, принадлежащая к верхушке английской буржуазии. Если же кто-нибудь из этих счастливцев обладал даром психологического анализа (талантом, который не имеет денежной ценности и поэтому не пользуется вниманием со стороны Форсайтов), глазам его открывалась картина не только восхитительная сама по себе, но и разъясняющая одну из мудреных загадок человечества. Иными словами, сборище этой семьи, – ни одна ветвь которой не чувствовала расположения к другой, между любыми тремя членами которой не было ничего заслуживающего названия симпатии, – помогало внимательному наблюдателю уловить признаки той загадочной, несокрушимой живучести, которая превращает семью в такое мощное звено общественной жизни, в такое точное воспроизведение целого общества в миниатюре. Этому наблюдателю представлялась возможность прозреть туманные пути развития общества, уяснить себе кое-что о патриархальном быте, о передвижениях первобытных орд, о величии и падении народов. Он уподоблялся тому, кто, следя за ростом молодого деревца, живучесть и обособленное положение которого помогли ему уцелеть там, где погибли сотни других растений, менее стойких, менее сильных и выносливых, в один прекрасный день видит его в самый разгар цветения, покрытым густой сочной листвой и почти отталкивающим в своей пышности.
Пятнадцатого июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около четырех часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на Стэнхоп-Гейт, мог увидеть лучшую пору жизни Форсайтов – пору их цветения.
Прием был устроен в честь помолвки мисс Джун Форсайт – внучки старого Джолиона – с мистером Филипом Босини. Вся семья собралась здесь, щеголяя белыми перчатками, светло-желтыми жилетами, перьями и платьями; приехала даже тетя Энн, которая редко оставляла теперь уголок зеленой гостиной своего брата Тимоти, где она проводила целые дни за книгой и вязаньем, под сенью крашеного ковыля в голубой вазе, окруженная портретами трех поколений Форсайтов. Даже тетя Энн была здесь: негнущийся стан и спокойное достоинство ее старческого лица воплощали в себе непоколебимый дух собственничества, свойственный всей семье.
Когда Форсайт праздновал помолвку, свадьбу или рождение, все Форсайты бывали в сборе; когда Форсайт умирал… но до сих пор с Форсайтами этого не случалось, – они не умирали. Смерть противоречила их принципам, и они принимали против нее все меры предосторожности, инстинктивной предосторожности, как делают очень жизнеспособные люди, восстающие против посягательств на их собственность.
Форсайты, смешавшиеся в этот день с толпой остальных гостей, казались более, чем обычно, парадными и блистательно респектабельными, в их самоуверенности было что-то настороженно-пытливое, они как будто нарядились для того, чтобы бросить кому-то вызов. Обычная презрительная гримаса, застывшая на лице Сомса Форсайта, отражалась и на их лицах: они были начеку.
Наступательная позиция, занятая ими бессознательно, стала некой психологической вехой в истории семьи и сделала прием у старого Джолиона прелюдией к их драме.
Форсайты протестовали против чего-то, и не каждый в отдельности, а всей семьей; этот протест выражался подчеркнутой безукоризненностью туалетов, избытком родственного радушия, преувеличением роли семьи и… презрительной гримасой. Опасность, неминуемо обнажающую основные черты любого общества, группы или индивидуума, – вот что чуяли Форсайты; предчувствие опасности заставило их навести лоск на свои доспехи. Впервые за все время у семьи появилось инстинктивное чувство непосредственной близости чего-то необычного и ненадежного.
Около рояля стоял крупный, осанистый человек, два жилета облекали его широкую грудь – два жилета с рубиновой булавкой вместо одного атласного с булавкой бриллиантовой, что приличествовало менее торжественным случаям; его квадратное бритое лицо цвета пергамента и белесые глаза сияли величием поверх атласного галстука. Это был Суизин Форсайт. У окна, где можно было захватить побольше свежего воздуха, стоял близнец Суизина, Джемс, – «толстый и тощий», прозвал их старый Джолион. Как и Суизин, Джемс был более шести футов роста, но очень худой, словно ему с самого рождения суждено было искупать своей худобой чрезмерную дородность брата. Джемс стоял, как всегда, сгорбившись, и хмуро поглядывал по сторонам; в его серых глазах застыла какая-то тревожная мысль, от которой он время от времени отвлекался и обводил окружающих быстрым, беглым взглядом; запавшие щеки с двумя параллельными складками и выдававшуюся вперед чисто выбритую длинную верхнюю губу обрамляли густые пушистые бакенбарды. В руках он вертел фарфоровую вазу. Немного дальше его единственный сын Сомс, бледный, гладко выбритый, с темными редеющими волосами, слушал какую-то даму в коричневом платье, выпятив подбородок, склонив голову набок и скорчив упомянутую выше презрительную гримасу, словно он фыркал на яйцо, зная наверное, что ему не переварить его. Позади Сомса его двоюродный брат, рослый Джордж, сын пятого по счету Форсайта – Роджера, с сардонической усмешкой на мясистом лице обдумывал очередную остроту.
В сегодняшнем событии таилось что-то такое, что задевало их всех.
В ряд, тесно одна к другой, сидели три леди: тети Энн, Эстер (обе – старые девы) и Джули (уменьшительное от Джулии), которая, будучи уже не первой молодости, настолько забылась, что вышла замуж за Септимуса Смолла – человека слабого здоровья. Она пережила его на много лет. Теперь Джули жила вместе со старшей и младшей сестрами на Бэйсуотер-Род в доме Тимоти – своего шестого по счету и самого младшего брата. Все три леди держали в руках по вееру, и каждая из них цветной отделкой на платье, ярким пером или брошью отметила торжественность дня.
Посередине комнаты под люстрой, как и подобало хозяину, стоял глава семьи, сам старый Джолион. Чудесная седая шевелюра, выпуклый лоб, маленькие темно-серые глаза и длинные седые усы, свисавшие намного ниже массивного подбородка, делали этого восьмидесятилетнего старика похожим на патриарха, который, несмотря на худобу щек и запавшие виски, казалось, обладал секретом вечной юности. Он держался очень прямо, а его проницательные спокойные глаза еще не утратили своего ясного блеска. Все это говорило о том, что старый Джолион – выше людской мелкоты с ее сомнениями и раздорами. Долгие годы он жил своим умом, тем самым закрепив за собой право на превосходство. Ему бы в голову не пришло, что надо выставлять напоказ свои сомнения и открыто бросать кому-то вызов.
Между ним и четырьмя остальными братьями, присутствовавшими здесь, – Джемсом, Суизином, Николасом и Роджером, – была и большая разница и большое сходство. В свою очередь каждый из четырех братьев сильно отличался от остальных, и все-таки они были очень похожи друг на друга.
За разнообразием черт и выражений этих пяти лиц можно было подметить твердость подбородка как основу, поверх которой обозначались лишь несущественные отличия, как печать рода, слишком древнюю, чтобы можно было проследить ее возникновение, слишком знакомую и привычную, чтобы вдаваться в споры о ней, – истинную пробу и залог благосостояния семьи.
Младшее поколение: рослый, массивный Джордж, бледный, подвижной Арчибальд, молодой Николас, с его мягкой, неназойливой настойчивостью, напыщенный, фатоватый Юстас – все были отмечены этой печатью, может быть менее явной, но столь же бесспорной и свидетельствующей о том, что было неискоренимо в самом духе семьи.
Несколько раз на всех этих лицах, столь различных и столь схожих между собой, появлялось в тот день выражение недоверия, и объектом этого недоверия, несомненно, был человек, ради знакомства с которым они собрались здесь.
Всем им было известно, что Филип Босини – молодой человек без всякого состояния, но девушки из семьи Форсайтов и раньше обручались с такими людьми и даже выходили за них замуж. Значит, не это обстоятельство служило главным поводом для недоверия Форсайтов. Они не смогли бы объяснить, откуда взялась эта неприязнь, причины которой терялись где-то в тумане семейных пересудов. Во всяком случае, рассказывалась такая история, будто бы он явился с официальным визитом к тетям Энн, Джули и Эстер в мягкой серой шляпе, к тому же далеко не новой и какой-то бесформенной и пыльной. «Так странно, милочка, такая экстравагантность!» Тетя Эстер (очень близорукая), проходя через маленький неосвещенный холл, хотела согнать шляпу со стула, приняв ее за бродячую кошку, – Томми заводил себе таких сомнительных друзей! Она была сильно озадачена, когда «кошка» не двинулась с места.
Подобно художнику, который старается отыскать какую-нибудь выразительную мелочь, воплощающую в себе все самое характерное в ситуации, месте или человеке, так и Форсайты – бессознательные художники – чисто интуитивно ухватились за эту шляпу. Она-то и была для них той выразительной деталью, мелочью, в которой коренился смысл всего происходящего. Каждый из них задавал себе вопрос: «Ну, а вот, например, я – пошел бы я с таким визитом да в такой шляпе?» И каждый отвечал: «Нет», а некоторые, наделенные бльшим воображением, добавляли: «Мне бы это и в голову не пришло!»
Джордж, услышав про шляпу, усмехнулся. Совершенно ясно, что Босини хотел пошутить. Джордж был любителем таких шуток.
– Заносчивый юноша, – сказал он, – настоящий пират!
И это mоt[9] «пират» передавалось из уст в уста и наконец окончательно закрепилось за Босини.
После случая со шляпой все три тетки накинулись на Джун:
– Как ты позволяешь ему такие выходки, милочка!
Джун не замедлила ответить тем властным тоном, каким всегда говорило это крохотное существо – воплощение воли:
– Ну и что ж такого? Филу совершенно безразлично, что носить!
Никто не поверил столь дикому ответу. Безразлично, что носить? Нет, нет!
Но что же представлял собой этот молодой человек, который сделал столь удачный шаг, обручившись с Джун – наследницей старого Джолиона? Он был архитектор, но ведь это недостаточная причина, чтобы носить такую шляпу. Среди Форсайтов архитекторов не было, но кто-то из них знал двух архитекторов, которые никогда бы не явились с официальным визитом в такой шляпе в самый разгар лондонского сезона. Подозрительно, да, очень подозрительно!
Джун, конечно, ничего особенного в этом не видела, хотя, несмотря на свои неполные девятнадцать лет, она слыла очень придирчивой особой. Разве не она сказала миссис Сомс, которая так прекрасно одевается, что перья вульгарны? И миссис Сомс действительно перестала носить перья. Вот что могла натворить маленькая Джун своей бесцеремонностью.
Однако ни опасения, ни скептицизм, ни самое откровенное недоверие не помешали Форсайтам собраться у старого Джолиона. Приемы на Стэнхоп-Гейт стали большой редкостью; за последние двенадцать лет их не устраивали – да, ни одного приема с тех пор, как умерла старая миссис Джолион.
Никогда еще на Стэнхоп-Гейт не было такого полного сборища. Каким-то таинственным образом сплотившись, несмотря на все свое различие, Форсайты вооружились против общей опасности. Словно стадо, увидевшее на лугу собаку, они стояли голова в голову, плечо к плечу, готовые кинуться и затоптать чужака насмерть. Они пришли сюда также и затем, чтобы разузнать, какие надо готовить подарки. Вопрос о свадебных подарках разрешался обычно так: «Что ты собираешься дарить? Николас дарит ложки». Но ведь от жениха тоже многое зависело. Если жених одет опрятно, даже щеголевато, и по виду состоятельный, ему нужно дарить хорошие вещи, ибо он на это рассчитывает. И в конце концов каждый дарил то, что следовало; список подарков устанавливался всей семьей примерно так же, как устанавливается курс на бирже, а детали разрабатывались на Бэйсуотер-Род, в просторном, выходившем окнами в парк кирпичном особняке Тимоти, где жили тети Энн, Джули и Эстер.
Беспокойство Форсайтов вполне объяснялось уже одним упоминанием о шляпе. Какой нелепостью, какой ошибкой было бы для любой семьи, уделяющей столько внимания внешности (что вечно будет служить отличительной чертой могучего класса буржуазии), испытывать в этом случае что-либо, кроме беспокойства!
Виновник всего этого беспокойства стоял у дальней двери и разговаривал с Джун. Его кудрявые волосы были взъерошены – не оттого ли, что все вокруг казалось ему странным? К тому же он словно подсмеивался про себя над чем-то.
Джордж сказал потихоньку своему брату Юстасу:
– Он еще даст отсюда тягу, этот лихой пират!
«Странный молодой человек», как впоследствии назвала Босини миссис Смолл, был среднего роста, крепкого сложения, со смугло-бледным лицом, усами пепельного цвета и резко обозначенными скулами. Покатый лоб, выступающий шишками, напоминал те лбы, что видишь в зоологическом саду в клетках со львами. Его карие глаза принимали порой рассеянное, отсутствующее выражение. Кучер старого Джолиона, возивший как-то Джун и Босини в театр, выразился о нем в разговоре с лакеем так:
– Я что-то не разберусь в нем. Здорово смахивает на полудикого леопарда.
Время от времени кто-нибудь из Форсайтов подходил поближе, описывал около Босини круг и внимательно оглядывал его. Джун, эта «копна волос плюс характер», как кто-то сказал про нее, эта крошка с бесстрашным взглядом синих глаз, твердым подбородком, ярким румянцем и золотисто-рыжими волосами, слишком пышными для такого узенького личика и хрупкой фигурки, стояла перед своим женихом, охраняя его от этого праздного любопытства.
Высокая, прекрасно сложенная женщина, которую кто-то из Форсайтов сравнил однажды с языческой богиней, смотрела на эту пару, еле заметно улыбаясь.
Ее руки в серых лайковых перчатках лежали одна на другой, она склонила голову немного набок, и мужчины, стоявшие поблизости, не могли оторвать глаз от этого спокойного, очаровательного лица. Ее тело чуть покачивалось, и казалось, что достаточно движения воздуха, чтобы поколебать его равновесие. В ее щеках чувствовалось тепло, хотя румянца на них не было; большие темные глаза мягко светились. Но мужчины смотрели на ее губы, в которых таился вопрос и ответ, на ее губы с еле заметной улыбкой; они были нежные, чувственные и мягкие; казалось, что от них исходит тепло и благоухание, как исходит тепло и благоухание от цветка.
Молодая пара, находившаяся под таким наблюдением, не замечала этой безмолвной богини. Архитектор, первым обратив на нее внимание, спросил, кто она.
И Джун подвела своего жениха к женщине с прекрасной фигурой.
– Ирэн – мой самый большой друг, – сказала она, – извольте и вы подружиться!
Выслушав приказание молоденькой хозяйки, они улыбнулись, и в эту минуту Сомс Форсайт безмолвно появился позади прекрасно сложенной женщины, которая была его женой, и сказал:
– Познакомь и меня!
Он редко оставлял Ирэн одну в обществе и, даже когда светские обязанности разъединяли их, следил за ней глазами, в которых сквозила странная настороженность и тоска.
У окна отец Сомса, Джемс, все еще разглядывал марку на фарфоровой вазе.
– Удивляюсь, как Джолион разрешил эту помолвку, – обратился он к тете Энн. – Говорят, что свадьба отложена бог знает на сколько. У этого Босини (он сделал ударение на первом слоге) ничего нет за душой. Когда Уинифрид выходила за Дарти, я оговорил каждый пенни – и хорошо сделал, а то бы они остались ни с чем!
Тетя Энн взглянула на него из глубины бархатного кресла. На лбу у нее были уложены седые букли – букли, которые, не меняясь десятилетиями, убили у членов семьи всякое ощущение времени. Тетя Энн промолчала, она берегла свой старческий голос и говорила редко, но Джемсу, совесть у которого была неспокойна, ее взгляд сказал больше всяких слов.
– Да, – сказал он, – у Ирэн не было своих средств, но что я мог поделать? Сомсу не терпелось; он так увивался около нее, что даже похудел.
Сердито поставив вазу на рояль, он перевел взгляд на группу у дверей.
– Впрочем, я думаю, – неожиданно добавил он, – что это к лучшему.
Тетя Энн не попросила разъяснить это странное заявление. Она поняла мысль брата. Если у Ирэн нет своих средств, значит, она не наделает ошибок; потому что ходили слухи… ходили слухи, будто она просит отдельную комнату, но Сомс, конечно, не…
Джемс прервал ее размышления.
– А где же Тимоти? – спросил он. – Разве он не приехал?
Сквозь сжатые губы тети Энн прокралась нежная улыбка.
– Нет, Тимоти решил не ездить; сейчас свирепствует дифтерит, а он так подвержен инфекции.
Джемс ответил:
– Да, он себя бережет. Я вот не имею возможности так беречься.
И трудно сказать, чего было больше в этих словах – восхищения, зависти или презрения.
Тимоти и в самом деле показывался редко. Самый младший в семье, издатель по профессии, он несколько лет назад, когда дела шли как нельзя лучше, почуял возможность застоя, который, правда, еще не наступил, но, по всеобщему мнению, был неминуем, и, продав свою долю в издательстве, выпускавшем преимущественно книги религиозного содержания, поместил весьма солидный капитал в трехпроцентные консоли. Этим поступком он сразу же поставил себя в обособленное положение, так как ни один Форсайт еще не довольствовался меньшим, чем четыре процента; и эта обособленность медленно, но верно расшатала дух человека, и так уже наделенного чрезмерной осторожностью. Тимоти стал почти мифическим существом – чем-то вроде символа обеспеченного дохода, без которого немыслима форсайтская вселенная. Он не решился на такой неблагоразумный поступок, как женитьба, и ни при каких обстоятельствах не захотел обзаводиться детьми.
Джемс снова заговорил, постукивая пальцем по фарфоровой вазе:






