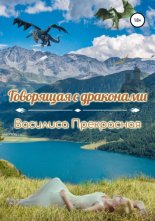Я вас лублу! Рубина Дина

Услышав о деньгах «из рук в руки», Бромбардт совсем обезумел и завопил: «Так вот что я оплачивал столько месяцев!» – дальше все происходило как в примитивных дерганых фильмах дочаплинской эпохи.
Бромбардт, схватив подвернувшуюся ему под руку папку с трилогией Мары Друк, со всей силы огрел Христианского, орудуя трилогией как лопатой.
Христианский пал на карачки, как прирезанная жертвенная корова. Слетевшая с головы его черная кипа совершила плавный полукруг, наподобие бумеранга. Бромбардт размахнулся еще раз, но тут очнувшаяся Катька с криком «Он убьет его!!» налетела на миллионера; вырвала из рук его трилогию и запустила ею вслед выбегающему из зала Бромбардту. Тяжело кувыркаясь, летела по залу трилогия Мары Друк «Соленая правда жизни», роняя листы, как убитая птица – перья… Тут не мешает заметить, что к этой минуте на шум сбежалось изрядно сотрудников «Курьера», и над их небольшой толпой реяла серебристая седина блистательного Иегуды Кронина.
То, что сочинению Мары Друк нашлось применение, в точности соответствующее тому, что родилось в моем раздраженном воображении, поразило меня необычайно. Я увидела в этом руку Божественного провидения и с сожалением подумала, что уж если этому суждено было свершиться, то лучше бы в свое время Яше заключить со мной то пари, насчет арии Фигаро, потому как у меня рука все-таки куда легче Бромбардтовой.
– Соберите Мару! – строго приказал Христианский, поднимаясь и отряхивая колени. – Вы с ума сошли, немедленно соберите Мару, она внесла задаток!
Катька, агрессивная, как разносчица кружек в пивном баре, пошла грудью на публику, приговаривая: «Очистить помещение! Давай, давай, вали, тут не цирк…»
Пушман подал Христианскому кипу, тот отряхнул ее, надел и вновь уселся за брошюру о значении шабата.
Когда наконец заказчик ушел и все мы остались в своем интимном кругу, когда было вынесено все, что можно и должно было вынести, и загружено в «танк», Христианский проговорил, томно тронув кобуру под сердцем:
– Считайте, этому типу сегодня повезло. Я мог его изувечить. Просто жаль старика.
После чего он обернулся ко мне и добавил:
– А вы, радость моя, можете снять противогаз. Как в том анекдоте. – Хозяйским глазом окинув помещение, он сказал: – Ну… Кажется, все… Пушман, конгрессмен вы мой, сколько чашек вы раскокали, трудясь?
– Ерунда, нисколько, – встрепенулся Фима, – три.
– Хорошо, Бромбардт оплатит…
В эту минуту открылась дверь и перед нами, уже измученными событиями дня, появился рассыльный с двумя увесистыми пачками отправленных Фимой по адресам бандеролей.
Христианский застонал и схватился за голову. Фима смутился и пробормотал:
– Странно, неужели я перепутал адреса?
– Распишитесь кто-нибудь, – плачущим голосом попросил Яша. – Пушман, когда-нибудь я пристрелю вас, идиотина!
С улицы поднялась Ляля, доложить, что все погружено, стулья привязаны сверху и можно ехать в мозговой центр фирмы на Бен-Иегуду.
Мы спустились на улицу, и тут выяснилось, что для меня в машине нет места, а главное – нет во мне никакой необходимости.
– Можете идти домой, – разрешил Яша устало, уже сидя в машине рядом с Лялей, – рабочий день окончен. И ради бога, что вы обнимаете весь вечер этот чайник?
– Ах да, – спохватилась я. – Вот, возьмите. – И попыталась всучить Христианскому чайник через окно.
– Берите его себе, – сказал Христианский, – и дело с концом.
– Но как же… Ведь это собственность Всемирного еврейского конгресса…
– Берите, берите, – перебил меня Яша. – Не за то боролись. Еврейский конгресс не обеднеет. Кроме того, подозреваю, что Бромбардт не выплатит нам жалованья, а тем более вам, ведь я не подписал с вами договора. Считайте, что вы честно заработали этот жалкий чайник… Собственно – красная цена всей вашей деятельности…
«Танк» взрыкнул, развернулся и медленно попер вверх по переулку. Навстречу ему, петляя, ехал мужик на велосипеде. Через всю грудь у него, как лента ордена Почетного Легиона, висела собачья цепь, замкнутая увесистым замком.
Я повернулась и, прижимая к груди чайник, пошла привычной уже дорогой мимо центральной автобусной станции.
Мой нищий – издалека высокий, статный – приставал к прохожим, тыча им в бока, как саперной лопаткой, протянутой твердой ладонью. Я подошла и положила в эту негнущуюся ладонь один из двух оставшихся у меня шекелей.
– Бриют ва ошер, – торжественно, как всегда, пожелал он.
– У тебя дети есть? – спросила я вдруг с идиотской сентиментальной улыбкой.
Нищий взметнул мохнатую бровь (так в окне утром взлетают жалюзи), внимательно оглядел меня с головы до ног и раздельно проговорил:
– Если ты думаешь, что за твой паршивый шекель я должен задницу тебе целовать, то ты ошиблась.
(Все правильно, сказала мне Рита через пару дней. Ты пыталась вовлечь его в неслужебные контакты, он тебя отбрил. Пойми, у них совершенно другая ментальность. Его дело протягивать руку, твое – класть в нее шекель. При чем тут дети? Что за сантименты русской литературы?.. Но если это сильно тебя мучает, могу успокоить: его дети привозят папу по утрам на «Ситроене» на место работы, а вечером увозят с выручкой…)
Утром следующего дня, попивая кофе из чашки «Ближневосточный курьер», я просматривала газету и рассеянно слушала радио. До Пурима оставались считаные дни, войну торопливо сворачивала чья-то невидимая могучая воля. Это было заметно даже тем, кто вообще ничего не понимал в происходящих событиях: иракцы десятками тысяч сдавались в плен с неприличной поспешностью. Создавалось впечатление, что Амалек сам торопится завершить драму к Пуриму.
«Вчера, – продолжал диктор, – выступая на заседании Всемирного еврейского конгресса, Ицхак Шамир заметил…»
«Бедные… – подумала я, любовно посматривая на ворованный чайник, – как же они заседают там, без чая…»
Во дворе заиграла шарманочная мелодия «Сказок венского леса». Это приехала машина с мороженым. Я развернула газету на странице объявлений. Я всегда с жадной надеждой просматривала эти страницы, лелея безумную мечту о том, что где-то кому-то, возможно, нужен на небольшую ставку русскоязычный литератор.
«Ищу душевную серьезную с целью передачи дом в наследство. Семьдесят, в хорошем состоянии». Я вздохнула и отложила газету.
Позвонила Рита.
– Катька считает, – сказала она, – что мы должны подать на фирму в суд. И это справедливо.
– Ой, – я отхлебнула из чашки кофе. – Какой еще суд, я не умею… Меня даже нищие обижают.
– От тебя ничего и не требуется. Только присутствовать и кивать. Вместо подписи можешь поставить крестик. В общем, в двенадцать мы ждем тебя на углу Абарбанель, возле цветочного лотка.
– Ты веришь, что нам заплатят?
– Конечно! – уверенно сказала Рита. – Ровно за три дня до суда. Здешние мошенники не любят судиться… – Она вздохнула и вдруг проговорила совсем другим голосом: – Знаешь, иногда Он напоминает мне одного из тех сумасшедших коллекционеров, которые уже не могут остановиться в своей страсти, даже когда какой-нибудь экспонат коллекции и не очень нужен или совсем не нужен… – Она помолчала. – Ну скажи, скажи, – зачем Ему нужна была фирма «Тим’ак»?
– Ну… – я задумчиво повертела на колене пустую чашку «Ближневосточный курьер» и в который раз машинально прочла: «Тысячи их, абсурдных маленьких миров…»
Пока Рита с Катькой заполняли бланк заявления и препирались о чем-то с чиновницей, я шаталась по пустому коридору здания суда, потягивая через соломинку воду из бутылочки. Начиналась весна, время хамсинов, требовалось много пить, и мне уже не казались странными эти бутылочки с минеральной водой повсюду – в транспорте, в магазинах, на улицах. Пить, много пить – единственное спасение от здешнего суховея.
За столом в коридоре сидела грудастая истица. В мочке каждого уха у нее просверлено было по три дырки, и оттуда гроздьями свисали сокровища Али-бабы.
Она терпеливо пыталась заполнить бланк заявления, широко разведя мощные колени в цветных мужских бермудах. Сквозь распиравшуюся ширинку, как тесто из кастрюли, лез белопенный живот.
– Помоги мне написать! – приветливо улыбаясь, сказала она мне.
В иврите часто употребляют повелительное наклонение. Это не означает хамства.
– Извини, – сказала я, – я недостаточно хорошо умею писать…
– С ума сойти, – заметила она. – А по виду ты грамотная. Дай-ка хлебнуть воды из твоей бутылки, что-то горло пересохло.
Я вспомнила коронную Ритину фразу насчет «их» ментальности и подарила грудастой истице всю бутылку.
Суд нам назначили через два месяца.
Мы вышли на улицу. На остановке автобуса стоял старый араб в куфие – белоснежном платке, перетянутом вокруг головы толстым двойным шнуром. На нем была серая рубаха до пят, похожая на женское платье, пропыленные ботинки и на плечах – обыкновенный мужской пиджак.
– Идиотская страна, понимаешь, – сказала Катька, – страна бездарных чиновников. Должны были снять с нашего счета в банке сто семьдесят шкалей за Надькин садик, ошиблись, приписали лишний ноль, сняли тысячу семьсот… Теперь мы в глубоком минусе, жрать нечего, пока разберутся, то да се, можно с голоду подохнуть… Надо идти полы мыть… – Она добавила безучастно: – Я повешусь… Я просто повешусь…
Подошел автобус. Я протиснулась в самый конец, где на длинном сплошном сиденье маячило свободное место. Спотыкаясь о сложенные коляски, солдатские баулы, кошелки, я пробралась в конец и плюхнулась между молодой парочкой израильтян слева и пожилой четой совсем свежих (судя по разговору) и очумелых еще репатриантов справа.
Мальчик-солдат слева, видно, возвращался домой на субботнюю побывку. Он сидел в полной амуниции, с автоматом, вокруг сильной загорелой шеи – пропотевший шнурок с личным номером, в ногах длинный, плотно набитый баул. Девочка принарядилась. Встречала его, наверное, на автобусной станции, готовилась к встрече – прическа, отглаженная блузочка, отполированные ногти. А он устал. Он смертельно устал. Минуты три они тихо переговаривались, потом он задремал. Сидел, клевал носом.
– Глянь, какой лес! – сказала по-русски старуха справа. – Прямо среди города…
– Не забудь, все деревья здесь рукоприкладные, – отозвался муж.
Девочке надоело так сидеть. Ее влюбленность, с утра, по-видимому, подогреваемая ожиданием, не давала ей покоя. Она тихо погладила своего мальчика по руке. Он вздрогнул, инстинктивно сжал автомат и вскинул голову. Она улыбнулась ему успокаивающе, и он опять прикрыл глаза, задремал…
– Ничего, – проговорил старик справа. – Лет через десять здесь привьется наша культура…
Старуха кивала, перебирая крупные янтарные бусы на морщинистой шее.
Девочка слева опять осторожно потянулась рукой к своему мальчику. Вот дурища, подумала я, искоса наблюдая за ней, ну дай человеку поспать, он же вымотан, как пес… Она дотянулась ладошкой до его автомата и вороватым движением нежно погладила приклад.
– Война кончилась!! Точно – в Пурим!!
Меня разбудили вопли сына. Он прыгал по комнате – тощий, в трусах на слабой резинке, подпрыгивал, пытаясь рукой достать потолок.
По радио передавали подробности капитуляции Ирака. Я поднялась и поплелась в ванную.
– Хаг самеах!! – заорал сын мне вслед.
– Ура, – отозвался отец со своего дивана, – мы победили, и враг бежит, бежит, бежит.
– Противогазы порезать?! – радостно спросил балбес.
– Я тебе порежу… Сложи аккуратно в коробки и поставь на антресоли до следующей войны.
Зазвонил телефон. Это был Гедалия, староста группы с занятий рава Карела Маркса.
– Хаг самеах, – торопливо проговорил он. – Я обзваниваю всех, чтобы сообщить: сегодня вечером состоятся занятия. Приходите обязательно!.. Рав Маркс специально приурочил лекцию к празднику.
– А тема?
– Простите, я должен многих обзвонить… У меня нет ни минуты…
Я вышла на балкон. Внизу по травянистому косогору бегали соседские ребятишки, с утра уже наряженные в карнавальные костюмы, – две девочки лет десяти, обе в костюмах царицы Эстер, одна в ярко-красном, с позолотой, другая в белом – юбки длинные, пышные, на головах короны. Бегали с упоительным визгом, приподнимая пальчиками подолы юбок. За ними гнался мальчик лет восьми в костюме старика Мордехая – чалма на голове, расшитый цветами кафтан. Он безостановочно трещал пластиковой трещоткой, какими вечером в синагоге дети будут трещать во время чтения «Свитка Эстер» – при упоминании злодея Амана, потомка Амалека…
Еще одна яркая группка визжащей мелкоты, волоча по косогору противогазы, наперебой подражала вою сирены.
Впереди на горизонте штрихом обозначалась на фоне голубого утреннего неба башня университета на горе Скопус.
«Гар ха-Цофим, – мысленно проговорила я, обнаруживая, что мне уже привычно называть это место именно так, – Гар ха-Цофим…»
Центр города был уже запружен карнавальной толпой, шелушащейся серпантином, сверкающей фольгой, прыскающей струйками конфетти.
На углу улицы Короля Георга трое музыкантов – скрипка, флейта и аккордеон – залихватски бацали тоскливо-сладкую мелодию песни бессарабских евреев; вокруг плясали.
В небольшом кругу плясали грузный пожилой дядька в маске Саддама Хусейна с присобаченными к ней кудрявыми пейсами и очень толстая тетка в костюме божьей коровки. Автобусы еще ходили, то и дело застревая посреди толпы.
Продираясь сквозь кипящую водоворотами людскую кашу, я вдруг увидела, как в дверях еще открытой «Оптики» мелькнул люминесцентно-травяной свитер, над воротом которого колыхнулась зеленовато-призрачная физиономия. Почудилось, подумала я, наверное, это один из тех страшных человекообразных манекенов, от которых я шарахаюсь по сей день.
(Забегая вперед, скажу, что не привиделось. После крушения фирмы «Тим’ак» могущественный Гоша Апис выволок из-под обломков своих людей. Хаима, например, он пристроил в солидную «Оптику» на улице Яффо, где тот протирает бархоткой запылившиеся стекла очков. Тут возникает у меня банальная ассоциация с понятием «непыльная работка», но я удержусь. Реб Хаим, пожизненный пенсионер государства Израиль, любую работу работает тяжело. Так что пошлая ирония тут неуместна.)
Словом, я опять опоздала на занятия. Виновато улыбнувшись раву Карелу, проскользнула на свободный стул рядом с Гедалией и села.
Сегодня рав Карел был в особенном ударе. Он не садился даже, а возбужденно прохаживался от окна к своему креслу. Руки его, с большими смуглыми певучими кистями, ни минуты не находились в покое.
– Что читаем мы? «И пришел Амалек, и воевал с Израилем в Рефидим. И сказал Моисей Иегошуа: выбери нам мужей и пойди сразись с Амалеком. Завтра я буду стоять на вершине холма с посохом Божьим в руке моей. И сделал Иегошуа, как сказал ему Моисей… а Моисей, Аарон и Хур взошли на вершину холма. И было, как поднимет Моисей руку свою, одолевал Израиль, и как опустит руку свою, одолевал Амалек…»
Отказываясь верить ушам своим, я наклонилась к Гедалии и спросила шепотом:
– Гедалия, неужели мы все еще не можем закрыть тему войны с Амалеком?
– Ничего удивительного! – живо откликнулся тот. – Рав Карел решил повторить тему, так как сегодня мы празднуем двойную победу над Амалеком!
– Значит ли это, что поднятые или опущенные руки Моисея выигрывали или проигрывали войну? – страстно вопрошал рав Карел и сам отвечал: – Нет, но это значит, что если Израиль обращает взоры свои к Небу и подчиняет сердце Богу, то он побеждает Амалека, если же нет – падает перед ним…
Он вдруг умолк, несколько раз быстро прошелся от окна к креслу и обратно, потом обернулся к нам и сказал:
– Вероятно, многим из вас кажется странным, что я так упорно возвращаюсь к теме войны с Амалеком? Но это очень важная тема, и с течением жизни здесь вы это поймете… Еще немного… еще две, три войны – и вы это поймете… – Он опять умолк, остановился, встряхнул головой и продолжал: – Дело в том, что Амалек – нечто большее, чем какая-то конкретная группа людей, чем национальность или народ… Это – взбесившийся человек, променявший свой божественный лик на гримасу сатаны…
– Боюсь, придется брать такси, – вздыхал Гедалия, когда после занятия мы с ним пробирались в бурлящей толпе. – А ведь надо еще успеть к чтению «Мегилат Эстер»… – С щегольской вельветовой его кепки свисали три витые ленточки серпантина, плечи были усеяны кружочками конфетти.
Мимо проходила стайка гогочущих подростков с огромными воздушными шарами и плакатом, на котором в ужасно непристойной позе был изображен иракский диктатор. У самих подростков самым неприличным образом были подвязаны противогазы, ими были, так сказать, опоясаны чресла. Один из подростков, чуть старше моего сына, проходя, прыскнул в меня из баллончика какой-то сверкучей дрянью, впрочем безобидной: скатываясь, она не оставляла следов на одежде, а второй захрюкал и сказал громко:
– Меирке, это довольно пожилая девочка.
Третий добавил:
– Извини, ба…
– Паршивец, – сказал Гедалия, стряхивая с моего плеча конфетти. – Вот и мой сейчас где-то шляется…
Отовсюду неслась музыка. Она то грохотала тяжелым роком, то вилась бессарабской рыдающе-гикающей мелодией, то приседала гармоникой – тум-балалайкой, то завывала витиеватой, горловой восточной песней.
Две девушки в костюмах ангелов – одна хорошенькая, другая толстая и некрасивая – стояли перед закрытыми дверьми магазина дамского белья и, закатывая глаза, посылали толпе пассы. У хорошенькой одно из крыльев было помято и криво висело – очевидно, кто-то из парней уже слегка прижал этого ангела в порыве раскаяния.
На углу улиц Штраус и Меа Шеарим прямо перед нами вынырнула процессия с факелами. Это были дети лет десяти-двенадцати.
Они несли носилки с балдахином, под которым важно восседал мальчик в костюме царицы Эстер. Впереди носилок шли двое пацанов в костюмах первосвященников – один в белом, другой в черном облачении. Они торжественно несли факелы перед собой и что-то пели, довольно бодро, хотя и несколько однообразно.
– Можете не сомневаться, – сказал Гедалия, когда мы проводили взглядом процессию. – Той песне, что они пели, добрая пара тысчонок лет…
Он скосил на меня глаза и спросил:
– Отчего вы невеселы?
– Я потеряла работу.
– Это достаточно грустно, и все-таки сегодня нужно веселиться… Помните, за несколько дней до начала войны мы с вами возвращались с занятий и вы были так напряжены и взвинчены тяжелым ожиданием… А сегодня! Посмотрите на эту толпу – нельзя бояться. Нельзя бояться, нужно только верить… Ох, извините, такси… Будьте здоровы! – Уже из окна машины он крикнул мне: – Хаг самеах!
Такси медленно поплыло в волнах толпы… А я долго еще брела в текучей толпе, задирая голову на расцветающие розово-бордово-зеленые клубни салюта и без конца повторяя себе: «Ну вот, ты среди своего народа… и что же?»
Назавтра праздник продолжал грохотать, стрелять фейерверками, искриться бенгальскими огнями, плясать в карнавальных водоворотах.
Утром мои собрались гулять.
– А ты разве не идешь с нами? – спросил Борис.
– Сделайте одолжение, оставьте меня на один день в покое…
– Грубая ты, – сказал сын.
– Я безработная, – сказала я. – Все безработные грубые. Им не перед кем выслуживаться.
Они долго наряжались, дети нацепили маски, выцыганили у меня десять шекелей, наконец ушли.
Как только за ними захлопнулась дверь, позвонила Катька. Говорила в обычной своей манере – правду в лицо.
– Ужаснее всего, что не заплатили тебе, – сказала она. – Я просто ночами не сплю из-за тебя. Мы-то с Риткой не пропадем, мы толковые… А ты ж ничего, кроме своих рассказов, не умеешь… Ты с голоду сдохнешь…
– Не переживай, – ласково сказала я. – Ты-то как?
– Да что – я! – воскликнула она, по-прежнему расстроенно. – Я завтра на работу выхожу.
– Ой, Катька! – обрадовалась я. – Ты устроилась?! Куда?!
– Я-то тебе скажу, так ты ж, дура, и не поймешь… В общем, меня взяли по моей специальности в Банк Израиля… Ты знаешь, что это такое? Молчи, – перебила она сразу, – не знаешь. Это не рядовые банки, которые твою капусту туда-сюда перекачивают, это – экономический мозг страны… Я в России мечтала работать в такой же конторе, но меня не взяли, потому что я там была евреем.
– Ка-атька!.. – повторяла я. – Ой, Ка-атька…
– Положили для начала четыре тыщи в месяц, и рука устала подписывать в договоре разные бланки: машину они оплачивают, командировки за границу, долларовый счет открывают, ну и прочая бодяга… Идиотская страна!.. Так вот, учти, – сказала она строго. – Мы тут посоветовались со Шнеерсоном и решили отстегивать тебе тыщу в месяц…
Я засмеялась и сказала:
– Катька! Я так тебя люблю. Не переживай, я не пропаду. Меня давно зовет убирать виллу соседний старичок с чудным именем Ави Бардугу.
– Не ходи, – сказала Катька, – человек с фамилией Бардугу обязательно станет за задницу хватать… А знаешь, – она оживилась, – я вчера зашла в мозговой центр фирмы, на Бен-Иегуду. Проходила мимо – дай, думаю, зайду… Представляешь, сидит за компьютером наш Яшка, одинокий, грустный, нос повесил, кругом – грязь, бумажки какие-то валяются, обертки от вафель… Ну, я взяла веник и стала подметать. Подметаю, а он рассказывает, как к нему приходили консультироваться из одной крупной фирмы, то-се… ну, ты его знаешь… Я молчу, подметаю… О Гоше он помалкивает, но думаю, не зря он там сидит, думаю, Гоша его из скандала вытащил – может, решил, что Яшка еще пригодится… Кстати, Христианский сейчас сам открывает издательскую фирму. Сам будет набирать, сам издавать… Я спрашиваю – где заказы достанешь? Да у меня есть уже крупный заказ, говорит, – трилогия Мары Друк. Сейчас она дописала еще четыреста страниц и переименовала ее в сагу. Так что Яшка всю жизнь будет издавать сагу «Соленая правда жизни»…
После разговора с Катькой я стала думать о Яше Христианском и распалила себя почти до состояния нежного сострадания. Тогда я решила позвонить ему. Подняла трубку мудрая Ляля.
– Здравствуйте, Ляля, – сказала я. – Что поделывает Яша?
– Яша ушел в милуим[2], – проговорила Ляля трагическим тоном, и это звучало как «Яша ушел в монастырь…».
В дверь позвонили, я открыла. На лестничной площадке стоял человек в маске, в красном, жестко торчащем в стороны парике. У ног его в плетеной корзине шевелились, дышали, подрагивали влажными лепестками розы неестественно-прекрасного персикового цвета.
– Хаг самеах! – сказал он, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и протягивая какую-то квитанцию. – Вот тут распишись.
– В чем дело? – спросила я, не в силах оторвать глаз от этих роз. – Что это? – и механически расписалась.
– Это твой мотэк тебе послал, – сказал рассыльный, отдавая мне копию квитанции.
Я представила, сколько может стоить эта корзина и сколько дней (три? пять?) можно жить на эти деньги, и задохнулась.
– Он что – спятил?! – крикнула я по-русски. Рассыльный сбегал уже вниз. – Я работу потеряла!! – заорала я по-русски, не в силах сдержаться.
– Хаг самеах! – крикнул опять рассыльный снизу…
Я подняла корзину, из которой тяжелой, избыточно-сладкой волной ударил в лицо мне запах роз, и зашла в квартиру.
Несколько минут я металась по комнате, терзая ворот свитера и рыдающим голосом выкрикивая достаточно оскорбительные и стародавние обвинения в адрес моего мужа.
Наконец обмякла и увидела, что до сих пор сжимаю в кулаке копию квитанции; развернула ее и – о, этот проклятый, естественный для ребенка и такой мучительный для сорокалетнего человека процесс узнавания букв другого языка и складывания их в слова – прочла наконец адрес – наш, и имя получателя: Шо-ша-на Ро-зен-таль…
Прежде чем я что-то поняла, я успела еще со старательностью тупого ученика прочесть приписку на обороте квитанции: «Роза моего сердца, хоть мы расстались год назад…» Я охнула, выскочила на балкон в дурацкой надежде, что рассыльный еще не уехал, как будто он мог стоять под балконом и пережидать мою получасовую истерику. Потом вернулась в комнату и аккуратно поставила чужую корзину с цветами повыше, на шкаф.
И в эту минуту я вдруг ощутила – тут принято писать «всем существом», но точнее сказать «всем телом» – всем телом я ощутила, что меня-то, в сущности, нет… Так, болтается нечто в пространстве этой страны, этого города, этой чужой квартиры с чужим телефоном, в которой как бы продолжают жить реальные люди с реальной фамилией Розенталь…
И вот тогда впервые за все эти месяцы эмиграции, войны, тягучих ночных сирен, безденежья и крушения идиотских надежд – повторяю, впервые – меня потряс настоящий ужас такой разрывающей силы, что на секунду я физически ощутила, как рука некоего вселенского хирурга вынимает, вытаскивает, высвобождает мою парализованную бездонным ужасом душу из никчемного обмякшего тела…
Долго звонил телефон. Наконец я сняла трубку.
– Дорогая моя! – с чувством проговорил пьяный теплый баритон Гриши Сапожникова. – Дорогая моя, я звоню, чтобы поздравить тебя с нашим великим, нашим радостным праздником Избавления! – По интонациям его одинокого, даже в трубке, голоса чувствовалось, что Цви бен Нахум уже набрался, как Всевышний ему велел. – И в этот день, дорогая моя, в этот необъятно прекрасный день… – он поднял голос до высот проповеди, – когда Господь опять отпиздил Амалека!..
В этом месте голос его сорвался, и мы одновременно заплакали в трубки и минуты две поочередно всхлипывали. Наверное, он сидел один в своем бомбоубежище, и ему, как и мне, некого было стыдиться.
– Тебе есть где спать сегодня? – спросила я растроганно. – Приходи к нам спать.
– Спасибо, не беспокойся, – сказал он, судя по звукам, высмаркиваясь. – На сегодня меня берет к себе семья Мары Друк…
И добавил после крошечной паузы:
– Ничего… Все наладится… Все наладится, к чертовой матери…
Я вышла на балкон. Внизу по зеленому косогору бродил бешеный Левин папа в противогазе. Я узнала его по дырчатой авоське в руке. Он поднял противогазью харю и крикнул мне приятным баритоном:
– Из России?
– Леву Рубинчика знаете? – продолжала я, перегнувшись через перила.
Он растерялся было, но тут же встрепенулся и крикнул радостно:
– Я его па-апа!!
И в который раз опускающееся куда-то за наш дом солнце залило диковато-розовым светом белый камень домов, и вся гигантская панорама города заскользила, побежала под тенями сквозных бегущих облаков.
Дальше темнел зелеными склонами рамотский лес, торчала башня отеля «Хилтон», левее на горизонте округло лежала Масличная гора с карандашиком монастыря. А дальше – взгляд нащупывал нежно синеющую туманную кромку Иорданских гор…
И я почувствовала минуту, ту самую интимную минуту, когда удобно обратиться…
Я проглотила слюну и заискивающе пробормотала куда-то в сторону Иорданских гор: «Господи!..»
И замолчала. Собственно, мне нечего было Ему сказать. Суетливо объяснять ситуацию, которую Он сам вроде бы прекрасно должен видеть? Как профессиональный литератор, я знала, что подобные вещи недопустимы. Поэтому только вздохнула и повторила: «Господи! Вот такие дела…»
Вдруг вспомнила, как из окна автобуса Тель-Авив – Иерусалим я увидела паровозик, к которому был прицеплен один-единственный вагон, кажущийся с моста игрушечным, и как этот смешной состав бойко мчал по рельсам.
– Господи, – проговорила я. – Ты вывел меня из гигантской державы, по которой днем и ночью грохотали огромные поезда. Ты привел меня в Свою землю… Неужели Ты позволишь моим детям голодать?
«Ну, это, положим, ты врешь, – возразил кто-то внутри меня. – Дети, положим, не голодают…»
– Это я вру, Господи!! – торопливо перебила я себя. – Дети не голодают… а просто… просто… дай заработать!
«О!» – произнес кто-то внутри меня удовлетворенно, и я сама почувствовала, что это «о!» – то, что надо, что это, по крайней мере, честно.
– Дай заработать! – повторила я страстно, и мне уже было плевать, как я выгляжу: прозрачна я стояла пред Ним, как стеклышко, – со своей собачьей тоской, дешевыми просьбами и украденным чайником Всемирного еврейского конгресса. – Слышишь, дай заработать! Дай заработать, Господи!! Дай за-ра-бо-о-о-та-а-ать!!!
Я забыла сказать, что из окна моей съемной квартиры видно кладбище на холме Гиват-Шауль.
Холм Гиват-Шауль кажется меловым от памятников – множества белых, крошечных отсюда, кубиков, полукруглыми рядами опоясавших его. А вокруг над поросшими густым хвойным лесом холмами вздымается бело-розовый зубчатый венец Иерусалима. Так уж расстелено пространство здесь, в Иудейских горах, что в ясную погоду – а она довольно часто ясная – видны даже очень далекие холмы. Отсюда – странный оптический эффект, благодаря которому возникает ощущение необъятности этой, в сущности, очень маленькой земли… Одной из самых маленьких земель на свете…
Словом, из моего окна видно кладбище, где когда-нибудь я буду лежать.
Ну что ж, «похоронена в Иерусалиме» – это звучит нарядно.
Это красиво, черт возьми! Это вполне карнавально.
Рассказы
Большеглазый император, семейство морских карасей
Семену Гринбергу
Омерзителен этот мир, Сеня… Омерзителен… Порой такая тошнота подкатит, особенно из-за своей рожи в зеркале – хоть неделями не брейся… Нет, не хочу я сказать, что ненавижу здесь всех и каждого. Наоборот – отдельно к каждому я вполне прилично отношусь. Но вместе взятые, они сильно дешевеют. Оптовая продажа.
Меня что особенно бесит – эта вот их восточная расхлябанность. У них здесь мосты обваливаются и вертолеты с отборными солдатиками сталкиваются просто так, от жары, от душевной простоты… Простые они…
Ты видал, как мужики здесь целуются? Не педики, нет, – отцы семейств. Друг друга по щечке треплют. У нас в России, Сеня, кто тебя за щечку мог бы взять? Разве что пятерней да затылком об забор – так ведь то другие обстоятельства, я ж не об этом…
Мне дочь, Иринка, говорит – это в тебе болезненное самолюбие ворочается. А при чем тут самолюбие? Мне здесь обижаться не на кого. Наоборот – я, пока за стариками ходил, знаешь, сколько людей перевидал. Какие характеры, какие судьбы!
Был у меня один такой, безногий, красивый человек. Капитан. Войну закончил в Берлине. Привез овчарку из псарни Геринга. Она по-русски не понимала, так он, знаешь, говорил с ней на идиш. Зигфрид – звали овчарку. Откликалась на идиш. «Гей ци мир, а гитер хинделе». Хороший был человек. И за ним особо ухаживать не требовалось, сам приноровился все делать. Лихо на кресле разъезжал, хоть в цирке выступать. Я ему только мыться помогал, потому что намыленному инвалиду трудно из ванны выбираться. А ноги ему не на войне оторвало, это потом, гораздо позже отняли, на почве диабета. Да, отличный мужик был. До последней минуты в своем уме – это, Сеня, дорогого стоит.
Вот у меня после него одна старуха была, милая такая бабка, но с сильно отъехавшей башкой… Так она почет любила. Бывало, притащу ей из супера кошелки с продуктами, а она мне: «Рядовой Корнейчук, сдать вахту, отчитаться за смену». Это она меня Корнейчуком звала. Мой дед Залман Меирович, которого гайдамаки саблями построгали, в гробу переворачивался.
Я у нее посменно – то днем, то ночью дежурил. Днем еще ничего, а ночи тяжелые. Однажды задремал на полчасика, а она с кровати упала, все лицо в кровь расшибла. Сижу я, холодные примочки ей делаю, а она вдруг с таким стоном жалобным: «Почему матросы не приветствуют меня?»
Я от жалости чуть не заплакал, Сеня. Ну, думаю, старость, сучья ты доля… Бросил тряпку в тазик с водой, вытянулся во фрунт, честь отдал, да как гаркну: «Матросы Краснознаменного Балтийского флота выстроены для приветствия Фани Моисеевны Фишман! Р-ра-а! Р-ра-а! Р-ра-а!..»
И смех и грех…
Это потом уже, на похоронах, мне ее дочь рассказала: семью у старухи в Виннице немцы расстреляли. Пока сама она по комсомольской части какой-то транспорт сопровождала… Да всей семьи-то – мать и годовалая дочка. Ну и она в партизаны ушла, а потом каким-то образом к действующей армии прибилась и до конца войны благополучно провоевала, причем то ли стрелком, то ли сапером – какое-то вполне мужское военное дело. Так-то…
Нет, я не жалуюсь. Уход за стариками – дело как дело… Что тяжело – не успеешь к кому-то привыкнуть, а он – брыки…
Ну ничего, я отдохну. Помнишь, как у Чехова: мы отдохнем, мы отдохнем!.. На нарах я отдохну. Мне мой адвокат – какая женщина, Сеня! – тонкая, будто струна, юбкой играет – длинной, цветастой своей цыганистой юбкой, – сидит, разговаривает, а сама юбку с боку на бок ворочает, – нам, говорит, самое главное, добиваться штрафа. Только не заключения. Нет уж, говорю, геверэт Зархи, вы, пожалуйста, добивайтесь именно заключения. Отдохнуть охота…
Я… это, Сеня… водяры притащил… Лежи, лежи, я к медсестре за стаканами сбегаю… Постой, да вот, в тумбочке у тебя одноразовые стаканчики есть. Ничего, водка дезинфицирует… Ну, за твое выздоровление!
…Потом, когда я на иврите стал боле-мене лепетать, меня бросили на местные, что называется, кадры. В общем, как любят говорить в таких случаях евреи – со мной считались.
Вот у меня Моти был, Сеня! Инвалид Армии Обороны Израиля. Пенсию получал агромадную. Ни в чем не нуждался, но, главное, настоящий мужик. Представь себе – хилый старик, согнутый в дугу артритом. Из-за горба мог только в землю смотреть. Но – отчаянный водила! Пятьдесят лет за рулем. Ему в машину армейские умники такое ортопедическое кресло соорудили. Он как-то так ловко укладывал в него свой горб и за рулем сидел – как огурчик, смотрел прямо. Весь день по городу носился, и главное – все сам! Он, знаешь, в четырнадцать лет террористом был, в подпольной организации «Лехи». У его отца ювелирная лавка была, через нее-то наши ребята связь осуществляли. А он связной… Да, Моти, Моти… никаких хлопот с ним не знал. Я ему больше для компании нужен был, ей-богу. Например, он по концертам меня таскал. Такой меломан, что ты! И главное – русскую музыку обожал. Его родители в начале века сюда из России приехали, и он давно уже по-русски забыл. Понимал, правда, кое-что, сам не говорил. Но музыку, особенно русские романсы, без слез – не мог. Помню, потащил он меня на концерт в «Вицо». Там девочка, меццо-сопрано, исполняла знаменитую «Калитку». Сама тщедушная, бровки домиком, смотреть не на что, а голосина – густой, волнистый, так и вытягивает душу. Ты хоть помнишь этот романс, Сеня? «А-а-т-ва-а-ри по-тихо-оньку кали-и-тку…». Смотрю, а у моего террориста слеза под носом висит. «Кружева, – поет, – с милых уст отведу…» Что может быть на свете лучше русского романса, Сеня? А вот тюрьмы, я слышал, здесь получше. Даже радио, говорят, есть… Вот и буду слушать по радио русские романсы…
Другой еще старик у меня был, Марком звали. Я его называл Марко Поло, потому что он из дому сбегал. И вот что любопытно: прекрасно готовил, стол сам сервировал – обалдеешь. Бывало, приду к нему утром, а у него уже к завтраку на две персоны накрыто, да как: тарелочки одна на другой, салфеточки льняные, ножик к вилочке, ложка к ножику… А вот имя свое забывал… Как сбежит – ищи-свищи, находили его и в Хайфе, и в Актах. От нацистов убегал, он ведь всю войну в Берген-Бельзене у газовых печей грелся. Выжил, потому что за поляка себя выдавал.
Я с ним должен был с утра до часу сидеть, а в три приходила племянница. На эти два часа у нас с ней уговор был: я его запирал в квартире и ключ в почтовый ящик бросал. Однажды он таки уговорил меня не запирать его. Толково так, убедительно объяснял. Я и думаю: действительно, что ж я такого разумного человека, как зверя в клетке, держу!.. Ты уже понял, Сеня, что он смылся, как только я за угол дома завернул?..
Нашли его дня через два – вон где! – в Кацрине, на Голанах.
Так что с работы меня выгнали. Но нет худа без добра. Я за эти два месяца тьму картинок написал: пейзажей, этюдов. В религиозном районе Меа Шеарим, в Иерусалиме, там очень живописно… Приезжал с утра на автобусе, расставлял этюдник… Вот их ругают все, ультраортодоксов. Да, там забавные такие людишки шастают: мужики в лапсердаках и с пейсами, бабы в париках и чулках, в самую жарынь… Но, знаешь, Сеня, очень доброжелательно там ко мне относились. Подходили, заглядывали в этюдник, языками цокали… Однажды стою я так, пишу пейзаж. Подходит ко мне пацан лет десяти, с пейсами, в черной ермолке, все как положено. Спрашивает:
– Ты что рисуешь?
– Да вон, видишь, – говорю, – дом тот, и дерево, и синагогу…
– А сколько будет стоить эта твоя картина?
– Ну… если хорошо выйдет, много будет стоить, если плохо получится – то нисколько.
Проходит час, полтора… стою, работаю. Вдруг случайно обернулся, – а пацан так и сидит за моей спиной, на спиленном бревне. Я удивился:
– Ты чего сидишь?
Он отвечает:
– Жду. Если картина твоя плохо выйдет, ты мне ее отдашь…