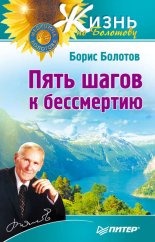Княгиня Ольга. Пламя над Босфором Дворецкая Елизавета

© Дворецкая Е., 2017
© Нартов В., иллюстрация на переплете, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Предисловие
Князю Игорю – который Рюрикович и он же Старый – очень не везет в литературе. Пишут о нем мало – меньше, чем о его отце, сыне, внуке. Да и образ получается малоприятный. У писателей за ним закрепилась репутация как минимум неудачника, человека слабовольного и неумного. В ряду таких исполинов, как Рюрик, Олег Вещий, Свято-слав, даже Владимир (фигура неоднозначная, но, безусловно, масштабная), Игорь, основатель династии Рюриковичей в Киеве, выглядит очень невыразительно. Бедный родственник какой-то, слабое звено в цепи богатырей. Статист в пьесе, посвященной его отцу, дяде, жене или сыну. Как будто на нем природа переводила дух между Олегом и Святославом.
А между тем жизнь Игоря прошла определенно не зря. На период его правления выпадает несколько значимых событий и военных кампаний, иные из которых летопись не связывает напрямую с его именем, а другие не попали в летопись вообще. Или были ею «подарены» другим персонажам. Например, основание Новгорода летописная традиция присвоила Рюрику, хотя археология показывает, что начало городу было положено в 930–950-х годах – а это эпоха Игоря. Присоединение к Киевской Руси Смоленска летопись отдала Олегу Вещему – а война за это присоединение разразилась опять же в середине Х века при Игоре! При нем, около 940 года, состоялся поход руси на хазарский Самкрай (Тамань), а три года спустя – на Бердаа (нынешний Азербайджан); не будучи связаны с Игорем напрямую, эти походы, тем не менее, являются частью его внешней политики. Игорь имеет на своем счету походы на печенегов, покорение древлян и уличей. При нем состоялась очередная война с греками 941–943 годов и последующее заключение договора. Итого, не менее семи-восьми крупных военно-политических кампаний! Велась в его время и некая законодательская деятельность: в договоре руси с греками 944 года есть ссылка на «устав и закон Русский», притом что в предыдущем договоре, 911 года, есть ссылка только на «закон русский». А это значит, что при Игоре издавались княжеские законодательные акты («уставы»).
Поход 941 года принято относить к неудачным. Хотя Повесть Временных Лет говорит о нем так:
«И пришли, и подплыли, и стали воевать страну Вифинскую, и попленили землю по Понтийскому морю до Ираклии и до Пафлагонской земли, и всю страну Никомидийскую попленили, и Суд весь пожгли… Монастыри и села пожгли и по обоим берегам Суда захватили немало богатств. Когда же пришли с востока воины – Панфир-доместик с сорока тысячами, Фока-патриций с македонянами, Федор-стратилат с фракийцами, с ними же и сановные бояре, то окружили русь. Русские же, посовещавшись, вышли против греков с оружием, и в жестоком сражении едва одолели греки. Русские же к вечеру возвратились к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли…»[1] (Перевод Д. С. Лихачева)
Из этого следует, что русы наступали сразу в двух направлениях – ушли за 100 километров (до Никомедии в Вифинии) вдоль побережья Мраморного моря (за Босфором) и более чем за 300 километров на восток вдоль южного берега Черного моря (до Гераклеи в Пафлагонии). Сожгли Золотой Рог – залив, на котором стоит собственно Константинополь. Взяли большую добычу, а чтобы остановить их, понадобилось более сорока тысяч греческого войска. И то – «едва одолели». А поскольку в те времена целью любой войны считалось причинение противнику максимального ущерба экономических и людских ресурсов, то поход этот был для русов не так уж неудачен.
Тем не менее в литературе сложился образ Игоря – вечного недоросля, что до седых волос прожил под началом Олега Вещего, сходил в один неудачный поход, а потом принял позорную смерть по собственной жадности. Созданная летописцами дурная репутация Игоря Старого привела к тому, что о нем и писать почти никто не хочет. Мне известна всего пара романов, посвященных именно ему, но даже в них походу 941 года уделено очень мало внимания: буквально пара страниц. Битву в Босфоре укладывают в пару абзацев – а ведь это был не просто первый случай, когда русы столкнулись с «греческим огнем», но первый описанный случай в истории, когда русы либо норманны встретились с греками в морском бою! Хотя бы уникальностью это событие заслужило более подробного рассмотрения. Тем не менее писатели как будто стыдливо отворачиваются от Игоря и спешат перейти к эпохе Святослава, чья репутация куда лучше отцовской, хотя лучше ли итоги его деятельности?
Итак, если я не сильно заблуждаюсь, мне досталась честь написать первый роман о русско-греческой войне 941 года с подробным раскрытием темы – настолько, насколько это позволяет изучение материала. А позволяет оно немало, и завершение этой военно-политической кампании пришлось отложить до следующей книги, чтобы не комкать события, заслуживающие подробного изложения.
Часть первая
Прощальный пир шел с полудня, и толпы гостей в старой Олеговой гриднице сменились уже не раз. Здесь перебывал весь Киев, все старейшины полянских, древлянских, северянских городков, что съехались на проводы князя с дружиной. Не считая воевод тех земель, что отправляли свои полки с Ингваром на Греческое царство. Каждому из них князь поднимал чару:
– Пью на тебя![2] Здоровья и удачи да пошлют тебе боги!
В ответ гость пил за князя и переворачивал пустую чашу вверх дном:
– Пусть у врагов твоих останется крови в жилах столько, сколько пива в этой чаше!
Княгиня Эльга, будто маков цвет в своем греческом платье из красного шелка с золотым шитьем, обходила столы, ласково приговаривая:
– Угощайтесь, гости дорогие! Что же вы не кушаете?
– Спасибо, матушка княгиня, мы кушаем! – отвечали ей бояре, вновь берясь за мясо и похлебку.
И собравшись воевать Греческое царство, уроженцы славянских земель тщательно соблюдали старинный застольный обычай. Съев по кусочку, откладывали ножи и ложки, и Эльга начинала снова:
– Что же вы не кушаете? Кушайте побольше!
Если не уговаривать, не станут есть, уйдут голодными и затаят обиду. Едва начинало темнеть, но у Эльги кружилась голова от усталости, в ушах шумело от голосов. Пылал огонь в очаге, по всей гриднице горели факелы; в глазах рябило от шевелящихся теней и пощипывало от дыма. Опустишь веки – и в темноте вспыхивают солнечно-рыжие пятна.
Однако не стоило показывать своего утомления, и Эльга быстро открывала глаза, окидывала взглядом гридницу. Улыбалась царящему разгрому – столы завалены объедками и залиты пивом. Гости больше не в силах ни есть, ни пить – те, кто еще не заснул. На полу хрустят черепки, между блюдами валяются забытые поясные ножи. Челядь пыталась прибираться, но жареных бычьих туш было три, не считая более мелкой скотины и дичи, и груды костей вновь росли. Гусляры уже охрипли, золотые струны полопались, и теперь гриди и отроки пели кто во что горазд. Расстегнуты были нарядные кафтаны, беленые сорочки украсились пятнами; Гудфаст расшумелся, братья Любомил и Мысливец, сыновья Трюгге, вдвоем вели его спать, а он цеплялся за косяки и чего-то кричал…
Хотелось тишины и покоя, но княгиня не могла рано уйти с прощального пира. Сегодня будут гулять, пока не заснут прямо за столом самые стойкие. Завтрашний день нарочно отведен для отдыха, а послезавтра с рассветом – на весло. Не верилось, что уже через день в Киеве, Любече, Вышгороде и Витичеве настанет тишина. Собранное двадцатитысячное войско не могло поместиться ни в одном из городов – даже в столице, – и распределялось по четырем. Старый Чернигость в Любиче, Тормар в Витичеве, Ивор в Вышгороде сейчас тоже завершают такие же пиры. Послезавтра города опустеют, настанет покой…
Но эти мысли Эльга отгоняла прочь. Уже через два дня она будет о них жалеть. Она еще раз окинула взглядом гридницу, скользнула по растрепанным головам и помятым лицам. Несмотря на усталость, в груди стало тесно от тревоги и любви. Ей даже не надо было смотреть на Ингвара – молодого князя русского, – чтобы ощутить эту любовь. Он, ее муж, всего лишь голова руси, острие меча. Держат меч тысячи, десятки тысяч рук, и каждый из этих людей был дорог Эльге, как брат.
Брат! Она уже направленно поискала глазами Эймунда, но не нашла. Неужели хватило ума пойти отдыхать? На три года моложе ее, семнадцатилетний родной брат стоит на пороге своей славы. Думая о нем, Эльга так волновалась, будто идти в первый настоящий поход предстояло ей самой.
Взгляд зацепился за другое знакомое лицо. Мистина Свенельдич тоже выглядел усталым – немалая часть подготовки похода лежала на его широких плечах. И она, Эльга, через два дня останется дома отдыхать, а он уйдет с войском.
Сын Свенельда уже три года, с тех пор как Ингвар занял княжий стол, состоял сотским его гридей-телохранителей. Но перед походом Ингвар заменил его в этой должности Гримкелем Секирой, а Мистина собрал свою собственную дружину. Тут выяснилось, что за сокровища Свенельд хранил в прочных ларях своих клетей: у него хватило средств набрать, вооружить и снарядить двести человек и десять лодий для них.
На нынешнем пиру Ингвар перед всеми указал на Мистину как на преемника своих прав, если сам окажется убит, ранен, пленен или оторван от основной части войска. Выбору его никто не удивился: все знали, что два побратима с детства неразлучны и что своему нынешнему положению Ингвар во многом обязан Свенельду и его сыну.
Сейчас Мистина смотрел на Эльгу, проводя рукой по шее и груди в разрезе сорочки – в душной гриднице было жарко. Так смотрел, будто хотел что-то сказать… И сказать о том, о чем она ему запретила с ней говорить.
Но сегодня Эльга не чувствовала прежней твердости. Ведь еще два дня – и у них долго не будет возможности перекинуться словом. До осени. Если… Нет, до осени! О других возможных исходах затеянного дела Эльга не хотела думать.
Лишь на миг их взгляды встретились, но этого хватило. Мысленно махнув рукой на собственные зароки, Эльга неприметно осмотрелась, встала и прошла к двери. Никто не обратит внимания: княгиня весь день ходит то в поварню, то в погреба. Погреба… Чуры дорогие, ни пива, ни меда готового, кроме недавно поставленного и еще незрелого, у них к утру не останется. Велела спрятать и заперла две последние бочки пива – опохмелиться ближней дружине…
Снаружи свежесть ранней весенней ночи так и пала на плечи, и Эльга с наслаждением втянула в грудь прохладный воздух. После душной дымной зимы возможность выйти в одном платье еще несла блаженство. Заросли на склонах киевских гор уже оделись зеленью – наступил травень-месяц, растаял лед, шедший с верховьев Днепра, и высокая вода обещала стрелой промчать тысячу лодий мимо крутых берегов над порогами в Греческое море.
Во дворе тоже толпился народ. Ворота стояли нараспашку – непорядок, но сегодня приходится терпеть. Гриди, отроки, киевляне, вои – все бродили туда-сюда, слышался разноязычный говор. Эльга прошла в избу. Трое отроков на скамье под навесом смотрели на Ингваровых гридей с завистью: три десятка ближней дружины оставались беречь княгиню, им не видать ратной славы в это лето.
В доме было пусто, огня не горело. Вся челядь занята на пиру, Добрета уложила Святку в бывшей Малфридиной избе и сидит с ним. Ему уже три с половиной года, и сегодня поутру, когда Ингвар приносил жеребца в жертву Перуну на Святой горе, наследник его стоял рядом, держась за руку матери. И он кричал «Перуну слава!» (у него пока получалось: «Пелуну сава») со всеми вместе, и в гуще мужских голосов его звонкий детский голосок блестел, как солнечный лучик. Ингвар его услышал: подхватил сына на руки и поднял над головой, призывая благословение Перуна и на него, будущего воина и своего наследника. И Святка тянулся к небу, восторженно крича; Эльга даже испугалась, что сейчас дитя вырвется из отцовских рук и унесется в голубую высь. От вершины Святой горы до неба так близко… А она не может отпустить сына, он у нее один… Все еще.
Эльга ждала, застыв у двери в пустой темной избе. Было чувство, что она должна выполнить какой-то позабытый, но очень важный долг, без чего никому не будет удачи: ни ей, ни войску.
Он сейчас придет… Она ничего ему не сказала, но он и так все понял. Как это много раз бывало между ними, у Эльги было двойственное чувство: она ждала его и при этом считала свою уверенность неосновательной. Но и раньше разум всегда проигрывал чутью.
Как давно они не виделись наедине – почти полтора года. С тех пор как она решила, что это ни к чему…
Скрипнуло крыльцо под ногами – послышались тяжелые, мужские шаги, – но отроки пропустили пришедшего молча. Так они пропускали только двоих: самого князя и его побратима. И по скрипу крыльца Эльга знала, который из двоих идет.
Свенельдов сын вошел, низко наклоняясь под притолокой, затворил за собой дверь, увидел хозяйку совсем рядом и остановился. Но ничего не сказал, и у Эльги бешено забилось сердце. Бывает молчание, несущее больше, чем могут вместить слова.
С прошлой зимы, поняв, что до большой беды остался один шаг, она стала обращаться с Мистиной сдержаннее. Закончились шутки про баню и бусы, двусмысленные речи, намеки, которым придавал значение лишь голос и взгляд говорившего. Эльга ужаснулась, поняв, что вот-вот может стать нечестной. И еще больше ее напугало то, что Мистина, казалось, ничуть не боялся их общего бесчестья.
Закон и обычай указывают каждому нижнюю грань допустимого – если не в мыслях и желаниях, то хотя бы в поступках. Но Мистина дозволенное и недозволенное определял для себя сам, и Эльга не решалась бросать взгляд в глубины его души.
Прошлой зимой, получив прямой отказ, он отступил, принял вид любезного родича, и порой ей не верилось, что в прошлом она бывала так безрассудна и позволяла ему такие смелые… шутки. В начале минувшей осени обозначился нынешний поход, для всех нашлось дело. Мистине приходилось много ездить, собирая войско, он месяцами не бывал в Киеве; Эльгу тоже отвлекали заботы, и порой Мистина отодвигался в ее мыслях так далеко, что на какое-то время она переставала ощущать его присутствие в своей жизни.
Но часто она скучала по прежнему Мистине: ведь по сути, прошлой зимой она запретила ему говорить с ней откровенно. И после того, даже стоя рядом с ним, ощущала его как бы находящимся за прозрачной стеной. Но крепилась: эта стена охраняла и честь семьи, и благополучие державы. И только в этот вечер, когда все дела с походом были завершены, Эльга осознала: еще день, и между ними встанет борт лодьи. А это преграда посильнее любых стен. Потом – Греческое море…
Стало холодно от мысли, что уже через два дня они с Утой обе останутся без мужей. И сейчас, смутно различая фигуру Мистины в темноте у двери, Эльга ощущала его присутствие с такой же яркой полнотой, как в тот тревожный вечер, когда он показывал ей свой шлем с новой позолоченной отделкой. Она вспомнила сразу так много – о нем и о себе, – что от волнения стало трудно дышать.
– Хочу с тобой проститься, – донесся из полутьмы низкий, усталый и оттого непривычно невыразительный голос. – Завтра уже будет ли час, нет ли…
Эльга не нашла ответа. По голосу его стало ясно: и он ничего не забыл.
– Ты будешь меня ждать?
Она молчала. Мистина Свенельдич – побратим ее мужа и муж ее сестры. Довольно поводов, чтобы сказать «да». Но он спрашивал не об этом. Он спрашивал не как родич. И то, что Эльга это понимала, будило в ней испуг не меньший, чем волнение. Все, что она считала оставшимся в прошлом, вдруг вновь встало совсем рядом во весь рост. Будто призрак, что скроется с глаз, но не отстанет, как ни беги.
Хорошо, что в избе было темно и она даже не видела его лица – лишь различала рослую фигуру, прислонившуюся к косяку, тусклый блеск золотной тесьмы на голубом шелковом кафтане – подарке королевы Сванхейд из Хольмгарда. Но и так Эльгу не покидало ощущение, что Мистины как-то уж очень много.
За эти полтора года бывало, что влечение к нему накатывало на нее, будто мучительная хворь, и целыми днями она не могла думать ни о чем другом. Но Эльга хорошо понимала: за той дверью, что она держит запертой, никакого простора нет. Открыв ее, шагнуть можно только в пропасть.
– Возьми, – Мистина сделал какое-то движение возле своей головы, потом придвинулся к Эльге, нашел в полутьме ее руку и вложил в нее что-то – небольшое, продолговатое и твердое, костяное на ощупь.
– Что это? – Эльга подняла врученное к лицу и тут же узнала – скорее пальцами, чем глазами.
Это был оберег, еще хранивший тепло его тела, – медвежий клык с искусно вырезанными на концах мордой и хвостом ящера. В отверстие меж ящеровых зубов было вставлено серебряное колечко, а через него пропущен ремешок.
«В тот самый день, когда я родился, тронулся лед на Волхове, – рассказал он ей когда-то, еще до похода Хельги на хазар. – Это означало, что Ящер проснулся. Сванхейд сказала тогда, что Ящер и медведь будут моими покровителями…»
– Что ты? – Эльга в изумлении подняла глаза к лицу Мистины. – Ты отдаешь мне своего ящера? А как же ты без него?
– В нем моя жизнь. Сохрани ее для меня.
Эльга помолчала, потом осторожно спросила:
– Ты сильно пьян?
Было бы о чем спрашивать – словно она не видела, сколько чаш и рогов он сегодня поднял на пиру и сколько людей жаждало выпить с ним. На два года старше Ингвара, двадцатипятилетний Мстислав Свенельдич был первым среди воевод и вторым после князя человеком в войске.
– Порядком, но в уме, – спокойно ответил он.
– Ты уверен? – Она качнула в руке костяного ящера.
– Да. Мне ведь остается торсхаммер. – Мистина положил руку на грудь, где висел на хитро сплетенной серебряной цепи второй оберег, варяжский. – А ящер пусть будет у тебя. Мужчины отнимают жизнь, а женщины дают и сохраняют. Побереги мою у себя. Так вернее.
Можно было бы спросить, почему он не отдаст свою жизнь на хранение собственной жене… Но не нужно. Один ответ на этот вопрос был слишком очевиден, чтобы давать его вслух, а другой, наоборот, оглашать не стоило.
Эльга прижала к груди руку с ящером. Как княгиня она сегодня уже призвала на него благословение богов – заодно со всем войском. Но кое-что в ее душе предназначалось только для него. И сейчас, в весенней тьме предпоследнего вечера мирной жизни, это что-то вырвалось из того тайного хранилища, куда Эльга старательно его затолкала, и властно заявило о себе. Запертая дверь распахнулась сама собой, и неодолимая сила потянула Эльгу вперед. Бороться с этой силой было так же бесполезно, как пытаться руками остановить течение реки.
Этого не должно быть. Она никогда ему об этом не скажет… и себе тоже. Но едва успев вылепить в голове эту мысль, Эльга положила свободную руку ему на грудь и потянулась вверх. Мистина наклонился к ней, обнял, мягко прижался губами к ее губам и так застыл. Она слышала, как сильно, гулко бьется его сердце под ее ладонью. Ясно было, чего он ждет. Разрешения после однажды наложенного запрета.
Отчетливо сознавая, что этого делать не надо, Эльга тем не менее приоткрыла рот и позволила ему превратить поцелуй из родственно-вежливого в любовный. Есть вещи сильнее разума: его запах, кружащее голову ощущение его близости, щекочущее прикосновение бороды к лицу, тепло рта с легким запахом хмельного меда…
Торопясь, пока она не передумала, он накрыл ладонью ее затылок и погрузился в поцелуй, как в воду с головой. С такой готовностью, будто вечер тот был не почти полтора года назад, а лишь на днях, и все это время он с нетерпением ждал продолжения. Его спокойствие, близкое к равнодушию, оказалось притворным.
Сначала Эльга замерла в нерешительности, понимая: каждое мгновение податливости приближает ее гибель. Но потом стала отвечать ему – каждый шаг на этом пути был так сладок, что не хватало воли отстраниться. Другой рукой он крепко прижимал ее к себе, и она чувствовала, как сильно он возбужден и как мало намерен это скрыть. Трудно было открыть глаза, разум и воля растворялись в этом жарком облаке, оставляя одно стремление – слиться с ним как можно полнее.
Оторвавшись от ее губ, Мистина стал жадно целовать ее в шею под краем шелкового убруса. Слабели ноги, и только уголком сознания Эльга отмечала: если она сейчас не прекратит это, то дальше он просто не услышит ее. Он давно решился и ждал только ее знака. Однажды она сказала «нет», но он лишь притворился, будто отступил, и стал терпеливо ждать, пока она передумает. А он свой выбор давно сделал и его держался. В уверенности, что ее упорство растает раньше.
Но за бесчестьем и беда не замедлит. А им вот-вот идти на войну – ему и Ингвару, мужу ее…
– Пусти! – выдохнула Эльга, пытаясь его оттолкнуть. – Уймись! Не гневи богов перед походом!
Мистина выпустил ее и помолчал, пока она старалась прийти в себя и дрожащими руками поправляла сбитый убрус.
– Я ведь могу не вернуться… – напомнил он то самое, о чем она не хотела думать.
Лишь это сейчас и казалось важным.
– Ты вернее уцелеешь, если…
«Если не отнимешь честь своего побратима… И свою… И я вернее дождусь мужа невредимым, если не уроню его чести…» Эльга не сумела подобрать слов для этих обрывочных мыслей, но ясно понимала: человек достойный скорее может надеяться на благосклонность богов и потому не стоит совершать предательство, даже семейное, за день до начала войны. И сказала другое:
– Если будешь знать… Что еще не было ничего!
И наконец справилась с собой настолько, чтобы взглянуть ему в лицо. Даже его кривоватый нос с горбинкой от давнего перелома казался ей самым красивым в Киеве. Глядя на Мистину, Эльга хорошо понимала, почему так далеко зашла, пусть и ужасаясь самой себе. Напрасно она посчитала, будто исцелилась. Стоило вновь подпустить его близко, как чары вернулись и овладели ею.
– Это обещание? – Он тоже опомнился настолько, чтобы усмехнуться.
– Этого я не говорила! А ящера сохраню. Ступай.
Без единого слова он развернулся и вышел.
Эльга осталась на прежнем месте, прижимая к груди руку с костяным ящером, а другую приложив ко рту. Пытаясь не то взять назад те слова, что и впрямь слишком походили на обещание, не то сохранить тепло его жизни, которое он так щедро вкладывал в свои поцелуи.
Эймунд ушел с пира куда раньше, чем сестра-княгиня о нем вспомнила. Не будь Эльга так занята своим, легко догадалась бы, где искать младшего брата.
– Ты куда это? – окликнул его собственный старший телохранитель, Богославец.
– Пройтись хочу. Жарко там.
– Далеко пройтись? Сейчас коня дам.
– Да не надо мне коня! – Эймунд нахмурился, скрывая смущение: не очень хотелось, чтобы отроки его сопровождали.
– Надо! – уверенно кивнул Богославец. – Мы здесь не дома, в Киеве тебе пешком ходить – честь ронять. Обожди, Дыбуля живо оседлает.
И пришлось отправляться, как положено воеводе: верхом и с тремя отроками. В душе Эймунд понимал, что пока мало успел сделать для своей чести, а родовая честь уже владела и управляла им.
Иные отроки и во сне не могут увидеть – в семнадцать лет, не женившись даже, встать во главе трехсотенной дружины из северных кривичей и русов. Но племянник Олега Вещего и родной брат киевской княгини и был рожден именно для такой судьбы. Родичи с берегов реки Великой – из Варягина, Люботина и Плескова – на общем совете выбрали его. Не считая дяди Торлейва, нынешнего главы Олегова рода, Эймунд оказался в нем старшим из мужчин, кто еще оставался на привычном месте. Пять лет назад уехал в Киев двоюродный брат Асмунд, два года назад – сводный брат Хельги Красный. Олейв и Кетиль были еще отрочати[3], а Эймунду пришла пора искать свою славу.
Путь от Плескова до Киева с войском занял почти полтора месяца. Едва успели до того, как лед на реках стал ненадежен. Здесь заселились в дружинные дома на пустыре, выстроенные Ингваром за минувшую зиму. Ждали, пока пройдет ледоход, пока спустятся сверху лодьи и подтянутся остальные дружины. Скучать было некогда. Ингваровы сотские заставляли каждый день упражняться: стрелять, метать сулицы, биться копьем и топором, учили ратников ходить «стеной щитов». Часто, когда Эймунд уже засыпал, перед глазами у него все топали по снегу ноги в черевьях и набитых соломой поршнях, теснился ряд сомкнутых щитов, блестел золоченый шлем воеводы – по нему и по стягу бойцов учили соизмерять свои передвижения в бою. И отдавался в голове повелительный голос зятя Мистины Свенельдича: «Шаг! Шаг! Надо, паробки, надо!»
Но вот все это позади. Лодьи оснащены и загружены поклажей, сегодня его предпоследний вечер в Киеве. Дальше – поход, и тогда уже станет ясно, не напрасно ли ему досталась такая честь и достоин ли он, Эймунд сын Вальгарда, зваться родным племянником Олега Вещего – победителя Царьграда.
На широком Свенельдовом дворе было тихо, многочисленные постройки стояли с закрытыми дверями. Дружины обоих воевод – старого и молодого – сейчас гуляли на Олеговой горе, а почти вся челядь ушла вместе с Утой туда же – помогать княгине в хлопотах. Дома оставались сторожа и малолетние заложники, опекаемые доброй воеводшей Утой.
Однако Эймунда пропустили без вопросов. Старшина сторожей, Бьярки Кривой, буркнул: «Никого нет», держа, однако, воротную створку полуоткрытой: пусть брат хозяйки сам решает, заходить или нет.
Эймунд предпочел войти. Во дворе сразу повернул к «девичьей» избе, где обитала часть женской прислуги и дети. Тихо постучал: может, спят уже. Вслушался в тишину внутри. Весенние сумерки прохладной ладонью ерошили волосы на затылке, и среди них от этой тишины Эймунд волновался еще сильнее. Казалось, сквозь толстую дубовую дверь и бревенчатую стену он различает легкие шаги по дощатому полу. И правда: когда шаги приблизились, дверь отворилась.
За порогом стояла невысокая девушка в варяжском платье некрашеной светло-серой шерсти – Дивуша. Увидев Эймунда, переменилась в лице, будто удивилась и смутилась. Эймунда слегка покоробило: показалось, она ожидала кого-то другого. Дивуша оглянулась в полутьму тихой избы, потом живо перебралась через порог и притворила дверь за собой.
– Никого нет! – шепнула она то же, что и Бьярки. – Только я и девчонки. Воеводы оба у князя, и Ута тоже. Думала, это Зорян, – добавила она, и у Эймунда отлегло от сердца. – Ждала, может, все же зайдет проститься, брат все-таки родной… Будь жив, – с опозданием добавила она.
– Видел его там, у князя, – кивнул Эймунд. – Будь жива…
Втайне он радовался, что молодой ловацкий князь не пришел прощаться с сестрой, ибо в его обществе ничего приятного не было. Заключенный ряд обязывал Зоряна поддерживать Ингвара военной силой. Но память о том, как Ловать попала под власть Киева, была еще совсем свежа, и желающие воевать за русов там находились с трудом. Большинство готовых взяться за оружие сами же Ингвар со Свенельдом и перебили пять лет назад, в войне за Эльгино приданое, и для похода на греков Зорян Дивиславич набрал всего три десятка отроков.
– И… – вопросительно произнесла Дивуша, не смея сказать княгининому родичу «чего тебе надо?».
Эймунд помедлил. От смущения тянуло развернуться и уйти, но тогда перед самим собой будет стыдно – чего же приходил? И перед отроками…
– Ты-то не спишь еще?
– Боярыню жду. Я если одна остаюсь с младшими, то не ложусь, пока Ута не вернется.
– Давай вместе ждать? – неловко предложил Эймунд.
– Т-туда нельзя, – с запинкой Дивуша кивнула на дверь позади себя. – Наши спят.
Она прошла по крыльцу и села на скамью под навесом, где челядинки в теплую пору года шили при дневном свете. Вид ее выражал смущение: она не привыкла принимать знатных гостей сама, без хозяев. Пусть даже эти знатные гости всего на пару лет старше ее самой. Но что за важность – годы. Перед ней стоял братанич Олега Вещего, сестрич Воислава плесковского, родной брат киевской княгини Эльги. Воевода северной кривской земли. Все эти звания почти заслоняли от глаз его самого; сколько лет ее вечернему гостю, Дивуша задумалась бы в последнюю очередь.
Зачем он пришел? Когда Эймунд навещал сестру Уту, Дивуша тайком поглядывала на него, и каждый раз внутри проходила теплая дрожь, тревожная и радостная. Сама все пыталась понять: чего в нем такого особенного? Высокий рост, светлые волосы, прямой нос, острый подбородок, выступающие скулы, из-за чего щеки на продолговатом лице кажутся слегка впалыми. Таких парней много, но Дивуше мерещилось, будто на лице Эймунда всегда лежит солнечный луч. Глаза его напоминали глаза княгини: ярко-голубые, без зеленоватого отлива, они так же искрились при ярком свете, будто два самоцвета. Никогда еще Дивуша не видела у мужчины таких красивых глаз! И все эти два месяца, что Эймунд провел в Киеве, ее не покидало ощущение, будто в жизни появилось нечто хорошее, сулящее радость.
Нынче вечером Дивуша вспоминала Эймунда, вздыхая про себя: остался один день до отбытия дружины, и едва ли он успеет заглянуть сюда еще раз. А на пристань, посмотреть на уход войска, Ута, скорее всего, юных питомиц не пустит… Но теперь, когда княгинин брат вдруг взял и сам пришел, будто притянутый ее мыслями, Дивуша растерялась. О чем с ним говорить? И чего он ждет?
На этот вопрос Эймунд и сам не смог бы ответить. Ему случалось видеть Дивушу в доме Уты, но девушка или хлопотала по хозяйству, неслышно скользя у стола, или возилась с младшими девочками, или сидела в углу на ларе, занятая вязанием белого чулочка. Иногда посматривала на него, но с приличной скромностью отводила глаза от его взгляда. Его тянуло поговорить с ней наедине, когда не надо отвлекаться ни на кого другого. Но только в почти последний вечер, зная, что сейчас всем не до него, он и решился на это. А теперь не находил слов.
Эймунд поколебался: садиться на бабскую скамью ему было не к лицу, но не стоять же возле девушки «бдыном», как говорит сестра Эльга. Оглянувшись, он убедился, что на широком дворе почти никого нет, и осторожно присел рядом с Дивушей. Только трое его отроков отдыхали возле коновязи, и Бьярки Кривой обосновался на колоде у ворот.
– Он нынче всю ночь спать не будет, – шепнула Дивуша, заметив, куда Эймунд смотрит. – Полнолуние, – она показала в светло-синее, холодное небо, где уже восходила круглая и яркая, как новенький сарацинский шеляг, луна. – К нему такими ночами побратимы его мертвые приходят. Он и беседует с ними до первых петухов.
– Какие еще побратимы?
– Плишка Щербина и Шкуродер. Я их не знала, они сгинули в ту зиму, когда мы только в Киев приехали, но мы еще совсем детьми были. Только слышала, как Бьярки про них братьям рассказывал. А что ты не на пиру?
– Да упились уже все, – Эймунд слегка нахмурился, глядя на Бьярки у ворот. – Скучно там. Все песни перепели, все пляски переплясали и под стол упали.
Дивуша фыркнула от смеха, и это подбодрило Эймунда.
– Скорее бы уж выступать…
– Ждешь? – Дивуша с пониманием взглянула на него.
Пять лет она росла среди людей, для которых заморский поход был почти таким же ежегодным явлением, как для оратая пахота и сев. И жены русов ожидали к осени «урожая», ради которого им не приходилось бы гнуть спины на жатве: красивых паволок, серебряных шелягов, медной посуды.
Эймунд кивнул.
– Мои три брата тоже пойдут, – добавила она. – Колояр и Соломка – с гридями, и Зорян с Ловати дружину привел.
– Те двое не молоды ли воевать? Они ведь младше тебя?
– Им по четырнадцать.
– Двояки[4], что ли? – усмехнулся Эймунд. – А вроде не похожи друг на друга.
– Колояр – наш двоюродный брат, сын Держаны, сестры нашей матери. Она с нами сюда приехала, а два года назад умерла, как раз в эти же дни, – Дивуша кивнула на березку в углу двора, вновь одетую нежной листвой. – Видели бы наши матери нынче сыновей! – вздохнула она. – Могли ли подумать или хоть во сне увидеть, что их чада с русами в поход за море пойдут. Привезли их сюда чадами осиротевшими, и вот братья мои уже гриди! Обещают мне цветного платья привезти и всякого узорочья греческого.
Если князь Зорян в поход шел с явной неохотой, только в силу обязанности, то Колояр и Соломир, воспитанные на Свенельдовом дворе среди оружников, впитали все взгляды и устремления русских дружин. Год назад, когда им было по тринадцать, Ингвар вручил им по мечу и принял их клятвы верной службы. Высокий род давал им право на такую честь в столь юном возрасте, а клятва вождю, данная однажды, сохранит силу на всю жизнь. Сейчас они собирались в поход в рядах ближней Ингваровой дружины и жаждали отличиться. Хотя, как прямо сказал им Мистина: «Вы будете молодцы, если на первый раз просто останетесь в живых».
– И платья привезем, и узорочья, – уверенно кивнул Эймунд. – За тем и едем.
– Купалие пропустите, – вздохнула Дивуша.
– Да, это жаль… А что здесь на Купалие бывает?
Дивуша стала рассказывать: как полянские девушки приносят на луг березу, украшают венками, как водят круг и поют песню «На нашем поле да четыре сокола», потом топят березку и купаются с ней сами. Как вечером парни раскладывают костры и зовут девушек через них прыгать, и как на рассвете все идут по домам и поют: «Не стой, верба, над водою, не пускай травы по Дунаю…»
– Почему по Дунаю? – не понял Эймунд. – Тут же Днепр.
– Не знаю. Я тоже раньше спрашивала, а мне сказали, всегда так пели.
Если бы не поход, с Дивушей Эймунд и гулял бы у купальских костров над Днепром. Он уже видел себя, рука об руку с нею: пышные венки на головах, цветущие стебли трав торчат во все стороны, будто лучи от лика Даждьбожьего. Потом нахмурился: ведь его здесь в это время не будет. И какой-нибудь другой парень наденет на нее венок и возьмет за руку… Целоваться еще в кругу полезет, коз-зел безрогий… Какой-нибудь трус и рохля… Кому еще здесь остаться на лето – все бойкие отроки на Греческое море уйдут!
– Ты… пойдешь на Купалие? – Он не решился спросить: «С кем ты пойдешь?».
– Не знаю… Как Ута скажет. Может, и не пустит. Она и прошлым летом нас с Предславой от себя не отпускала. Говорила, вы уже взрослые, мало ли что… У Предславы уже есть жених, ей красоваться незачем. Подрастет еще немного – ее в Деревлянь свезут, за Володислава, Добронегова сына. И будет она у нас княгиня древлянская.
– А ты? – Эймунд обеспокоенно повернулся к Дивуше.
Что, если у нее тоже есть жених? Она хоть и пленница, и заложница, а все же – княжьего рода и по отцу, и по матери. Таким невестам, бывает, женихов подбирают раньше, чем впервые косичку заплетут.
– Что – я? – Дивуша смотрела на свои руки с мозолями на пальцах от шитья и прядения.
– Ну… – Эймунд набрал воздуху и вспомнил, что ему-то не полагается робеть и мямлить. Даже с девушкой. – У тебя есть жених?
– У меня… – Дивуша тоже глубоко вдохнула, потом робко-доверительно взглянула на него и созналась: – Я не знаю.
– Как так? Тебя не обручали ни с кем?
– Нет… Чтобы я знала – нет. Но Ута однажды сказала…
– Что сказала?
– Что княгиня о нас позаботится. Подберет нам женихов – мне, Живлянке, Делянке…
– И как же она думает… О вас позаботиться?
Сестра Эльга должна как следует постараться, чтобы Дивуше достался не какой-нибудь рохля или низкородный! Эймунда тревожила эта мысль, но он не вполне понимал почему.
– Не знаю…
Вдруг загорелись щеки, и Дивуша прижала к ним холодные ладони. Она уже озябла на дворе в одном платье, надо было свиту взять. Сходить? Но не всю же ночь она собирается с ним тут сидеть!
– Хочешь, я скажу ей, чтобы… – начал Эймунд.
– Что? – Дивуша бросила на него неуверенный взгляд.
– Ну…
Эймунд сам толком не знал. Сначала он хотел сказать, что попросит сестру позаботиться о дочерях Дивислава получше, чтобы женихи были добрые, знатные и богатые. И только потом в голове мелькнуло: может, я и сам сгожусь? Мысль была нова и непривычна: как и все, он с детства знал, что невесту ему подберут старшие родичи. Стрыиня Кресава Доброзоровна, провожая его из Варягина, намекала, что, может, Эльга в Киеве его и женит. Это Эймунду понравилось: раз уж он возглавлял войско, оставалось только жениться, чтобы из отрока стать мужчиной. И чем больше он прославится в походе, тем лучше невесту ему потом найдут.
А сейчас подумалось: может, искать и не придется? Отроки, говоря о предстоящем походе, часто мечтали о красных девках греческих: у иных взять полонянку было единственной возможностью жениться. А Эймунд вдруг осознал: его желанная награда – не за морем, она будет ждать его здесь, в Киеве. И как самое большое счастье представил, что, может быть, по возвращении из похода увезет отсюда домой в Плесков и Дивушу.
И все это представилось ему так ясно, что, казалось, и Дивуша должна увидеть его мысли в повисшей тишине, где Эймунд слышал только стук своего сердца. И не находил слов. Но, к счастью, девушка сама прервала молчание.
– Я лучше тебя попрошу…
– Да? – Эймунд с ожиданием вскинул глаза.
– О братьях… Понимаю, у тебя своя дружина, свои люди, забот полно… Но, может… Им же всего по четырнадцать, они дальше Вышгорода да Витичева и не бывали никогда. Я просила Зоряна… Но он… – Дивуша мялась, сжимая пальцы. – Они ссорились. Он их попрекал: вы, дескать, свой род забыли, русам предались… А как им быть: они тут, во всей власти… Да они и не знают уже другой семьи, из родных не помнят никого. Зоряну уже четырнадцать было, когда отец погиб, а они были совсем дитяти, им Ингвар первые мечи деревянные дал и сам учил биться. Конечно, они его за отца почитают и клятву ему принесли. Зорян приходил два раза… Гневался… И не показывается больше. Ты поможешь им, Колошке и Соломке, если что?
– Само собой! – охотно откликнулся Эймунд. – Присмотрю за ними. Они же и сейчас… Отрочати еще совсем, – снисходительно добавил воевода с первым светлым пушком на подбородке.
– Благо тебе буди! – Дивуша подняла на него глаза и улыбнулась. Потом встала. – Пойду я. Озябла.
Эймунд в душе устыдился, что держал девушку столько времени на холоде, и не нашел, что сказать на прощание. Дивуша скользнула по длинному крыльцу к двери, толкнула ее, обернулась и, кажется, еще раз улыбнулась – он не был уверен, что разглядел ее лицо, – и исчезла.
Неслышно затворилась дверь, и Эймунд остался на воеводском дворе, широком, как целый городец. И было чувство, будто он один во всем свете белом. А она ушла не всего лишь в избу за дубовую дверь, а куда-то в Навь, куда и нет ходу простому человеку… И никогда больше он ее не увидит…
Пока они беседовали, совсем стемнело. Луна на темно-синем небе из шеляга выросла в целое блюдо яркого серебра. Бьярки Кривой сидел на своей колоде и бормотал, сквозь лунные лучи глядя в тень у ворот:
– Силищи нагнали, братцы, вы не поверите! В Киеве у Почайны стоит триста лодий! В Любиче на Кораблище стоит триста лодий! В Вышгороде – двести! Да в Витичеве – двести! Говорят, у Вещего столько было, как он на Царьград ходил. Как будто они знают! Мы знаем, как Вещий на Царьград ходил, да, Щербина? Нас бы они спросили… Все бы им толковать, о чем не ведают… Сами сулицей с пяти шагов в бычью шкуру не попадут, а разговору, будто Царьград брали по три раза… Вот мы с вами ходили когда…
Эймунд вспомнил слова Дивуши: в ночи полнолуния кривой сторож беседует со своими давно умершими побратимами. Похоже, они уже здесь, он видит их своим слепым оком.
От прохлады весенней ночи пробирала дрожь, и все же Эймунд лишь на миг замешкался, направляясь к своей лошади. Выезжая из ворот, не оглядывался, но краем глаза будто видел, как неведомые ему Щербина и Шкуродер скалят блестящие под луной зубы из тени под тыном…
Войско уходило с рассветом. Остались позади пиры, возлияния, речи над чашами и вопли жен. Каждый боярин выводил свою дружину, рассаживал по приготовленным лодьям, и рог возвещал отправку. Пускаться в путь всем одновременно не было нужды: лодьи выходили нынешним утром из четырех городов, и лишь вечером им нужно будет соединиться в назначенном месте ночлега. А это место, заранее подобранное высланными вперед отрядами, растянется на полперехода пешком. И так – еще неделю, до самых порогов, где уже понадобится держать силу в кулаке.
Отроки брались за весла. Выйдя на простор реки – ставили парус. Вскоре весь Днепр покрылся льняными и шерстяными крылами. С вершины Святой горы было похоже, будто сотни белых цветков одолень-травы плывут вниз по течению. Над водой далеко разносился прощальный голос рога. С такого расстояния все лодьи казались почти одинаковыми – лишь одни побольше, другие поменьше. Эльга не могла разглядеть красную искорку Ингварова стяга, только знала: она где-то там.
Когда на заре Ингвар уходил из дома, он был молчалив и сосредоточен. Сдержанно поцеловал середину стола, как положено перед дальней дорогой, взволнованную жену, заспанного сына. Все назначенное для богов и людей он уже сказал: на Святой горе, на причалах, где освящали жертвенной кровью лодьи, весла и паруса, на пиру над братиной. Но сейчас он прощался со своим домом, женой и ребенком не как князь русский, а как всякий из двадцати тысяч мужчин, уходящих с ним в эту дорогу. Весь мир, на какой молодая княжеская чета привыкла смотреть с высоты, сжался до размеров избы, и себя они ощущали простой семьей, откуда отец и защитник уходит надолго. Эльга прижимала к себе Святку, и ее наполняло чувство сиротства – одиночества и бесприютности.
– Ну… Не скучай, княгиня.
Ингвар остановился в последний раз у порога и окинул глазами избу – будто проверял, не забыл ли что. Лицо его, обычно оживленное, сейчас стало замкнутым, невыразительным, чуть ли не туповатым. Но Эльга смотрела на него в благоговении, с замирающим сердцем. Она знала: эта неподвижность есть внутренняя сосредоточенность на своей судьбе. В такие мгновения мысленный взор обостряется и достигает самых глубин души, ее источника, где норны прядут твою нить. Ингвар видел впереди нечто важное, может быть, сокрушительное. Но он не мог остановиться. Его вела судьба, что сильнее разума и воли. Об этом говорится в преданиях, и это раз за разом вновь подтверждается жизнью: даже видя свою кровь на дороге впереди, человек не в силах свернуть с нее. Предания учат стойко встречать свою судьбу. Ведь что ты без нее? Человек ли?
При виде этой печати судьбы у Эльги замирало сердце и умолкали уста. Что она могла сделать? Сказать ему: «Не ходи в поход» – так же бессмысленно, как сказать реке: «Не теки». Власть судьбы неодолима для обычного человека, так что же говорить о том, кто несет на себе судьбу всей руси? И хотя ей самой ничего не грозило, жизнь ее так тесно связана с жизнью мужа, что эту дорогу она пройдет вместе с ним – пусть и мысленно. И свою женскую долю ожидания ей тоже нужно принять достойно.
Когда Ингвар с гридями ушел на пристань к лодьям, Эльга с сыном отправилась на Святую гору. Сюда же собрались нарядные женщины – ее родственницы и жены бояр. Почти всех сопровождали няньки с детьми, мальчики с тоской смотрели вслед отцам, не в силах дождаться, когда сами вырастут и отправятся с ними. Наверное, глазам богов русские жены, одетые в цветное платье, представляются венком живых цветов на зелени травы. А те, кого они провожают, их не увидят с реки. Да и смотреть в эту сторону не будут: мысли мужчин уже далеко впереди, у порогов, где возможны столкновения с печенегами – союзниками греков. А кто-то уже и видит стены самого Царьграда…
– Смотри! – Эльга с усилием подняла на руки Святку, желая в последний миг немного приблизить его к отцу, и кивнула ему на реку. – Там батька твой. Пошел на греков. Вернется, добычи привезет. Сосудов золотых, камней самоцветных, паволок драгоценных…
– И я пливезу!
– И ты! – Со вздохом Эльга опустила его наземь.
Лодьи еще не скрылись из глаз, а уже наваливалась тоска пустоты, сквозь вязкую толщу которой пускала первые бледные ростки тревога. Не в первый раз Эльга провожала дружину и мужа из Киева – полюдье бывает каждый год, – но впервые на ее памяти Ингвар и его соратники уходили на полуденную сторону. На Царьград, куда уже лет сто устремлялись честолюбивые мечты русов. Вот и Ингвар возмужал настолько, что отважился встать на след Вещего. А она, Эльга, стала владычицей державы, посмевшей бросить вызов ромейским василевсам.
Нынешние гриди выросли на преданиях об Олеговом походе на греков. Князья – его наследники – пользовались плодами утвержденного им ряда. Но Ингвару пришлось заключать все договора заново, и вот тут оказалось, что греки сперва желают от него услуги: поддержать их удар на владения каганата в Таврии. Не желая покидать Киев в первое же лето после вокняжения, Ингвар послал на хазарский город Самкрай своего родича – Хельги Красного, сводного брата Эльги. И Хельги преуспел куда больше, чем греки рассчитывали. С досады херсонский стратиг Кирилл отнял у него половину добычи, а Хельги на это ответил разорением Нижнего города греческой Сугдеи и заключением союза с хазарским полководцем по имени Песах. И уже по уговору с Песахом нынче летом русы отправились войной на греков – врагов и каганата, и Руси. Итогом похода, в случае удачи, должна была стать не только слава и добыча. Разгромив греков, Ингвар мог рассчитывать на такой же выгодный торговый договор, какой был у Вещего. И еще более выгодный – с хазарами.
За хлопотами долгой подготовки похода Эльге было особенно некогда об этом думать. Но сейчас, когда у нее на глазах последние белые лепестки парусов исчезали вдали, сливаясь с блеском воды, она понимала: решается судьба Руси. Ее будущая честь, слава, достаток. Возможность крепнуть, расширяться. Пускать корень глубже в эту землю, раскидывать шире ветви над многочисленными племенами славян, чуди, степи и южного поморья.
Оглядевшись, она нашла взглядом Святку – княжич носился меж отроков наперегонки со своим братом Улебкой, сыном Уты. Оба размахивали деревянными мечами, неизменными спутниками любой их прогулки – точными подобиями отцовских.
Эльга подозвала сына к себе и обняла. Этот маленький светловолосый мальчик был будто капля росы, вместившая солнце – ради него и его будущего отправилось в поход двадцатитысячное войско, и от него зависело, чтобы в будущем эти труды не оказались напрасны.
И от огромности этой судьбы, которую она не отделяла от своей, у Эльги захватывало дух.
Пороги на Днепре русское войско миновало благополучно. Пока дружина перетаскивала лодьи между верхним станом и нижним, дозорные с курганов постоянно видели вдали печенежские отряды: те держали пороги под присмотром и приценивались к добыче. Столь огромное войско, конечно, было им не по зубам, и степняки благоразумно держались подальше. Тем не менее Ингвар приказывал ночами постоянно обливать водой просмоленные борта лодий, чтобы их при внезапном нападении нельзя было поджечь пылающими стрелами.
После выхода из устья Днепра еще пять дней шли вдоль берега моря на юг. До устья Днестра лежали земли тиверцев, а дальше расстилались земли царства Болгарского. Болгарский царь Петр – союзник и зять греческих василевсов; зная это, Ингвар не потрудился предупредить его о своем появлении, как сделал бы для собственного союзника.
Близ устья Дуная устроили длительную стоянку. Здесь Ингвар должен был встретиться с Хельги Красным – сводным братом Эльги, что со своей дружиной провел зиму в хазарской Карше. Через гонцов, посланных степью, они ранней весной назначили это место для встречи: Ингвар должен был прибыть туда от Днепра, а Хельги – из Таврии.
Поскольку в Таврии не беспокоились о том, когда сойдет лед, Ингвар надеялся, что шурин придет сюда раньше и уже будет их ждать. Однако на месте, куда он выслал вперед разведчиков, никаких следов дружины не обнаружилось. А шесть сотен человек – не шутка. Оставалось ждать. И бояре, и оружники, и простые вои досадовали: всем не терпелось добраться до греческих земель и вступить в дело, к коему так долго и упорно готовились.
И сильнее всех был недоволен сам Ингвар.
– Где эта меченая рожа! – то и дело ворчал он. – Если бы он ждал нас, его в этих дебрях болгары могли бы и не заметить. А вот пока мы будем ждать его, о нас узнают везде до самого Преслава!
– Если не до Царьграда, – тоже с досадой подхватил Мистина и вздохнул: – Теперь и не соврешь ничего – на этом берегу другой цели для нас нет.
Прошлым летом дружина Хельги ловко добралась до хазарского Самкрая, пустив перед собой слух, будто идет на греческую Сугдею. Но на западном берегу Греческого моря русы могли избрать себе в добычу либо болгар, либо греков, но те между собой состояли в союзе, и это было почти одно и то же.
Низкие берега перед трехгорлым устьем Дуная были сплошь изрезаны заливами и иссечены песчаными косами. Стан из двадцати тысяч человек и тысячи лодий занял три приморских мыса; через каждый протекал ручей. По берегам ручьев под деревьями раскинули шатры, из ветвей сделали шалаши и навесы от солнца. В травень-месяц было еще не так жарко, как летом, но все же без укрытия пришлось бы худо. Лодьи вытащили на белый песок, густо усыпанный обломками ракушек. Над берегом потянулись дымы костров, огонь над сучьями прибрежных ив, дубов и сосен лизал бока больших черных котлов. На ночь ставили в море сети, а утром варили похлебку.
На взморье, где мутные зеленовато-бурые воды Дуная мешались с водой Греческого моря, часто попадались осетры – бывали такие огромные, что одного хватало на целую дружину из десятков человек. Однажды дружина Родослава из Родни выловила пятисаженного осетра: когда добычу привезли на берег, голова его торчала с носа лодьи, и хвост свешивался с кормы. В другой раз такая же примерно рыбина опрокинула лодью с людьми черниговца Буеслава. Попавшую на крюк добычу вытащили к поверхности, но не сумели вовремя оглушить и подцепить за жабры, а она с такой силой дернула на глубину, что перевернула и погрузила в воду само судно. Никто, к счастью, не утонул, но черниговцы, барахтаясь в соленых волнах возле своего перевернутого скутара, вопили так, будто ждали, что сейчас обиженная князь-рыба проглотит их.
Каждый раз, как разделывали осетра или белугу, рядом оказывался Колояр, один из двух самых юных Ингваровых гридей, и внимательнейшим образом осматривал внутренности рыбы. Даже руками разбирал некоторые части.
– Ты чего там ищешь? – смеялись отроки. – Или князь худо кормит?
– Или перстень в море уронил?
– Белужий камень ищу, – деловито отвечал отрок.
– Что это за белужий камень такой? Разве рыба камни глотает?
– Не глотает, а сей камень в самой рыбе родится и живет возле дыры, чем она икру мечет.
Удивительное дело, но мудрость покойной Держаны и любовь ее к травам унаследовал единственный сын, а не какая-нибудь из пяти дочерей. В свои четырнадцать лет Колояр разбирался в зельях не хуже самых опытных оружников Свенельдовой дружины, и в Киеве даже бабы приходили к нему советоваться. В походе, где лекарь может понадобиться каждый день, такое умение весьма ценится, и к Колошке даже те, кто старше, относились с уважением, какое редко достается на долю вчерашнего отрочати. Рос он быстро и сейчас был уже довольно высоким; над приятным, с мягкими чертами лицом стояла целая копна золотисто-русых кудрей. Светло-серые, водянистые глаза смотрели приветливо и пристально, будто он от каждого встречного надеялся чему-нибудь научиться. В память матери его среди Свенельдовых людей называли Держановичем; мужа Держаны, давным-давно умершего где-то в краю западных кривичей, никто из русов не знал, да Колояр и сам отца не помнил.
Отроки только смеялись над его поисками, но юный зелейник, не смущаясь, являлся к каждому новому выловленному осетру и спокойно запускал руки в гущу скользких рыбьих внутренностей.
– А зачем тебе этот камень? – спросил его как-то Эймунд.