Ночь черного хрусталя Михайлов Владимир
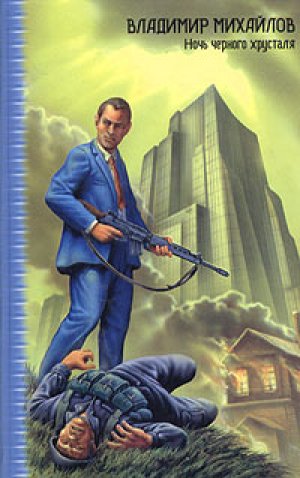
– Спасибо, Ева, – сказал Милов. – Теперь поторопимся: похоже, что становится все более сыро, словно бы вода выступает снизу – не знаю, отчего. Готовы?
– Да, – ответила Ева, а он нашел в темноте ее руку и положил на свое плечо.
– Двинулись, – сказал он, и они пошли. Сзади было тихо. Под ногами уже ощутимо хлюпало, хотя уровень реки находился намного ниже, это Милов помнил.
«Сплошные загадки, – подумал он, идя с вытянутыми вперед руками – одна прямо, другая чуть выше головы, чтобы не налететь ни на что сослепу. – Ничего, выскользнем; но что все-таки тут творится? Очень невредно было бы понять…»
Выбраться удалось благополучно: три мягких всплеска, прозвучавших почти слитно, не нарушили черного безмолвия ночи ни окриком, ни выстрелом. Вода была не холодной, но какой-то скользкой, маслянистой, противной по ощущению, и пахла дурно. В этой реке уже пять лет не купались – наука и техника своего добились. Трое поплыли к противоположному, правому берегу не быстро и бесшумно, равняясь по женщине. Она плыла медленнее других, и Милов все время держался рядом – греб он одной рукой, другую, со своей и ее одеждой, держал над головой. Вода слегка обжигала, раздражала кожу. «Интересно, чего только ни сбрасывали в нее за последние годы, – думал Милов, – а ведь тут еще аккуратисты. Другие, выше по течению, и вовсе совесть потеряли…»
Добравшись до берега, трое вздохнули облегченно: пусть и бессознательно, в воде они каждую секунду ожидали выстрелов вдогонку, а здесь уже можно было как-то укрыться. Пригнувшись, пробежали в прибрежный кустарник. Граве на бегу закашлялся.
«Нет, все-таки в пещере воздух был чище», – подумал Милов. Среди кустов он, не одеваясь, стал рвать жухлую траву, обтираться ее пучками: кожа требовала, чтобы с нее сняли грязь – экскременты цивилизации. Глядя на Милова, стали вытираться и те двое, только Ева отошла чуть подальше, заслонилась кустом, Граве же просто повернулся спиной. Милов покосился туда, где двигалось тускло-белое, невольно сбивавшее с нужных сейчас мыслей женское тело. Вдруг вспомнилось, как они с Аллочкой вот так, среди ночи купались в Оке: сколько же это уже времени прошло? Он не стал подсчитывать, ни к чему было. Одевшись, все трое поднялись на пригорок и присели, чтобы оглядеться и собраться с мыслями. Ева же – еще и для того, чтобы растереть совершенно окоченевшие ступни; просить об этом мужчин ей сейчас почему-то не хотелось, хотя и естественно было бы.
Отсюда, с холмика, открывался хороший вид на Научный центр, и можно было залюбоваться гигантским, хорошо ограненным, сияющим огнями монолитом хрусталя: именно таким представлялся отсюда главный корпус. На Центр денег не пожалели, начиная уже с проекта, строили всем миром и собрали в него едва ли не все лучшее, что только существовало в современной науке – чтобы умерить национальные и державные амбиции и принести побольше пользы всем, а не сидеть по углам, общаясь через журналы. Время на Земле вроде бы спокойное, разоружались искренне, снова начали ощущать забытый было вкус к жизни, без сердечного сбоя поднимать глаза к небу, не опасаясь, что безоблачная глубина вдруг разразится дождем из тяжелых семян, из которых вырастают гигантские грибы, дышащие ветром пустынь. Из оружейной науки пошло в цивильную так много, как никогда еще: демонтировали ракеты и боеголовки, но технологии оставались, и оставались мозги: серое вещество требовало нагрузки. Международный штиль позволял людям из разных, порой очень различных стран общаться и работать без задних мыслей; не то, чтобы все противоречия в мире разрешились, этого придется – все понимали – ждать еще долго-долго – но все же человечество куда больше почувствовало себя чем-то единым, планету – неделимой территорией, где границы, оставаясь на своих местах, перестали быть стенами или занавесами – если и не для политиков, то уж для ученых – во всяком случае. Поэтому такие вот центры – и отдельных наук, и синтетические, и технические – возникали все чаще: ведь и с деньгами в государственных бюджетах стало полегче – демонтаж ракет обходился все-таки дешевле, чем их строительство и испытания. В науку и технику пришло немало и военного народа – правда, чаще администраторами, чем учеными, однако без хороших менеджеров в наше время науке не процвести – это давно стало понятным. Так что золотой век если и не наступил, то уже, по крайней мере, мерещился где-то не в самом далеке. В общем, много уже было сделано полезного, и даже такое многотрудное дело, как нахождение взаимоприемлемого компромисса между цивилизацией и природой, начинало казаться в конечном итоге осуществимым – но не сразу, не сразу конечно.
«Оттого-то и бывало так приятно, – думала Ева, яростно растирая ступни и лодыжки, совсем уже потерявшие было чувствительность, – приходить сюда вечерами по изящному мосту, прекрасно вписанному в пейзаж, и смотреть – не с этого дикого пригорка, но с другого холма, повыше, куда и лестницы удобные вели, и вершина была выровнена и забетонирована, имелось, на чем посидеть, и напитки, и легкие закуски продавались в изобилии».
Но и отсюда, где сейчас переводили дыхание трое мокрых и далеких от спокойствия людей, приятно было любоваться сияющим хрустальным монолитом, привычно узнавая и административный этаж, и ярусы ресторана и увеселительных заведений, а выше – технические службы, а еще выше – этажи математиков, теорфизиков, экономистов, правоведов, философов, теологов, наконец. Клиника, как и полагается, находилась не в Кристалле, а в собственном здании, на отшибе, как и многие другие институты; однако лабораторию ОДА разместили, когда стало необходимым ее создать, именно в монолите, потеснив историков и филологов, специалистов по мертвым языкам: жизнь предстоящая как бы вытесняла память о былом, но это лишь казалось, потому что чистый воздух, которого требовали пациенты лаборатории, был намного древнее и мертвых языков, и старейших мифов – не говоря уже о каких угодно письменных свидетельствах. Такое решение было понятным: клиника, с ее постоянной угрозой переноса инфекций, для младенцев никак не подходила, а свой собственный корпус, не с десятком термобоксов, а с сотнями, должны были заложить лишь в конце года, чтобы открыть его весной.
Да, и Кристаллом можно было любоваться, и многими другими сооружениями, среди которых даже самые прозаические по назначению выглядели маленькими шедеврами архитектуры и инженерии, – да такими, собственно, и были, хотя поражали не столько красотой своей, сколько неожиданностью. Жизнь цвела и двигалась и во всех этих строениях, и в переходах, воздушных и подземных, и на автомобильных аллеях и стоянках, и на вертолетной площадке на самом верху Кристалла – одним словом, везде. Кроме разве парка: так называлось пространство вокруг небольшого пруда (официально его предпочитали называть озером), упорно зараставшего всякой дрянью, – эта часть территории была засажена деревьями, еще не так давно совершенно здоровыми, а теперь несколько привядшими, как и везде. Газоны разграфлены аллеями: предполагалось, что там будут в свободные часы прогуливаться корифеи наук, а поучающиеся станут с жадностью подхватывать их глубокие мысли и безумные идеи. Ученые, однако, эту рощу невзлюбили, потому что от пруда несло откровенной тухлятиной научно-технического происхождения – зато ночами там собиралось множество кошек.
Да, все это было видно отсюда, как и некоторые из множества тяготевших к реке от химических, биологических и всяких других заведений трубопроводов, снабженных, разумеется, очистными устройствами. Дорогие и убедительные, они, видимо, все же не до конца оправдывали надежды, отчего прекрасно вымощенная плиткой и ярко освещенная набережная, как и парк, почти совершенно пустовала. Окрестное население, – такое было, – уже не раз и не два выражало неудовольствие самим существованием Центра, от которого якобы передохла рыба, и хорошо еще, если только рыбой дело ограничится. Жители даже, наняв адвоката, составили однажды петицию, в которой требовали перенести науку куда-нибудь, хоть в центр Антарктиды, а их, туземцев, оставить в покое в презренном невежестве. До суда, однако, не дошло, потому что истцам резонно ответили: во-первых, что если не Центр, то тут воздвигли бы что-нибудь еще погромче, погрязнее, подымнее и поядовитее; прогресс нельзя остановить, и всякое место, на котором можно что-то построить, никак не имеет права оставаться в первозданной запущенности; и во-вторых, в Европе полно продовольствия, куда же фермеры станут девать продукты своего труда, если Центр вдруг исчезнет с лица земли? Даже и русский рынок ведь не бесконечен. Обитатели окрестных ферм и деревень смирились, по крайней мере внешне, а к тем, кто все еще ворчал, – привыкли. Как-никак, Центр платил хорошо и хорошими деньгами, настоящими. Так что и днем, и ночью научно-технический прогресс являл здесь миру свой лик – несколько надменный и самоуверенный, но исполненный выражением заботы о всяческом расширении Знания – на благо людей, разумеется, кого же еще.
И сейчас, ночью, взгляду с пригорка, поросшего травой, что начинала сохнуть, едва успев проклюнуться, и болезненным, тоже как бы расхотевшим расти кустарником, лик этот казался настолько внушительным, успокаивающим, обнадеживающим, а элегантные линии строений – такими неизменно-вечными, что уже не верилось, что вот еще только минуты тому назад людям приходилось спасаться в узких пещерных ходах и убивать других, чтобы не быть убитыми этими другими – по причинам, пока еще совершенно непостижимым. Успокоение внушало и несильное зарево, поднимающееся далеко отсюда, за лесом, над небольшой и очень надежной АЭС, делавшей и Центр, и поселок ученых совершенно независимым от всей остальной Намурии. Когда ставили Центр, энергии в стране не хватало, большая гидростанция только еще строилась, и Центру удалось получить разрешение намурийского правительства, что обошлось, правда, недешево. Теперь ГЭС уже давала ток, обширное водохранилище заполнилось до проектной отметки, затопив, правда, с десяток селений – естественно, без человеческих жертв, остальное же, с точки зрения прогресса, сожаления не заслуживало. Когда гидростанцию пустили, возникли разговоры о переводе Центра на общее энергоснабжение и о закрытии АЭС Центра; однако переговоры обещали затянуться надолго, как это обычно и бывает.
Да, красиво все это было и внушительно. Но стреляли-то почему и зачем?
– Так что же все-таки там у вас стряслось? – поинтересовался Милов.
Уже почти совсем оправившись после неожиданных приключений, волнений, страха и вынужденного купания, они все еще сидели, чувствуя себя в относительной безопасности и как бы оттягивая мгновение, когда придется встать и, очень возможно, снова подвергнуть себя каким-то угрозам. Было тихо, только Граве временами громко и каждый раз неожиданно икал – верно, никак еще не мог согреться.
– Да перестаньте, – сказала Ева, – уймите свои страхи и не нарушайте торжественной тишины.
– Я не боюсь, – возразил Граве, – просто я так реагирую на охлаждение. Вы спрашиваете, что стряслось, господин Милф? Нечто такое, что не укладывается в моем сознании. Нечто небывалое, скажу я вам. Вот именно. Поселок жил своей нормальной вечерней жизнью, поселок, в котором живут ученые и кое-кто из служб Центра. Ну, вы представляете, как в таких поселках проходят вечера…
«Черта с два я представляю, – подумал Милов. – Никогда не жил в таких поселках, да и с учеными что у меня общего? С этими – одно, пожалуй: я тоже представляю здесь ООН – только в другой области деятельности. У каждого свои проблемы…»
– Ну, разумеется, могу себе представить, – ответил он вслух.
– И вот в этот спокойный, совершенно благопристойный, могу вас заверить, поселок внезапно врываются какие-то… Не знаю даже, как их назвать…
– Психи, – сказала Ева.
– Во всяком случае, какие-то совершенно неприличные люди, хулиганье. Вооруженные пистолетами, охотничьими ружьями, не знаю, чем… Врываются в коттеджи. И начинают, вы не поверите, избивать людей, крушить все вокруг себя – мебель, посуду, лампы, книги, бить окна… Я как раз занимался терминалом в доме профессора Ляйхта – они разбили весь компьютер, это акт вандализма, нет другого слова… Меня сильно ударили в спину, я вынужден был покинуть дом. Я хотел сесть в машину и уехать, но на стоянке было множество таких же головорезов – боюсь, что машина может пострадать… Тогда я побежал ко входу в пещеры. В этом направлении бежали и другие, за нами гнались, но мне удалось ускользнуть – мне и вот доктору Рикс… Это было ужасно, ужасно – они избивали людей, стреляли – я надеюсь, что в воздух, но выстрелы раздавались совершенно отчетливо…
– Интересно, – пробормотал Милов. – Откуда же они взялись?
– О, на этот вопрос я, к сожалению, могу ответить совершенно точно: это были местные жители, фермеры, сельскохозяйственные рабочие… Да, как ни постыдно, это были намуры. А ведь мы испокон веку отличались спокойным, уравновешенным характером. Если бы это совершили фромы, я, откровенно говоря, не очень удивился бы; поверьте, мне чужда всякая национальная ограниченность, я ни в коем случае не расист, но фромы есть фромы, это вам скажет кто угодно… Но это были намуры, господин Милф…
– Так что судьба остальных жителей вам неизвестна?
Ответила Ева:
– Люди бежали, как я заметила, главным образом к Центру; а куда еще можно было деваться? Надеюсь, им удалось добежать. В пещере, кроме нас двоих, никого, кажется, не оказалось, и туда за нами никто не погнался.
– Поселок далеко от Центра?
Ева встала, вытянула руку:
– Примерно там… Обычно его легко опознать: над ним тоже как бы световой купол, особенно когда в небе облака. А сейчас совершенно темно…
Граве снова икнул. Ева подошла к нему, села рядом, обняла, сказала:
– Грейтесь, а то мне даже жарко стало от таких воспоминаний. А вообще, когда вы в последний раз были у психоаналитика? – Граве не ответил. Налетел ветер, принес удушливо-тошнотворный запах. Ева фыркнула, Граве закашлялся, потом пробормотал:
– Это снова органики что-то такое выплеснули.
– Какая разница? – отозвалась Ева.
– Да нет, я просто так.
Милов краем уха слушал их разговор, думал же о другом. Нет, это все к нему отношения не имело. «У меня другая задача, – думал он. – Главное – оказаться в нужное время в нужном месте, не то груз опять уйдет – и канет неизвестно куда, как и в прошлый раз. Нет, чую, цепочка не зря ведет через этот самый Центр. Но если там сейчас беспорядки… Ну, все равно, его-то я разыщу…»
– Простите? – спохватился он, поняв, что обращаются к нему.
– Я говорю: скорее всего, это месть фермеров. Центру не следовало отказываться от закупок. Это было так неожиданно и для фермеров столь болезненно… Нет, я не оправдываю их, не поймите превратно, но ведь они на это рассчитывали, и вдруг…
– Вовсе не вдруг, – не согласилась Ева. – Мы их уже не раз предупреждали: содержание нитратов в овощах выше всяких допустимых пределов. У Центра достаточно денег, чтобы получать за них доброкачественную пищу.
– Простите меня, доктор, но это эгоизм, – сказал Граве обиженно. – Конечно, вы иностранка, но мне, намуру, не все равно, как будут жить наши фермеры. Поверьте, им не так-то легко, и в какой-то степени их можно – нет, не оправдать, разумеется, но во всяком случае понять логику их мышления…
– Понятно, – сказал Милов, хотя рассуждения Граве его совсем не убедили. Впрочем, чего не случается на свете… – Значит, поселок они разгромили? – Он встал, с удовольствием потянулся. – Ну, кажется, мы достаточно отдохнули… Глядите-ка, а ведь там уже не так темно, как было только что!
И в самом деле, облака над местом, где находился поселок, словно бы посветлели.
– Ну, слава Богу, – сказала Ева. – Значит, все кончилось, люди вернулись. Может быть, и мне?.. – подумала она вслух. Милов смотрел на облака, они становились все ярче.
– Нет, – сказал он, – думаю, это не обычное освещение. Может быть, это и не поселок вовсе?
– Но там именно Сайенс-виллидж, – сказала Ева, – ничего другого там нет.
Зарево разгоралось неровно, как бы играя – но упорно.
– Если это поселок, то он горит, – сказал Милов, – другого объяснения не вижу.
После этих слов они смотрели молча. Потом Граве сказал:
– Да, это, несомненно, пожар. Колоссальный. Какой смысл был исправлять компьютер, который все равно сгорит – даже и то, чего они не успели разбить?
– Господи, – пробормотала Ева, – почему, почему? За то, что мы не купили у них сколько-то тонн капусты или томатов? Это же немыслимо и бессмысленно, это невозможно понять!
– Ну, – сказал Граве, – люди бежали в спешке, кто-нибудь забыл выключить нагревательный прибор, а от этого до пожара – один шаг.
– Пожалуй, нет, – сказал Милов, – очень уж бойко горит. – Случайный пожар не распространяется так быстро: ветра почти нет. Тут скорее поджог, с разных сторон одновременно. Очень благородно с их стороны, что хоть людей выгнали из домов.
Ева усмехнулась, сказала:
– Ну, меня вот не очень выгоняли – наоборот, несколько молодых людей хотели задержаться со мной в доме. Юнцы, физиономии в прыщах, решили, видимо, познакомиться вплотную. Да, вот еще что: на груди у каждого из них был пришпилен дубовый лист – по-моему, не настоящий, а то ли пластиковый, то ли матерчатый… Отличительный знак, так сказать.
– Нет, – сказал Граве уверенно, – наши фермеры так не стали бы.
– Как же вам удалось избавиться? – поинтересовался Милов.
– Помог хозяин дома, каратист, между прочим.
– Понятно, – сказал Милов, – а почему он не убежал с вами?
Ева ответила не сразу:
– Потому что я убежала сразу. Очень испугалась. Сейчас мне самой противно.
– Как бы там ни было, господа, – сказал Граве и тоже встал, – надо идти. Машины наши, вероятно, погибли, но моя застрахована, и ваша, доктор, тоже, я надеюсь? Воспользуемся ранним автобусом, только не пойдем на обзорный холм, а прямо к мосту, там он делает остановку. Да-да, я понимаю, очень прискорбно, но сейчас мы никому и ничем помочь не в состоянии – кроме наших семей. Вот и поспешим к ним. Или вы собираетесь оставаться здесь до скончания веков?
– Боюсь, – сказала Ева, – что скончание веков уже наступило.
Мужчины повернулись к ней. Она стояла, вся подавшись вперед, глядя туда, где за лесом, едва проступавшим на левом берегу, в отдалении (за эти годы лес медленно, но решительно отступил от реки, которая вместо жизни – или вперемешку с нею – несла все более концентрированную гибель; у деревьев, надо думать, есть какой-то свой инстинкт, и если каждое в отдельности уйти от опасности не может, то лес в целом такой способностью обладает, так же, как и противоположной: возвращаться, когда угроза миновала и враг леса – цивилизованный человек – оказался вынужден убраться прочь) стоял город, хотя отсюда не увидеть было и высочайшей из его кровель или башен, но и над ним должно было светить ночное зарево. Однако сейчас в той стороне было совершенно темно, и для всех, исключая Милова, в этом было нечто неестественное и страшное.
– Ни искорки, – сказала Ева почти жалобно. – Ни проблеска…
– Наверное, перебои с энергией, – успокоил Милов. – Это лучше, чем пожар.
И сделал было шаг, чтобы спуститься к реке. Однако оба его спутника по-прежнему стояли, словно в оцепенении: минувший день закончился неожиданно недобро, и от ночи следовало, наверное, ожидать каких-то новых и не менее угрожающих сюрпризов.
– Знаете, господа, – неожиданно откровенно сказал Граве, – мне страшно. Не напрасно ли мы успокаиваем себя?
Ева вцепилась пальцами в его плечо, тоже напуганная молчаливым мраком, которого даже горящий поселок не мог одолеть.
Милов остался как бы в одиночестве. Он был чужаком тут, и не его город это был, и дела у него были – свои, особенные, его спутников совершенно не касающиеся. Наверное, пора было прощаться с ними и следовать своим путем; город пока его не интересовал: его очередь, города, должна была наступить позже. Все было тихо, так что оба спутника Милова, у которых город создавал чувство общности и единой судьбы, наверняка смогут спокойно добраться до дома на своем автобусе. Надо было уходить, иначе он рисковал попасть в жестокий цейтнот. И все же что-то мешало вот так сразу повернуться и двинуться своим путем. Может быть, как раз потому, что был он здесь посторонним, он сохранил способность думать трезвее и, не имея пока никаких доказательств, как-то нутром, что ли, чувствовал: что-то не так, не в отказе покупать капусту было дело, а значит, инцидент мог оказаться не единственным, и опасность, какой бы она ни была, далеко еще не миновала – интуиция говорила так, а он привык доверять ей. Значит, рано еще было уходить? Он уже повернулся было, чтобы поторопить их, но тут горожане и сами вышли, наконец, из своей бездвижности.
– Я чувствую, как Лили зовет меня! – патетически сказал Граве. Дрожь его прошла, голос звучал едва ли не героически.
Ева же, напротив, попыталась погасить волнение насмешкой.
– Браво! – сказала она. – Вот заговорил мужчина. А вы, Дан, не спешите спасать свою благоверную? Туристы ведь ездят семьями. Где вы, кстати, ухитрились потерять ее? Или она предоставляет вам неограниченную свободу действий?
«Черт знает, что я говорю, – подумала она сама. – Зачем?»
– Я езжу один, – сказал Милов. – Догадался своевременно развестись – давным-давно.
– О, – сказала Ева, – куда только смотрят женщины? Какой шанс упускают! Ну, пора идти. Вы, надеюсь, с нами? – Это был даже не вопрос, но утверждение.
– С вами, – сказал Милов, прикинув еще, что до Центра добраться куда быстрее можно будет по шоссе, доехав на автобусе до перекрестка. – Во всяком случае, часть пути проделаем вместе, а уж там – помашу вам рукой на прощание.
– Значит, бросите нас на произвол судьбы, – сказала Ева.
Вместо ответа Милов протянул оба захваченных в пещере пистолета:
– Возьмите на всякий случай…
– Нет-нет, от этого избавьте, – сказал Граве и спрятал руки за спину. – У меня нет разрешения полиции на ношение оружия, и я не вправе…
– Давайте, Дан, – кивнула Ева.
– Справитесь?
– Ну, я современная женщина. Не беспокойтесь. Вряд ли он понадобится, я беру его как сувенир – на память…
– Гм, – сказал Милов несколько смущенно и засунул второй пистолет в карман. – А я-то надеялся избавиться от лишнего груза. Господин Граве, вы можете получить его, как только попросите.
– Нет-нет. Очень вам благодарен, но… Обождите, господин Милф, нам же не в ту сторону! Мост – там!
– Знаю. Но вы уверены, что на мосту – чисто?
– А вам нужно, чтобы было подметено? – не утерпела Ева.
Милов усмехнулся:
– Простите, это жаргон… Понимаете ли, у меня есть сильное подозрение, что там не безопасно. Когда стреляют и преследуют людей, это не кончается так быстро и безболезненно, поверьте, охота на людей – старый, но вечно увлекательный спорт. Поэтому я предлагаю идти вброд.
– Что, снова стриптиз? – недовольно спросила Ева.
– Могу помочь раздеться, – усмехнулся Милов.
Он и сам не понимал, почему вдруг брякнул такое – нелепое и пошлое. «Стыдно», – подумал он с осуждением.
– Я иногда принимаю такую помощь, – ответила Ева вызывающе, – но не от первого встречного. Только тогда попрошу мужчин отвернуться: уже не так темно.
Это говорилось уже на ходу: они все прибавляли и прибавляли шагу.
Трое шли, наискось приближаясь к воде, и Милов, как и в пещере, шагал впереди – умеренно, словно был гидом и не раз водил экскурсии по этим местам. Граве этого даже не заметил; торопливо переступая короткими ногами, он был душой уже весь в городе, у себя дома, рядом с Лили. Ева оказалась наблюдательнее – и потому, что была женщиной, и еще, наверное, ничья судьба не волновала ее настолько, чтобы совершенно отвлечь от реальности. Увязая каблучками в песке, она нагнала Милова и пошла рядом.
– Вы говорили, что впервые здесь, Дан?
– Так оно и есть. Что вас смущает?
– Слишком уж уверенно вы идете.
– Я опытный путешественник, и заблаговременно изучаю местность по картам.
– И на них обозначен каждый брод?
Он усмехнулся.
– Вот именно: каждый брод.
– Дан, вы…
– Что, Ева?
– Нет, ничего.
Милов замедлил шаг.
– Что такое? – Она невольно перешла на шепот. Он ответил так же:
– Кусты на берегу. Стойте тут, а я проверю.
– Но ведь все спокойно…
– Дай-то Бог, – сказал он. Шагнул – и растворился в темно-серой мгле. Еве сразу стало зябко. Река плескалась совсем рядом, и в стороне, выше по течению, на поверхности воды играли блики: выстроенный из дерева поселок вдалеке горел так сильно, что отблески пламени достигали даже реки. Граве стоял у Евы за спиной, громко сопя.
– Нет, нет, – вдруг сказал он в полный голос. – Все чушь. Нелепость. Земледельцы сошли с ума, но это еще не значит…
Она, не поворачиваясь, нашарила его руку, стиснула до боли.
– Граве, смотрите… Видите?
– А что я должен увидеть, доктор?
– Да не вверх глядите, а на воду!
Что-то плыло по течению – темное, удлиненное, слишком маленькое, чтобы оказаться лодкой.
– Да, вижу. Какая-то колода, я думаю.
– Граве, я боюсь…
То плыл труп. Река несла его неторопливо, словно в торжественной похоронной процессии.
– По-моему, это все-таки бревно, – неуверенно сказал Граве. – Конечно, оно имеет некоторое сходство…
Милов возник неслышно, как и ушел.
– Идемте, – сказал он. – Тут спокойно.
– Дан, я не полезу в эту воду… в ней плавают мертвецы. Ужасно!.. Что это значит?
– Что убивают людей.
– Но почему, зачем?
– Боюсь, что мы это узнаем. Мужайтесь, Ева, другого пути нет. – Он остановился у самого уреза воды, прислушался. – Тут.
– Ладно, – со вздохом проговорила Ева. – Только на этот раз я пойду последней: уж очень густой загар ложится на голое тело от ваших взглядов.
– Я надеюсь, вы не подозреваете меня… – негодующе начал Граве.
– Да нет, конечно, – сказала Ева, – просто я в настроении шутить. Ну, идемте, не то я совсем замерзну, простуда и так уже мне обеспечена.
– Боюсь, что вызвать врача будет трудненько, – сказал Милов, ступив в воду и ногой пробуя дно. – Теперь никакой самодеятельности, ни шагу в сторону – огонь будет открыт без предупреждения. Не бойтесь: я тоже шучу…
Они медленно двинулись, слышался только легкий плеск, и лишь однажды Ева издала сдавленное «Ох!» – оступилась, видно, однако справилась и шла вместе со всеми, не отставая.
– Вы осторожно, – тихо сказал Милов, – тут дно паршивое.
– Это я уже поняла, – так же приглушенно отозвалась женщина.
Вода, которую они расталкивали сначала бедрами, потом грудью, казалось, стала еще жирнее, неприятнее на ощупь, чем была, в ней попадалось больше всякого плавучего мусора, потом проплыли еще два трупа. Один – ближе к левому берегу, к которому они направлялись, и тень почти совсем скрыла его от падавших на воду отблесков пожара; из-за них вода местами, казалось, сама то и дело вспыхивала холодным радужным пламенем. Другой труп проскользнул почти рядом; он плыл лицом вверх, но черты лица было не разглядеть, еще слишком темно было, и Милов лишь понадеялся, что это не тот был, чей снимок он видел и запомнил, кого нужно было встретить в Центре не далее как утром, которое все приближалось. На мгновение Милов поднял глаза к небу; оно понемногу затягивалось дымкой, слишком много всего в поселке уже сгорело и продолжало гореть, но дым, к счастью, проносило левее. И он не мешал дышать.
Милов ногой нащупывал место для каждого нового шага, середину они уже миновали – и вдруг с левого берега неожиданно и сокрушительно хлестким потоком голубого света ударил прожектор, уперся в правый, теперь уже дальний берег, подполз к воде, осторожно опустился на нее и начал высвечивать, но не равномерным сканированием, а рывками, зигзагами – видимо, управляли им люди неопытные. После едва ощутимой заминки Милов прошипел: «Нырять!» – настолько повелительно, что у спутников его не мелькнуло и мысли о неподчинении. Головы скрылись под маслянистой поверхностью, но луч прошел мимо, хотя и под водой свет был так силен, что ощущался даже кожей. Ева, начав уже задыхаться, первой высунула голову, волосы ее повисли, словно водоросли, с них стекала вода, едва слышно журча. «Прощай, красота», – пробормотала она с печальной насмешкой. «Быстро к берегу!» – скомандовал Милов. Они зашагали, расталкивая воду теперь уже коленями, не стесняясь более шума: тут и сама река не молчала в неровностях берега. «Глаза щиплет», – пожаловалась Ева. «Надо было зажмуриться плотнее, тут вам не Майями Бич, – сердито выговорил ей Милов. – Ну-ка, давайте сюда».
Они были уже на берегу, на песке, и Милов, повернувшись, подступил вплотную к женщине – она отчаянно терла глаза пальцами, но легче не становилось, – с силой отнял ее руки, взял голову Евы в ладони. «Да не жмурьтесь сейчас! – тихо прикрикнул он, – раньше надо было, там, в воде!» Они стояли сейчас почти вплотную, голые, соприкасаясь грудью, но как бы вовсе не понимали или не ощущали этого. Ева машинально положила руку на его плечо, он и не почувствовал вроде бы, приблизил свое лицо к ее, пегому от растекшегося грима. Граве возмущенно отвернулся и поспешил отойти подальше: происходившее выходило далеко за всякие мыслимые пределы не то что приличий, а… а… ну, одним словом. Милов стал языком вылизывать ее глаза, поминутно сплевывая. Она стояла покорно, и еще секунду оставалась так, когда он уже отошел, и только после этого вдруг едва не захлебнулась дыханием, словно придя в себя. Граве в отдалении успел уже обтереться травой и теперь поспешно одевался, бормоча: «Господа, я сильно опасаюсь, что мы опоздаем…» Луч прожектора широко промахнул поверху, но теперь они его не боялись: они были внизу, под обрывом, а прожектор – высоко на берегу.
– Как фильм о войне, – сказала Ева, одеваясь. – А я думала, что такое никогда не повторится…
– Нет, – сказал Милов задумчиво, – на войну не похоже, но и на полный мир тоже. Трудно сказать, что происходит, но думаю, что мы не зря пренебрегли мостом.
– Я сейчас мечтаю о примитивной вещи, – сказал Граве. Он приблизился к ним медленно, как бы опасаясь какой-то новой нескромности, что было бы, по его затаенному мнению, совершенно не удивительным: русский, американка – чего еще можно от них ожидать?.. – Да, о крайне примитивной: добраться до дому, поцеловать жену, лечь в постель, а утром, проснувшись, узнать, что все это наваждение кончилось – и забыть раз и навсегда!
– А если я не хочу забыть? – подняла голову Ева. – Дан!
– К вашим услугам, красавица!
Красавицей ее сейчас – в космах, которые она кое-как пыталась расчесать, в потеках косметики, уже различимых в занимавшемся рассвете, – никак не назвать было, но Милов знал, что на такое обращение женщины не обижаются ни при каких обстоятельствах. А кроме того, если забыть о пятнах и мокрых, жирных, спутанных волосах, была она и на самом деле очень привлекательна, а может, и больше того.
– Мне было хорошо, Дан, когда мы так стояли, – проговорила она без тени смущения.
– Спасибо, – серьезно сказал он. – И мне.
– Хочу, чтобы это повторилось.
– Обещаю, – так же серьезно ответил Милов.
– Господа, – просительно сказал Граве, – сделайте одолжение… Нет, я совершенно не собираюсь вмешиваться в ваши дела, но мы, намуры, относимся ко всем аспектам морали чрезвычайно серьезно… Мы – спокойный, уравновешенный народ, мы любим тишину и порядок во всем…
– Это заметно, – сказал Милов.
– Господин Милф, отдельные эпизоды, разумеется, не исключены, да, преступники есть и у нас, хотя это, как правило, фромы. И тем не менее я взываю к вашей порядочности…
– Извините, Граве, – сказала Ева. – Я не хотела вас шокировать, просто… Одним словом, идемте. Мне тоже не терпится принять ванну. Где ваш автобус?
– Придется идти вдоль реки, у самой воды, а уже близ моста поднимемся наверх, там как раз находится остановка. Можно подняться и здесь, но, несмотря на тишину, я теперь опасаюсь…
И в самом деле было тихо, и луч прожектора погас.
– Правильно опасаетесь, – сказал Милов. – Ну, теперь ведите вы.
Идти по влажному песку было легко. Все более светлело. Поселок вдалеке, видимо, уже догорал – зарево совсем ослабло, пламя не поднималось столбами, и река казалась теперь черной, как только что заасфальтированная дорога. Ветер иногда налетал слабыми порывами и, отразившись от высокого берега, чуть рябил воду. Почти ничто не нарушало тишины; впрочем, это, может быть, сюда, под обрыв, не доносились звуки: и Центр, и город были там, наверху. После очередного порыва ветерка Милов принюхался:
– Бензин? – предположил он вслух.
– Ну вот, пора подняться, – вместо ответа проговорил Граве. – Тут должна быть тропинка, попробуйте отыскать ее, господин Милф, – я плохо вижу в таком свете.
– Обождите, – Милов медленно прошел вперед. – Кажется, вот она. Да, похоже.
– Дан, – сказала Ева, – а тропинок на вашей карте не было?
– Таких – нет. Я поддержу вас, Ева, тут круто.
– Господа, – сказал Граве, – вы помните, я просил вас не позволять себе ничего нескромного…
– Не уговаривайте, – сказал Милов, – я все равно обязательно позволю. Но не при вас. Ну, полезли.
Они выбрались наверх и остановились. Наверху было чуть светлее.
– Тут осталось два шага, – сказал Граве.
– Идемте.
Через минуту-другую они действительно вышли на асфальтированную площадку рядом с дорогой. Автобуса там не оказалось.
– Придется, видимо, немного подождать, – сказал Граве. Он взглянул на часы. – Нет, не разберу… Однако я уверен, что автобус еще не проходил.
– И не пройдет, – ответил Милов невесело. – Глядите.
Если бы они все еще шли низом, то неизбежно наткнулись бы на него. Автобус валялся под откосом берега на боку, передняя часть его уходила в воду.
– Вот откуда бензином пахло, – сказал Милов.
– Что же нам делать? – растерянно проговорил Граве.
– Идти пешком.
– Смотрите, и столбы повалены, – сказала Ева тревожно.
– Похоже, это не только капуста, – проговорил Милов. – Ну, в путь. Жизнь становится чем дальше, тем интереснее.
И они двинулись быстрым шагом.
– Вы не могли бы помедленнее? – попросила Ева. Туфли свои она еще внизу то ли потеряла, то ли бросила, и снова шла теперь босиком; видимо, это было для нее непривычно. – Тут все колется, – объяснила она, – и мне надоело прыгать горной козочкой.
– Ничего удивительного… – проворчал Милов. – Картины одна другой краше.
– Я не узнаю Намурии… – проговорил Граве с искренним трагизмом в голосе.
И в самом деле, то, что они видели сейчас и среди чего, находились, не очень походило на то представление о Намурии, которое возникало по рассказам путешественников, туристским проспектам и рекламным плакатам, хотя все это, в общем, и соответствовало действительности – но только не сегодняшней, сиюминутной. В таких странах, как Намурия – да в любой, не только европейской или североамериканской даже – признаки машинной цивилизации давно уже проникли и в самые глухие уголки, так что лес порой мог удивить ровностью рядов, какими росли многолетние уже, дородные деревья, и в разных направлениях расходились от трансформаторов – в каменных будках или на деревянных и бетонных устоях располагались они – провода, толстые, силовые, а на столбах пониже держались телефонные и телеграфные, а если мачт с проводами не было, то в определенном ритме попадались таблички, предупреждающие, что под землей здесь проходит кабель; аккуратные павильончики автобусных остановок виднелись у дорог; и где-то в пределах видимости оказывался фермер на своем тракторе, оснащенном по сезону – плугом, сеялкой, косилкой, граблями; и уж, разумеется, не умолкало на дорогах, только среди ночи ослабевая, шуршание шин по асфальту, гудрону, бетону, легкое жужжание легковых и сердитое гудение грузовых моторов – немецких, французских, итальянских, американских, японских, реже – советских, чешских, румынских, к темноте сползавшихся к кемпингам и мотелям, а со светом вновь разлетавшихся во всех направлениях ради дела или прихоти.
Да, еще вчера так было. И, похоже, кончилось как-то сразу и по причинам, которые пока еще не понять было. Сейчас на дороге, по которой шли трое, ни машин не попадалось, не рокотали тракторы на аккуратных полях, по-прежнему занимавших все пространство, свободное от лесов и дорог; столбы с проводами были где повалены, где сильно наклонены; повалены были дорожные указатели и щиты с описанием предстоящих дорожных развязок; зато вдруг масса всякого мусора взялась откуда-то – мусора, в котором можно было угадать обломки и останки того, что вчера еще было нужными, полезными и желанными в жизни вещами: главным образом, электрическими и электронными приборами – от утюга до стереофонического двухкассетника или какой-то из приставок к персональному компьютеру, без какого не обходился уже давно ни один фермер. Словно бы кто-то сначала собрал и изуродовал как только сумел, а потом погрузил на многотонные трейлеры и, медленно двигаясь по дороге, неустанно расшвыривал по сторонам – и на дорогу, и в кюветы, по которым сейчас медленно текла вода, неизвестно откуда взявшаяся, потому что дождей давно уже не было. Кирпичная будка с черепом и костями в десятке метров от дороги стояла с распахнутой железной дверцей, и внутри ее, как все легче становилось различить, желто отсвечивали пряди медных проводов. Местами ровное темно-серое покрытие дороги было усеяно мелкими крошками разбитых автомобильных стекол; какие-то тряпки валялись, остатки одежды, клочья газет, яркие журнальные обложки. Вот на какую дорогу вышли и двинулись по ней Ева с двумя спутниками: что же удивительного в том, что нелегко было ей ступать босиком.
– Господи, Ева! – воскликнул Милов, прямо-таки ужаснувшись. – Нельзя же так! Где ваши туфли?
– Где прошлогодний снег, – она старалась еще шутить.
Милов снял свои туфли, носки.
– Немедленно обуйтесь. Не смущайтесь – носки я меняю дважды в день, старый предрассудок.
– Вот еще! – сказала она. – У меня двадцать три с половиной, а у вас…
– Двадцать пять, – сказал Милов, – и набейте в носы травы или вот вам тряпка…
– Я, к сожалению, не могу помочь, – сказал Граве, – у меня двадцать девятый номер. А как же вы теперь, господин Милф?
– Обойдусь. Да и, наверное, на этой дороге можно найти все, что угодно – и пару обуви в том числе. За меня не волнуйтесь, я считаю, что легко отделался: иначе мне пришлось бы нести Еву на руках – это было бы, конечно, приятней, но тогда я лишился бы маневренности.
– И почему я не отказалась наотрез? – усмехнулась Ева, но во взгляде, который она подняла на Милова, было странное какое-то выражение – словно она впервые его увидела; да так оно и было по сути дела: при свете – впервые. И тут она неудержимо звонко расхохоталась:
– О Дан, что это такое? Нет, я не могу, не выдержу! Прелестно, неподражаемо прелестно…
Она заливалась, будто не было страхов, пещер, грязной реки, заваленной дороги, стертых ног. Может быть, и было в ее смехе что-то от истерики, но все же главным оставалось веселье.
– Да в чем дело? – Милов уже готов был обидеться.
– Галстук, Дан, ваш галстук! Где вы ухитрились откопать такой шедевр?
Галстук у Милова, теперь уже хорошо видный в глубоком вырезе свитера, был и на самом деле выдающимся: шириной в лопату – таких давно уже никто не носил – он бросался в глаза еще и редкой до безвкусия расцветкой – громадными красными розами, зелеными листьями, а над ними – райской птицей всех цветов радуги…
– Это у вас там делают такие? Снимите, Дан, ради Бога, иначе я просто не выживу – смех убьет меня!
– Ни за что! – сказал Милов торжественно. У него и в самом деле были причины не снимать эту часть экипировки – до поры до времени во всяком случае. – И не просите: я дал обет носить его, и не могу от этого отказаться. Проиграл пари, понимаете?
Пари – дело святое, это Ева знала. И, отсмеявшись, уступила. Встала, прошла два шага, вернулась.
– Что же, вполне приемлемо. Спасибо, Дан. Хотя если вы ждете, что теперь я понесу вас на руках, то не надейтесь напрасно: и не подумаю.
– Если вы готовы, доктор, то идемте, – поторопил Граве. – Мне кажется, мы теряем очень много времени.
– А вот мне кажется, нужно еще помедлить, – неожиданно возразил Милов. – Там, впереди, по-моему, автобусный павильончик еще не разгромили: вот давайте посидим там и немного подумаем.






