Остров Хислоп Виктория
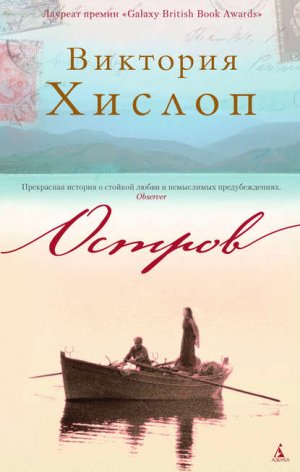
Сентябрьское солнце сияло в чистом небе, и благодатное тепло, сменившее напряженную августовскую жару, делало начало осени самым прекрасным временем на Крите. Адская жара середины лета миновала, и вместе с ней исчезли обжигающие, злобные ветра. Две женщины сидели друг против друга под тентом, и Фотини своей темной морщинистой рукой коснулась руки Алексис.
– Я так рада, что ты приехала, – сказала она. – Ты и представить не можешь, насколько я рада. Мне было очень больно, когда твоя мама перестала писать. Я все прекрасно понимала, но это порвало такую важную связь с прошлым!
– А я и не догадывалась, что она раньше вам писала, – ответила Алексис, чувствуя себя так, словно обязана извиниться за поведение матери.
– Начало ее жизни было трудным, – продолжила Фотини, – но мы все старались, правда старались сделать ее счастливой, прилагали все силы ради этого.
Видя слегка озадаченное выражение лица Алексис, Фотини поняла, что ей следует притормозить. Она налила им еще по чашке кофе, давая себе минутку на то, чтобы подумать, с чего лучше начать. Похоже, нужно было вернуться в более глубокое прошлое, чем она изначально себе представляла.
– Я могла бы сказать, что начну с самого начала, но, по сути, начала тут нет, – снова заговорила она. – История твоей матери – это история твоей бабушки, а также и прабабушки. А еще и двоюродной бабушки. Их жизни были сплетены между собой, и мы именно это всегда имеем в виду, когда говорим о судьбах в Греции. Наша судьба в основном предопределена нашими предками, а не звездами. Когда мы здесь говорим о древней истории, то всегда упоминаем судьбу. Конечно, иногда случаются внезапные события, которые меняют течение нашей жизни, но на самом деле все, что с нами происходит, определяют поступки тех, кто живет вокруг нас, и тех, кто жил до нас.
Алексис охватило легкое раздражение. Неприступное хранилище материнского прошлого, накрепко запертое от нее всю ее жизнь, сейчас должно было открыться. Все тайны должны были выплеснуться наружу. И вдруг Алексис поняла, что спрашивает себя: а в самом ли деле ей этого хочется? Она смотрела вдаль, через море, на бледные очертания Спиналонги и вспоминала свой одинокий день на том острове, уже тоскуя по нему. Пандора пожалела о том, что открыла ящик. Не случится ли то же самое и с ней?
Фотини заметила, куда смотрит Алексис.
– Твоя прабабушка жила на том острове, – сказала она. – Она была прокаженной.
Фотини не ожидала, что ее слова прозвучат так резко, так бессердечно, но сразу увидела, что они заставили Алексис поморщиться.
– Прокаженной? – переспросила Алексис, и ее голос едва не сорвался от потрясения.
Эта новость вызвала в ней отвращение, и хотя Алексис понимала, что ее реакция была, пожалуй, иррациональной, скрыть свои чувства ей оказалось трудно. Но она ведь уже знала, что тот старый рыбак тоже болел проказой, и собственными глазами видела, что это не отразилось на его внешности. И все же она пришла в ужас, услыхав, что некто из ее рода был прокаженным. Это ведь совсем другое дело, и Алексис вдруг ощутила непонятную брезгливость.
Для Фотини, выросшей в тени островной колонии, проказа была всего лишь жизненным фактом. Она видела столько прокаженных, приезжавших в Плаку, чтобы пересечь пролив и остаться на Спиналонге, что и сосчитать бы не могла. Фотини также видела и жертв самых разных стадий этой болезни: некоторые были чудовищно изуродованы, другие выглядели не затронутыми бедой. Но она понимала реакцию Алексис. Это был естественный отклик для человека, чьи знания о проказе почерпнуты из Ветхого Завета и в уме которого сохранился образ людей в балахонах, с колокольчиком в руках, кричавших: «С дороги! Нечистый идет! Нечистый!»
– Позволь мне объяснить подробнее, – предложила Фотини. – Я понимаю, ты догадываешься, как должна выглядеть проказа, но важно, чтобы ты знала правду, иначе тебе никогда не понять настоящую Спиналонгу, ставшую домом для многих хороших людей.
Алексис продолжала смотреть на остров по другую сторону мерцающих вод. Ее вчерашняя поездка туда породила множество противоречивых образов: развалины элегантных вилл в итальянском стиле, сады и даже магазины – и надо всем этим мрачная тень болезни, выглядевшей в глазах Алексис как смерть заживо. Она отпила еще глоток густого кофе.
– Я знаю, что эта болезнь не всегда смертельна, – почти с вызовом сказала Алексис, – но она всегда ужасно уродует человека.
– Не в такой степени, как тебе может казаться, – ответила Фотини. – Это ведь не свирепо разлетающаяся болезнь вроде чумы. Иногда ей нужно очень много времени, чтобы полностью развиться. Образы искалеченных людей, что ты себе представляешь, – это образы тех, кто болел многие годы, даже десятилетия. Есть два вида лепры, и одна из них развивается гораздо медленнее, чем другая. И обе теперь излечиваются. Но вот твоей прабабушке не повезло. У нее была быстрая форма болезни, и ни время, ни состояние медицины не были на ее стороне.
Алексис уже устыдилась своей первоначальной реакции. Она растерялась от собственного невежества, но ведь открытие, что кто-то из членов твоей семьи был прокаженным, это как гром среди ясного неба.
– Заболела твоя прабабушка, но твой прадед, Гиоргис, также страдал – от глубоких душевных шрамов. Еще до того, как его жена отправилась на Спиналонгу, он доставлял туда всякую всячину на своей лодке и продолжал это делать, когда там очутилась его жена. А это значило, что почти каждый день он видел, как уродует ее болезнь. Когда Элени очутилась на Спиналонге, представления о гигиене там были плачевными, и хотя они основательно изменились за время ее пребывания на острове, наиболее серьезные повреждения тела произошли у нее в самые первые годы. Я не стану вдаваться в подробности. Гиоргис не говорил о них Марии и Анне. Но ты ведь представляешь, как это происходит, да? Лепра поражает нервные окончания, в результате чего человек теряет чувствительность, он может порезаться или обжечься. Именно поэтому прокаженные так уязвимы, они постоянно сами себе наносят раны, и последствия могут быть ужасающими.
Фотини замолчала. Ей не хотелось слишком сильно задевать чувства этой молодой женщины, но в истории есть моменты, которые буквально потрясают. Поэтому продвигаться вперед нужно было с осторожностью.
– Мне не хочется, чтобы тебе казалось, будто семья твоей матери была буквально подавлена болезнью. Совсем не так, – поспешила добавить Фотини. – Посмотри. У меня есть несколько их фотографий.
На большом деревянном подносе, стоявшем напротив кофейника, лежал потрепанный конверт из грубой бумаги. Фотини открыла его и высыпала содержимое конверта на стол. Некоторые из фотографий были не больше билета на поезд, но были и размером с почтовую открытку. Одни сияли глянцевой бумагой с белой рамкой, другие казались матовыми, но все – черно-белые, и многие поблекли до такой степени, что их невозможно было рассмотреть. Большинство снимков сделали, вероятно, в какой-то студии, задолго до того, как появилась мгновенная фотография, и напряженность изображенных людей делала их такими же далекими и недостижимыми, как царь Минос.
Первый же снимок, на который упал взгляд Алексис, оказался ей знакомым. Это была та самая фотография, что стояла у кровати ее матери, – леди в кружевах и седовласый мужчина. Алексис взяла фото.
– Это твоя двоюродная бабушка Мария и двоюродный дед Николаос, – с гордостью пояснила Фотини. – А вот это, – добавила она, выуживая из груды один снимок, – последняя фотография твоих прадеда и прабабки и двух их дочерей.
Она передала фотографию Алексис. Мужчина на ней был почти такого же роста, как женщина, но весьма широкоплеч. У него были темные вьющиеся волосы, аккуратно подстриженные усы, крупный нос, а его глаза улыбались, несмотря на то что он держался перед объективом фотокамеры серьезно и важно. Руки у него выглядели крупными по сравнению с телом. А женщина, стоявшая рядом, была худощавой, с длинной шеей, и поразительно красивой: волосы заплетены в косы, уложенные вокруг головы, улыбка широкая и естественная. Перед парой сидели две девочки в ситцевых платьях. У одной из них были густые пышные волосы, свободно падавшие на плечи, глаза слегка раскосые, почти кошачьи. В этих глазах светилось что-то недоброе, а пухлые губы девочки не улыбались. У второй девочки волосы были заплетены в косы, она обладала более тонкими чертами лица и наморщила нос, улыбаясь в объектив. Ее можно было назвать почти тощей, и из двух девочек она больше походила на мать. Девочка мягко и скромно положила руки на колени, в то время как ее сестра скрестила руки на груди и как будто с вызовом уставилась на человека, делавшего снимок.
– Это Мария, – пояснила Фотини, показывая на улыбавшуюся девочку. – А это Анна, твоя бабушка, – добавила она, указывая на первую девочку. – Ну и их родители, Элени и Гиоргис.
Фотини раскидала фотографии по столу, и случайно налетевший порыв ветерка слегка сдвинул их с места, как будто оживив. Алексис увидела фотографии двух сестер в младенчестве, потом в школьном возрасте, а потом уже и молодых женщин, но на этот раз в обществе их отца. Была и фотография Анны, стоявшей рука об руку с мужчиной в традиционном критском костюме. Это был свадебный снимок.
– Значит, это и есть мой дед? – спросила Алексис. – Анна здесь выглядит по-настоящему красивой, – восхищенно добавила она. – И по-настоящему счастливой.
– Ну… это сияние юной любви, – ответила Фотини.
Нотка сарказма в ее голосе застала Алексис врасплох, и она уже собиралась задать вопрос, но тут ее внимание привлекла другая фотография.
– А это похоже на мою маму! – воскликнула она.
У малышки на фото был характерный нос с горбинкой и нежная, но очень застенчивая улыбка.
– Это и есть твоя мать. Ей здесь, наверное, около пяти лет.
Как и всякая коллекция семейных фотографий, это был случайный набор, излагавший только фрагменты общей истории. Настоящую историю могли бы поведать те фото, которых тут не хватало или которые никогда не были сделаны, а вовсе не те, что были аккуратно вставлены в рамки или уложены в какой-нибудь конверт. Но теперь Алексис хотя бы краем глаза заглянула в прошлое, увидела лица неизвестных ей членов семьи.
– Вообще все началось здесь, в Плаке, – сказала Фотини. – Вон там, позади нас. Именно там жила семья Петракис.
Она показала на маленький домик на углу улицы. Это было старое сооружение с выбеленными стенами, такое же захудалое, как большинство домов в этой дряхлой деревне, но тем не менее очаровательное. Штукатурка кое-где осыпалась со стен, а ставни, много раз перекрашенные с тех пор, как в этом доме жили прародители Алексис, в итоге приобрели яркий голубой цвет, вот только краска потрескалась и облупилась от жары. Балкончик, выступавший над входной дверью, просел под тяжестью нескольких огромных вазонов, из которых каскадом спадали вниз огненно-красные герани, словно пытавшиеся сбежать сквозь ограду из деревянных столбиков. Дом был таким же, как все дома на всех греческих островах, и построен мог быть в любой период за последние пятьсот лет. Плака, как и те немногие деревни, которым повезло избежать разрушительного воздействия массового туризма, пребывала вне времени.
– Там и выросли твоя бабушка и ее сестра. Мария была моей лучшей подругой, она ведь всего на год моложе Анны. Гиоргис, их отец, рыбачил, как и большинство местных мужчин, а Элени, его жена, преподавала в школе. Хотя на самом деле она была больше чем просто учительница. Она, можно сказать, руководила местной начальной школой. Эта школа находится на дороге в Элунду, ты, наверное, проезжала через этот городок по пути сюда. Элени любила детей – не только своих дочек, но и всех детей, которые учились у нее. Думаю, Анне это давалось с трудом. Она была собственницей и ненавидела делиться чем бы то ни было, а в особенности материнской любовью. Но Элени была щедра во всем, и ей хватало времени на всех своих детей, будь они от ее собственной плоти и крови или просто учениками. А мне всегда представлялось, что я еще одна дочь Элени и Гиоргиса. Я постоянно вертелась в их доме. У меня было двое братьев, и можешь догадаться, насколько наш дом отличался от их дома. Моя мать Савина, похоже, ничего не имела против. Они с Элени дружили с самого раннего возраста и привыкли всем делиться, поэтому не думаю, что она боялась меня потерять. Вообще-то, я уверена: она считала, что Мария или Анна могут выйти замуж за одного из моих братьев. Когда я была совсем малышкой, то больше времени проводила у Петракисов, чем дома, но потом все перевернулось, и Анна с Марией стали почти что жить у нас. В то время, как и все наше детство, мы в основном играли на берегу. Там все постоянно менялось, и нам никогда не надоедали пляж и море. Мы могли плавать каждый день, начиная с конца мая до начала октября, и вечерами тоже бегали по песку, он набивался между пальцами ног, а потом сыпался на наши простыни. По вечерам мы ловили пикарелу, крошечную рыбку, а утром бежали посмотреть, с чем вернутся рыбаки. Зимой приливы становятся намного выше, они всегда приносят то, на что интересно глянуть: медуз, угрей, осьминогов, а иногда мы находили и черепаху, неподвижно лежавшую на берегу. И в любое время года, когда темнело, мы обычно возвращались к Анне и Марии, где нас всегда встречал аромат теплого сдобного теста – Элени пекла для нас сырные пирожки. Когда приходило время отправляться на боковую, я, поднимаясь вверх по холму к родному дому, обычно дожевывала один из них.
– Выглядит так, словно у вас было идиллическое детство, – перебила Алексис, увлеченная описанием идеального, почти сказочного времени. Но на самом деле ей хотелось узнать, чем все закончилось. – Но как Элени подхватила лепру? – довольно резко спросила она. – Разве прокаженным позволялось покидать остров?
– Нет, конечно, не позволялось. Именно поэтому остров так пугал окружающих. Еще раньше, в начале столетия, правительство издало распоряжение, что все прокаженные с Крита должны оставаться на Спиналонге. Как только доктора окончательно устанавливали диагноз, люди должны были, ради их же блага, оставлять свои семьи и отправляться в колонию. Она стала известна как «Место живых мертвецов», и лучшего названия не придумаешь. В те дни люди изо всех сил старались скрыть признаки болезни, прежде всего потому, что последствия такого диагноза были ужасающими. И вряд ли стоит удивляться тому, что Элени оказалась беспомощной перед лепрой. Она же никогда не думала, что рискует подхватить заразу от своих учеников. Она бы просто не смогла их учить, если бы держалась от них в сторонке или если бы не спешила первой поднять малыша, когда тот спотыкался и падал в школьном дворе. И так уж получилось, что один из ее учеников был болен проказой. – Фотини умолкла.
– Вы думаете, родители знали, что их ребенок болен? – недоверчиво спросила Алексис.
– Наверняка знали, – кивнула Фотини. – Они понимали, что им никогда больше не увидеть свое дитя, если кто-то об этом узнает. А Элени, как только поняла, что заразилась, могла сделать лишь одно: тут же распорядилась, чтобы каждый ребенок в школе был обследован, ради выявления больного. Им оказался девятилетний Димитрий, несчастным родителям которого пришлось вынести весь ужас расставания с сыном. Но иначе могло быть гораздо хуже. Ведь если подумать, как дети контактируют друг с другом, играя… Они же не похожи на взрослых, способных выдерживать дистанцию. Дети борются, толкаются и валятся кучей друг на друга. Теперь-то мы знаем, что эта болезнь передается только при долгом близком контакте, но в те дни люди боялись, что вообще вся школа в Элунде может превратиться в лепрозорий, если как можно скорее оттуда не удалят больного малыша.
– Наверное, Элени тяжело было решиться на такое, раз она была так близка со своими учениками, – задумчиво произнесла Алексис.
– Да, это было ужасно. Ужасно для всех, кого это коснулось, – согласилась Фотини.
У Алексис пересохло во рту, ей казалось, что она не в силах сказать что-нибудь еще. Чтобы как-то преодолеть напряженный момент, она придвинула свою пустую чашку к Фотини, та снова ее наполнила и подтолкнула через стол к Алексис. Аккуратно размешивая в темной жидкости сахар, Алексис чувствовала себя так, словно ее втянуло в водоворот горя и страданий Элени.
Что та должна была чувствовать? Уплыть от родного дома и оказаться навсегда запертой в пределах видимости родных, вдали от всего, что было таким дорогим, но оказалось отнятым? Алексис думала не только о женщине, бывшей ее прабабушкой, но и о мальчике, ведь оба они не совершили никакого преступления и тем не менее оказались прклятыми.
Фотини протянула руку и коснулась пальцев Алексис. Возможно, она слишком поспешила с рассказом, совсем не зная эту молодую женщину. Но это ведь была не сказка, и Фотини не могла сама решить, какую часть изложить, а какую пропустить. И если она начнет медлить, настоящая история может так и остаться нерассказанной. Фотини наблюдала за тем, как по лицу Алексис пробежала тень – мрачная и глубокая, не похожая на тень легких облачков, проплывавших в утреннем небе. Фотини подозревала, что до сих пор единственным темным пятном в жизни Алексис было недоумение по поводу скрытого прошлого ее матери. Но этот вопрос вряд ли заставлял бы девушку не спать по ночам. Она, конечно, не встречалась с тяжкими болезнями, не говоря уже о смерти. А теперь ей предстояло узнать и о том и о другом.
– Алексис, давай немножко прогуляемся. – Фотини встала. – Мы потом попросим Герасимо отвезти нас на остров – там все станет более осмысленным и понятным.
Прогулка – это было как раз то, в чем нуждалась Алексис. Фрагменты из истории ее матери и избыток кофеина вызвали у нее головокружение, и когда они с Фотини спустились по деревянным ступеням на каменистый берег, Алексис жадно вдохнула соленый воздух.
– Но почему моя мать никогда не рассказывала мне об этом? – спросила она.
– Уверена, у нее были к тому причины, – ответила Фотини, зная, что нужно рассказать еще очень и очень многое. – Возможно, когда ты вернешься в Англию, она тебе объяснит, почему была такой скрытной.
Они прошлись вдоль воды и начали подниматься по каменной тропинке, вдоль которой росли лаванда и ворсянка. Ветер здесь дул сильнее, и Фотини замедлила шаг. Хотя она и была весьма крепка для семидесяти лет, но уже не обладала прежней выносливостью и шла все осторожнее по мере того, как тропа становилась круче.
Время от времени Фотини останавливалась – в таких местах, откуда был виден Спиналонга. Наконец женщины добрались до огромного камня, выглаженного ветрами, дождями и долгим использованием его в качестве скамьи. Они сели и стали смотреть на море, а ветер шелестел кустами дикого тимьяна, пышно разросшегося вокруг. И именно здесь Фотини начала рассказывать историю самой Софии.
В следующие дни Фотини до конца рассказала Алексис историю ее семьи, перевернув все до единого камни, – всю историю, начиная от мелких событий детства до крупных событий самого Крита. За то время, что они провели вместе, женщины то бродили по тропинкам вдоль моря, то часами сидели за обеденным столом, то отправлялись в ближайшие городки и деревушки в арендованной машине Алексис, и Фотини выкладывала перед Алексис кусочки головоломки семьи Петракис. В эти дни Алексис чувствовала, как становится старше и мудрее, а Фотини, возвращаясь так далеко в прошлое, снова ощущала себя молодой. Полвека, что разделяли этих двух женщин, словно растворились, исчезли, и, когда они шагали рука об руку, их вполне можно было принять за сестер.
Часть 2
Глава 3
1939 год
Начало мая принесло на Крит самые прекрасные и благоуханные дни. В один из таких дней, когда деревья покрылись пышным цветом, а на горах растаяли все до последней снежинки, превратившись в кристальные ручьи, Элени, покинув материк, отправилась на Спиналонгу. А небо, составляя жестокий контраст черным событиям, сияло чистой, безоблачной синевой. Собралась толпа, чтобы поплакать, помахать рукой на прощание. Даже если бы в этот день школа, из уважения к уезжающей учительнице, не была закрыта, в классах все равно раздавалось бы эхо от пустоты. И дети, и учителя отсутствовали. Все хотели проститься с горячо любимой Петракис.
Элени Петракис любили и в Плаке, и в окрестных деревнях. Она обладала неким магнетизмом, привлекавшим к ней в равной мере и детей, и взрослых, все уважали учительницу, восхищались ею. Причина тут была проста. Для Элени учительство стало призванием, а ее энтузиазм воспламенял детей, словно факел. Так сказал про нее преподаватель, который сам учил ее двадцать лет назад.
Вечером накануне того дня, когда она должна был навсегда покинуть свой дом, Элени наполнила одну из ваз весенними цветами. Она поставила ее в центр стола, и этот маленький букет полевых цветков волшебным образом преобразил комнату. Элени отлично понимала могущество простых поступков, силу деталей. Она знала, например, что если помнить день рождения ребенка или его любимый цвет, то это может оказаться ключом к его сердцу. Дети внимательно слушали ее в классе, прежде всего потому, что хотели ее порадовать, а не потому, что их заставляли учиться. Процессу помогало еще и то, что Элени представляла ученикам факты и цифры, записывая их на цветные карточки, подвешенные к потолку так, что они выглядели похожими на стайку экзотических птиц, постоянно круживших над головой.
Но дети пришли попрощаться не только с любимой учительницей, которая должна была отправиться в этот день через пролив на Спиналонгу, они прощались также и с хорошим другом: девятилетним Димитрием, чьи родители умудрялись уже год, а то и больше скрывать признаки проказы, проявившиеся у их сына. Каждый месяц они придумывали новые способы скрыть пятна на его коже: шорты до колен сменились на длинные брюки, открытые сандалии – на тяжелые ботинки, а летом ему запретили купаться в море вместе с другими ребятами, чтобы никто не заметил пятна на его спине. «Скажи, что боишься волн», – умоляла его мать, хотя это, конечно, звучало глупо. Все эти дети выросли у моря, наслаждаясь его бодрящей силой, и с нетерпением ожидали тех дней, когда северо-западный ветер превращал зеркальное Средиземноморье в дикий, бушующий океан. Только девчонки могли бояться волн. И мальчик, многие месяцы живший в страхе перед разоблачением, в глубине души понимал, что это лишь временное состояние и рано или поздно его раскроют.
Любой, кто не был знаком с необычными обстоятельствами того летнего утра, вполне мог бы предположить, что эта толпа собралась ради похорон. Людей было около сотни, в большинстве женщины и дети, и все они выглядели подавленными. Они стояли на деревенской площади как некое единое тело, молчаливые, ожидающие, дышащие в унисон. Совсем недалеко, на боковой улочке, Элени Петракис открыла дверь своего дома – и очутилась лицом к лицу с множеством людей на обычно пустой площади. Ее первым порывом было отступить назад. Но это ничего бы не изменило. Гиоргис уже ждал ее на причале, его лодка была нагружена вещами Элени. Ей требовалось совсем немного, остальное Гиоргис мог привезти в ближайшие недели, к тому же Элени не хотела забирать из родного дома что-то, кроме самого необходимого.
Анна и Мария остались позади, за акрытой дверью. Последние минуты, проведенные с ними, были самыми мучительными в жизни Элени. Ее терзало желание обнять девочек, стиснуть в руках, ощутить кожей их горячие слезы, успокоить их дрожащие тела. Но она ничего такого не могла сделать. Не могла, не рискуя их здоровьем. Лица девочек исказились от горя, глаза распухли от слез. Все уже было сказано, все чувства выплеснуты. Их мать уезжала. И она не собиралась вернуться вечером, нагруженная книгами, пожелтевшая от усталости, но сияющая от радости, потому что наконец могла побыть дома, с ними. Больше никаких возвращений.
Девочки вели себя точно так, как и предвидела Элени. Анна, старшая, всегда была переменчивой, подвижной, и сомневаться в том, чт она чувствует, не приходилось. Мария же, наоборот, была тихим, терпеливым ребенком, ее настроение менялось гораздо медленнее. Поэтому в дни, предшествовавшие отъезду матери, Анна более открыто выражала горе, чем сестра, ее неспособность справляться с чувствами никогда не проявлялась сильнее, чем в эти дни. Анна умоляла маму не уезжать, просила остаться, шумела, почти бредила, дергала себя за волосы. Мария, в противоположность ей, сначала тихо всхлипывала, а потом разразилась рыданиями, которые были слышны даже на улице. Но в итоге обе пришли к одному: притихли от изнеможения, умолкли.
Элени была полна решимости обуздать вулканические взрывы горя, грозившие поглотить ее. Она сможет выплеснуть все тогда, когда покинет Плаку. Единственное, что помогало ей удержаться, – это надежда, что ее самообладание ничто не нарушит. Ведь если она ослабеет хотя бы на мгновение, все погибнет. Поэтому девочки должны были остаться дома. Их следовало избавить от зрелища исчезающей вдали фигуры матери, зрелища, которое могло навеки запечатлеться в их памяти.
Это был самый тяжелый момент в жизни Элени, а теперь еще ее лишили уединения. Ряды печальных глаз наблюдали за ней. Элени понимала: люди пришли, чтобы пожелать ей удачи, но никогда еще она не испытывала такого огромного желания остаться в одиночестве. А в этой толпе каждое лицо было ей знакомо, каждое она любила.
– Прощайте, – негромко произнесла она. – Прощайте!
Элени держалась отстраненно, сохраняя дистанцию. Ее привычное желание обнять каждого внезапно умерло десять дней назад, в то чудовищное утро, когда она заметила странные пятна на ноге. Тут невозможно было ошибиться, в особенности после того, как Элени сравнила свои пятна с рисунком на листовке, которая распространялась по всей Греции, чтобы предупредить людей о симптомах болезни. Элени даже не нужно было идти к специалисту, чтобы осознать ужасающую правду. Уже до того, как она пошла к врачу, Элени знала, что каким-то образом заразилась самой ужасной из всех болезней. И слова из Левита, которые куда чаще необходимого произносил их местный священник, сразу прозвучали в ее голове.
- Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеши его или на лысине его,
- видом похожа на проказу кожи тела,
- То он прокаженный, нечист он; священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва.
- У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать: «нечист, нечист!»[2]
Многие люди и по сей день верили, что жестокие наставления Ветхого Завета по поводу обращения с прокаженными должны выполняться. Этот отрывок, должно быть, звучал в церквях уже сотни лет, и образ прокаженного – мужчины, женщины или даже ребенка, – выброшенного из общества, глубоко прижился в умах.
Когда Элени шла через толпу, Гиоргис, наверное, мог видеть только ее макушку, но он уже знал, что момент, которого он так страшился, совсем близок. Гиоргис тысячу раз бывал на Спиналонге, потому что год за годом привозил постоянным жителям острова разные припасы, но он и вообразить не мог, что когда-нибудь ему придется совершить вот такую поездку. Лодка была уже готова, и Гиоргис стоял, ожидая, пока подойдет Элени. Он крепко обхватил себя руками и склонил голову. Ему казалось, что если он будет стоять вот так, напрягая все тело, то сумеет подавить нараставшие чувства и удержать их, не дать выплеснуться наружу безумным криком боли и гнева. Его врожденную способность скрывать эмоции поддерживало самообладание его жены. Но внутренне он был разбит горем. «Я должен это сделать», – твердил себе Гиоргис, как будто ему предстояла еще одна самая обычная поездка на остров. К тысяче раз, когда он пересекал пролив, добавится еще один, а потом еще тысяча.
Пока Элени шла к причалу, толпа продолжала молчать. Какой-то ребенок заплакал, но мать быстро успокоила его. Один-единственный эмоциональный всплеск – и все эти страдающие люди могли потерять самообладание. Тогда вся сдержанность исчезла бы в один миг, и величественное достоинство этого прощания было бы утрачено.
Хотя несколько сотен метров до причала казались неодолимым расстоянием, Элени почти уже прошла их и потому обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на собравшихся. Ее дома уже не было видно, но она знала, что ставни остаются закрытыми, а ее дочери тихо всхлипывают в темноте.
И вдруг послышался плач. Это были громкие, душераздирающие рыдания какой-то взрослой женщины, и такое открытое проявление горя было настолько же необузданным, насколько сдержанным было страдание Элени. Она на мгновение замерла на месте. Эти звуки показались ей эхом ее собственного внутреннего состояния – они в точности отражали то, что Элени скрывала в себе. Толпа зашевелилась, отводя глаза от Элени и переводя взгляд на дальний край площади, где под деревом был привязан мул, а рядом с ним стояли мужчина и женщина. И еще там был мальчик, почти полностью скрытый в объятиях женщины. Макушка его головы едва достигала ее груди, а она склонялась к нему, обнимая, просто не в силах отпустить.
– Мой малыш! – в отчаянии выкрикивала женщина. – Мой мальчик, мой милый сынок!
Ее муж топтался рядом.
– Катерина, – уговаривал он. – Димитрий должен идти. У нас нет выбора. Лодка ждет. – Он мягко отвел руки матери от ребенка.
Она еще раз произнесла имя сына, мягко, неотчетливо:
– Димитрий…
Но мальчик не посмотрел на нее. Его взгляд уперся в пыльную землю.
– Идем, Димитрий, – твердо произнес его отец.
И мальчик последовал за ним.
Он шел, упорно глядя на поношенные кожаные ботинки отца. Ему только и требовалось, что ставить ноги в следы, оставленные в пыли отцом. Это была игра, в которую они играли так много раз, когда отец делал огромные шаги, а Димитрию приходилось прыгать, изо всех сил вытягивая ноги, чтобы не сбиться с шага, и он просто терял силы от смеха. Но на этот раз отец шагал медленно и неровно. Димитрию нетрудно было попадать в его следы. Отец освободил мула с грустной мордой от ноши и теперь нес на плече корзину с пожитками сына, на том самом плече, на котором так часто носил своего мальчика. Путь до причала, мимо собравшихся людей, казался таким длинным.
Последнее прощание отца и сына было кратким, почти мужским. Элени, осознавая всю неловкость момента, приветствовала Димитрия, полностью сосредоточившись на мальчике, за чью жизнь она принимала ответственность с этого момента и навсегда.
– Идем, увидим наш новый дом.
Она взяла мальчика за руку и помогла ему сесть в лодку, как будто они просто собирались отправиться на поиски приключений, а коробки, стоявшие на дне, содержали в себе разные вкусности для пикника.
Толпа наблюдала за их отплытием, продолжая хранить молчание. Для таких моментов не существовало каких-либо правил. Нужно ли помахать рукой? Нужно ли крикнуть что-нибудь на прощание? Бледные лица, скованные тела, тяжесть на сердце. Кое-кто испытывал двойственные чувства к мальчику, виня его за случившееся с Элени и за страх, который теперь испытывали люди, опасаясь за здоровье собственных детей. Но в тот момент, когда лодка отчалила, и матери, и отцы ощущали только жалость к двум несчастным, что навсегда расстаются со своими родными.
Гиоргис оттолкнул лодку от причала, и вскоре ег весла уже вошли в привычный ритм борьбы с течением. Море как будто не хотело, чтобы они плыли туда. Еще какое-то время толпа наблюдала за лодкой, но, когда фигуры людей стали неразличимы, все начали расходиться.
Последней ушла с площади женщина примерно такого же возраста, как Элени, с девочкой. Это была Савина Ангелопулос, выросшая вместе с Элени, а девочка была ее дочерью Фотини, которая, по обычаям скромной деревенской жизни, являлась лучшей подружкой младшей дочери Элени, Марии. Шарф на голове Савины скрывал ее густые волосы, но подчеркивал огромные добрые глаза. Рождение детей плохо отразилось на ее теле, она стала грузной, с полными ногами. В противоположность ей Фотини была стройной, как молодое оливковое деревце, и при этом унаследовала от матери прекрасные глаза. Когда маленькая лодка почти исчезла из виду, обе они повернулись и быстро пересекли площадь. Они направлялись к дому с поблекшей зеленой дверью, к дому, из которого совсем недавно вышла Элени. Ставни на нем были закрыты, но входная дверь не заперта, и мать с дочерью вошли внутрь. Вскоре Савина уже сжимала в руках девочек, даруя им те объятия, которых не могла даровать в своей мудрости их родная мать.
Когда лодка приблизилась к острову, Элени еще крепче сжала руку Димитрия. Она была рада тому, что о несчастном мальчике есть кому позаботиться, и в это мгновение совсем не думала об иронии их положения. Элени намеревалась учить его и воспитывать, как родного сына, и делать все, что в ее силах, чтобы школьное обучение ребенка не оборвалась из-за чудовищного поворота событий. Теперь лодка уже достаточно приблизилась к острову, чтобы можно было рассмотреть нескольких человек, стоявших перед крепостной стеной, и понять, что они ждут новичков. А иначе зачем им стоять там? Вряд ли они хотели покинуть остров.
Гиоргис искусно подвел лодку к причалу и вскоре уже помогал жене и Димитрию выйти на сушу. Он бессознательно избегал прикосновения к обнаженной коже мальчика, поддерживая его под локоть, когда тот выбирался из лодки. А потом сосредоточился на том, чтобы как можно быстрее привязать лодку к причалу, осторожно выгрузить ящики. Он старался отвлечься от той мысли, что ему придется отправиться с острова без жены. Небольшой фанерный ящик с пожитками мальчика и ящик побольше – с вещами Элени вскоре уже стояли на причале.
Вот они наконец на Спиналонге. Элени и Димитрию казалось, что они пересекли огромный океан, а их прежняя жизнь осталась в миллионе миль позади.
Прежде чем Элени успела оглядеться по сторонам, Гиоргис уже отчалил. Они еще накануне вечером договорились, что не станут долго прощаться, и оба были правы в своем решении. Гиоргис поспешно двинулся в обратный путь и успел увести лодку на добрую сотню метров от берега, надвинув шляпу так низко на лоб, что мог видеть только темные доски днища лодки.
Глава 4
Те несколько человек, которых Элени заметила уже издали, теперь шли к ней и мальчику. Димитрий продолжал молчать, уставившись на собственные ноги, а Элени протянула руку мужчине, который вышел вперед, чтобы приветствовать ее. Этот жест означал: Элени прибыла в свой новый дом. Элени вдруг поняла, что собирается пожать руку, искривленную, как какой-нибудь пастушеский посох, руку, уже настолько изуродованную лепрой, что пожилой мужчина не мог даже сжать протянутую к нему ладонь Элени. Но его улыбка говорила о многом, и Элени ответила вежливым: «Калимера». Димитрий молча стоял за ее спиной. Он мог оставаться в таком состоянии шока еще несколько дней.
В обычае Спиналонги было, чтобы новых членов колонии встречали с некоторой официальностью, и Элени с Димитрием приветствовали так, будто они и в самом деле только что добрались до далекой цели, о которой могли только мечтать. Но суть в том, что для некоторых больных лепрой это и в самом деле было так. Остров мог предложить им благожелательное убежище от жизни без дома, бродяжничества. Многие прокаженные провели месяцы, а то и годы, оказавшись выброшенными из общества, они ночевали в каких-нибудь сараях, питались отбросами. Для таких жертв болезни Спиналонга была радостью, отдыхом от презренного и жалкого существования, которое им приходилось вести.
Мужчину, приветствовавшего Элени, звали Петросом Контомарисом, он был старостой острова. Его выбрали на эту должность на ежегодных выборах триста или около того обитателей Спиналонги. Остров представлял собой демократическое общество, регулярные выборы не давали зародиться здесь какому-нибудь скрытому недовольству. Первой обязанностью старосты было приветствовать вновь прибывших – только ему и еще нескольким специально назначенным для этого людям разрешалось выходить за пределы крепостной стены.
Элени и Димитрий, держась за руки, последовали за Петросом Контомарисом через туннель. Элени – благодаря тому, что рассказывал ей Гиоргис, – знала об этом острове куда больше, чем кто-либо на материке. Но все равно увиденная сцена застала ее врасплох. На узкой улочке перед ними толпилось множество людей. Это было так похоже на базарный день в Плаке. Люди куда-то шли с корзинами, полными продуктов, в дверях церкви появился священник, две пожилые женщины медленно ехали на усталых и грустных с виду осликах. Кое-кто обернулся, чтобы посмотреть на новеньких, кто-то кивнул им, приветствуя. Элен смотрела по сторонам, боясь показаться невежливой, но в то же время не в силах сдержать любопытство. То, о чем она до сих пор только слышала, оказалось правдой. Большинство больных проказой выглядели точно так же, как она сама: здоровыми на вид.
Но вот какая-то женщина, с закутанной шалью головой, остановилась, чтобы дать им пройти. Элени краем глаза заметила лицо, изуродованное припухлостями размером с грецкий орех, и невольно содрогнулась. Никогда в жизни не видела она ничего более отвратительного, и лишь мысленно вознесла молитву о том, чтобы Димитрий эту женщину не заметил.
Элени и Димитрий шли по улице следом за старостой, а другой пожилой мужчина вел за ними ослика, нагруженного их вещами.
Петрос Контомарис вел беседу с Элени.
– У нас есть для вас дом, – сообщил он. – Освободился на прошлой неделе.
На Спиналонге дома освобождались только благодаря смерти. Люди продолжали прибывать сюда вне зависимости от того, есть ли свободное место, а это означало, что иногда остров бывал переполнен. Но поскольку это была политика правительства – поощрять больных лепрой жить на Спиналонге – и в интересах того же правительства было не допускать беспокойства на острове, то время от времени выделялись деньги на строительство новых домов или небольшие суммы на ремонт старых. В предыдущем году, когда имевшиеся дома уже совсем обветшали, был выстроен уродливый, но весьма функциональный комплекс, и жилищный кризис предотвращен. У каждого островитянина теперь появилась возможность некоторого уединения. Человеком, который принимал окончательное решение относительно того, где следует поселиться новичкам, был Контомарис. Он отнесся к Элени и Димитрию особенно внимательно, рассматривая их как мать и сына, и по этой причине решил поселить их не в новом комплексе, а в недавно освободившемся доме на центральной улице. Ведь Димитрий, по всей видимости, прибыл сюда на много лет.
– Кирия Петракис, – сказал Контомарис, – теперь это будет ваш дом.
В конце главной улицы, где уже заканчивались магазинчики, стоял, отступив от дороги, простой домик. Элени поразило то, что он уж слишком походил на ее собственный дом. Потом она сказала себе, что не должна думать так, ведь этот старый каменный домик, который она видела перед собой, и был теперь ее домом.
Контомарис отпер дверь и распахнул ее перед Элени. Внутри было темно, даже в такой сияющий, светлый день, и у Элени упало сердце. Уже в сотый раз за этот день пределы ее храбрости подвергались испытанию. Но ведь они предлагали лучшее из того, что имели, и Элени просто обязана изобразить благодарность. Искусство притворяться, которое требовалось учителю, в этот день нужно было ей, как никогда.
– Что ж, оставлю вас, чтобы вы могли тут устроиться, – сказал Контомарис. – Моя жена попозже зайдет к вам и покажет все тут в колонии.
– Ваша жена?! – воскликнула Элени с куда бльшим удивлением в голосе, чем сама от себя ожидала.
Но Контомарис, похоже, давно привык к такой реакции.
– Да, моя жена. Мы познакомились и поженились уже здесь. И знаете, в этом нет ничего необычного.
– Нет-нет, я уверена, это так… – смущенно пробормотала Элени, осознавая, что ей предстоит здесь узнать еще очень многое.
Контомарис слегка поклонился и ушел. Элени и Димитрий остались одни, они стояли, оглядываясь по сторонам в дневной темноте. Кроме потертого ковра, всю обстановку комнаты составляли деревянный комод, маленький стол и два хлипких деревянных стула. На глаза Элени навернулись слезы. Теперь ее жизнь сводилась вот к этому: две души в унылой комнате и парочка стульев, которые выглядели так, словно готовы были рассыпаться от первого прикосновения, не говоря уже о том, что им явно было не выдержать веса человеческого тела. Какая, собственно, разница между ней с Димитрием и этими хрупкими предметами обстановки? И снова Элени почувствовала, что надо изобразить бодрость.
– Ну что, Димитрий, давай поднимемся наверх, осмотримся?
Они пересекли неосвещенную комнату и поднялись по лестнице. Наверху были две двери. Элени открыла ту, что располагалась слева от нее, и, войдя, распахнула ставни. Внутрь хлынул свет. Окна дома выходили на улицу, и еще отсюда вдали виднелось море. Железная кровать и один дряхлый стул – вот все, что содержала в себе эта голая камера. Элени оставила в ней Димитрия, а сама прошла во вторую спальню, которая оказалась меньше и выглядела почему-то более серой. Элени вернулась в первую комнату, где все так же стоял на месте Димитрий.
– Это будет твоя спальня, – сообщила она.
– Моя спальня? – недоверчиво переспросил мальчик. – Для меня одного?
Он ведь всегда жил в одной комнате с двумя братьями и двумя сестрами. Впервые его маленькое личико отразило какие-то чувства. Димитрий совершенно неожиданно обнаружил, что в его жизни хотя бы что-то изменилось в лучшую сторону.
Когда они спускались по лестнице, через гостиную пробежал таракан и спрятался за деревянным комодом, стоявшим в углу. Элени решила, что поймает его потом, а пока что нужно зажечь три масляные лампы, которые осветили бы эту унылую обитель. Открыв свой ящик – в нем лежали в основном книги и другие учебные материалы, которые должны были ей понадобиться для занятий с Димитрием, – Элени нашла бумагу и карандаш и начала составлять список: три куска хлопковой ткани для занавесок, две картины на стены, несколько подушек, пять одеял, большая кастрюля и кое-что из ее лучшего фарфора. Она знала, что ее родным приятно будет думать, что все они едят с одинаковых тарелок, расписанных цветами. Еще одним важным пунктом списка были семена. Хотя их дом и был мрачным, Элени весьма приободряла мысль о создании маленького садика перед ним, и она уже начала планировать, что именно станет здесь выращивать. Гиоргис вернется через несколько дней, так что через неделю-другую она уже начнет преображать это место. И это лишь первый список для Гиоргиса – Элени не сомневалась, что он выполнит все ее просьбы до последней буквы.
Димитрий сидел и наблюдал за Элени, пока она обдумывала список предметов первой необходимости. Он немножко побаивался этой женщины, которая только вчера была его учительницей, а теперь должна была заботиться о нем не только с восьми утра до двух часов дня, но и все остальные часы тоже. Она должна была стать митерой – его матерью. Но он никогда не сможет называть ее как-то иначе, только «кирия Петракис». Мальчик думал о том, что сейчас делает его мама. Наверное, готовит ужин, помешивая горячий суп в большой кастрюле. Димитрию казалось, что именно так она проводит бльшую часть своего времени, пока он с братьями и сестрами играет на улице. Он гадал, увидит ли их еще когда-нибудь, всем сердцем желая очутиться рядом с ними, играть в пыли. И если он так соскучился по ним за каких-то несколько часов, что будет через день, через неделю, через месяц? Внутри у Димитрия все сжалось, ему стало так больно, что слезы градом покатились по щекам. И тут же кирия Петракис очутилась рядом с ним, обняла его и зашептала:
– Ну-ну, Димитрий… все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо.
Если бы только он мог ей поверить…
В этот день они распаковывали свои вещи. Наверное, то, что вокруг появлялись знакомые предметы, должно было поднять им настроение, но каждый раз, когда какая-то вещица появлялась на свет, она вызывала массу ассоциаций с прежней жизнью, не давая ничего забыть. Каждая новая безделушка, книга или игрушка напоминали им еще сильнее, что прошлое навсегда осталось позади.
Одним из сокровищ Элени были маленькие часы, подарок родителей в день свадьбы. Она поставила их на каминную полку, и мягкое тиканье заполняло теперь протяжную тишину. Они отбивали каждый час, и было ровно три, когда кто-то негромко постучал в дверь дома еще до того, как затих мелодичный звон. Элени широко распахнула дверь, чтобы впустить гостью, маленькую круглолицую женщину с проседью в волосах.
– Калиспера, – приветствовала ее Элени. – Кириос Контомарис говорил, что мне следует вас ожидать. Прошу, входите.
– Это, должно быть, Димитрий, – сказала женщина, быстро подходя к мальчику, который продолжал сидеть, опустив голову на руки. – Ну-ка, пойдем, – предложила она. – Я хочу показать тебе тут все. Меня зовут Элпида Контомарис, но, пожалуйста, зовите меня просто Элпидой.
В ее голосе звучала натужная бодрость и нечто вроде воодушевления, которое стараются изобразить люди, уговаривая напуганного ребенка пойти и выдернуть больной зуб. Все втроем они вышли из мрачного дома на послеполуденный свет и повернули направо.
– Самое важное здесь – это водоснабжение, – начала Элпида, ее уверенный тон сразу дал понять, что ей уже не раз приходилось водить по острову вновь прибывших.
Когда на остров прибывала какая-то женщина, муж Элпиды обычно доверял знакомство ей. Но Элпиде впервые приходилось рассказывать обо всем в присутствии ребенка, так что она понимала, что необходимо как-то изменить привычный порядок. И конечно, надо было приглушить ту язвительность, которая всегда просыпалась в ней, когда она описывала островные порядки.
– Вон там, – бодро произнесла Элпида, показывая на огромную цистерну у подножия холма, – мы накапливаем воду. Это нечто вроде места для общения, и мы там проводим немало времени за разговорами, обмениваемся новостями.
На самом деле тот факт, что всем приходилось тащиться несколько сот метров вниз по холму, чтобы набрать воды, а потом подниматься с ней наверх, злило Элпиду сверх всякой меры. Она-то могла с этим справиться, но те, кто уже сильнее пострадал от болезни, едва могли поднять даже пустое ведро, не говоря уж о том, чтобы тащить его полным. А Элпида до того, как перебралась на Спиналонгу, редко поднимала что-нибудь тяжелее стакана воды, а вот теперь перетаскивание тяжелых ведер стало неотъемлемой частью ее повседневной жизни. Ей понадобилось несколько лет, чтобы привыкнуть к этому. Для Элпиды все сложилось намного трагичнее, чем для многих других. Она происходила из богатой семьи, жившей в Ханье, и совсем не знала тяжелого ручного труда, пока не очутилась в здешней колонии, – самым тяжким трудом в ее прежней жизни была вышивка простыней.
Но Элпида, как обычно, храбрилась перед новенькими, знакомя их с островом, и подчеркивала в первую очередь положительные стороны. Она показала Элени Петракис несколько лавчонок с таким видом, как будто это были дорогие магазины в Ираклионе, подчеркнув, что раз в две недели у них на площади собирается рынок. Элпида также отвела новеньких в аптеку, которая для многих вообще была главным зданием в поселке. Рассказала, когда булочник печет свежий хлеб, где находится кофейня – на маленькой боковой улочке. Священник также собирался навестить вновь прибывших, но Элпида показала, где он живет, и отвела их в церковь. Она попыталась обрадовать мальчика, сообщив, что в зале ратуши для детей раз в неделю бывает кукольное представление, и под конец показала школу, в тот день пустую, – три дня в неделю здесь шли занятия для небольшого детского населния острова.
Элпида рассказала Димитрию о детях его возраста и попыталась заставить его улыбнуться, описывая, как они играют и веселятся вместе. Но несмотря на ее старания, лицо мальчика оставалось неподвижным.
А вот о чем она не стала говорить, особенно при мальчике, так это о беспокойстве, нараставшем на Спиналонге. Хотя многие из прокаженных поначалу были благодарны за предоставленное им убежище, через какое-то время они разочаровывались и начинали думать, что их просто бросили здесь, – на их нужды не было никакого ответа. Элпида понимала, что Элени вскоре и сама осознает ту горечь, что поглощала многих больных лепрой. Все это просто висело в воздухе.
Будучи женой старосты острова, Элпида оказалась в трудном положении. Петроса Контомариса выбрало население Спиналонги, но его главной задачей было действовать в качестве посредника между островом и правительством. Он, как рассудительный человек, понимал, где лежит граница между Спиналонгой и властями Крита, но Элпида видела, что он постоянно сражается с горластым и зачастую радикальным меньшинством колонии, с теми, кому казалось, что Контомарис плохо справляется со своими обязанностями. Некоторые вообще чувствовали себя так, словно были просто незаконными поселенцами на турецкой земле, хотя Контомарис все те годы, что занимал должность старосты, делал все возможное. Он добился ежемесячного пособия в двадцать пять драхм для каждого обитателя острова, сумел получить деньги на строительство многоквартирного дома, хорошего снабжения аптеки и амбулатории, даже регулярных визитов доктора с материка. Он также разработал план, по которому каждому желавшему выращивать собственный урожай выделялся участок земли, – люди могли сажать овощи и фрукты, хоть для себя, хоть для продажи на местном рынке.
В общем, Контомарис делал все, что в человеческих силах, но жителям Спиналонги постоянно хотелось чего-то еще, а Элпида не была уверена, хватит ли у мужа энергии на выполнение их требований. Она постоянно тревожилась о нем. Контомарису было, как и ей самой, уже хорошо за пятьдесят, но его здоровье быстро ухудшалось. Проказа начинала одерживать победу над его телом.
Элпида видела огромные перемены с тех пор, как сама прибыла на этот остров, и бльшая их часть осуществилась благодаря ее мужу. Тем не менее недовольство нарастало изо дня в день. Ситуация с водой была в центре общих интересов, в особенности летом. Старая венецианская система водоснабжения, сконструированная сотни лет назад, собирала дождевую воду в каналы и переливала в подземные хранилища, чтобы не дать воде испариться. Система была до гениальности проста, но каналы уже начинали рушиться. В дополнение к этому с материка каждую неделю доставляли свежую воду, но ее вечно не хватало для более чем двухсот человек, которым хотелось и помыться, и полить растения. Это была повседневная борьба, пусть даже с помощью мулов, в особенности для старых и искалеченных болезнью. А зимой люди нуждались в электричестве. Пару лет назад на острове установили генератор, и все предвкушали удовольствие от тепла и света в темные дни, с ноября по февраль. Но этого не произошло. Генератор проработал всего три недели, и на том дело кончилось. Просьбы о запасных частях оставались без ответа, и механизм стоял заброшенным, теперь его уже почти полностью опутали сорняки.
Вода и электричество были не роскошью, а необходимостью – на острове все прекрасно понимали, что недостаток воды может сократить их жизни. Но правительство считало их жизнь вполне сносной, поэтому внимание к острову оставалось лишь формальным. Жители Спиналонги буквально кипели гневом, и Элпида вполне разделяла их ярость. Почему в стране, где в небо вздымаются огромные снежные вершины, которые прекрасно видно в зимние дни, люди должны довольствоваться скудным водным рационом? Они хотели иметь достаточно свежей воды, и как можно скорее. Насколько вообще хватало сил у здешних мужчин и женщин, многие из которых были сильно изуродованы, они спорили яростно и злобно, пытаясь решить, что делать.
Элпида помнила время, когда одна группа обитателей острова грозила напасть на материк, а другие предлагали взять заложников. Но в конце концов они осознали, насколько жалкую команду будут представлять, не имея ни лодок, ни оружия, а главное, почти не имея сил.
Единственное, чего могли добиться островитяне, так это того, чтобы их голоса услышали. Именно умение Петроса доказывать, его дипломатический талант и стали их самым мощным оружием. Элппиде приходилось соблюдать некоторую дистанцию между собой и другими жителями острова, но уши у нее всегда были открыты, в основном в сторону женщин, которые смотрели на нее как на посредника между собой и ее мужем. Элпида давно устала от всего этого и втайне убеждала Петроса не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Разве он мало поработал?
Показывая Элени и Димитрию маленькие улочки острова, Элпида держала свои мысли при себе. Она видела, как Димитрий на ходу цепляется за подол юбки Элени, словно пытаясь успокоить себя таким образом, и тихо вздыхала. Какое будущее ждет мальчика в этом месте? Она надеялась, что его жизнь будет недолгой.
А Элени, наоборот, успокаивало легкое подергивание руки мальчика за ее юбку. Это напоминало ей, что она не одна и ей есть о ком заботиться. Всего лишь вчера у нее были муж и дочери, а еще недавно перед ней горели глаза учеников в школе. Все они нуждались в ней, и она от этого расцветала. А эту новую реальность осознать было трудно. На мгновение Элени даже показалось, что она уже умерла и эта женщина – химера, которая показывает ей окрестности Гадеса, подземного мира, и рассказывает, где души мертвых могут постирать свои саваны и купить иллюзорную еду. Однако разум твердил ей, что все это происходит на самом деле. И не Харон, а собственный супруг привез ее в ад и оставил тут умирать. Элени резко остановилась, и Димитрий тоже замер. Она уронила голову, чувствуя, как огромные слезы заполняют глаза. Впервые Элени потеряла власть над собой. Горло у нее сжалось, и она судорожно втянула воздух. Элпида, до сих пор державшаяся так уверенно, так деловито, обернулась к Элени и схватила ее за руки. Димитрий уставился на обеих женщин. В этот день он впервые увидел, как плачет его мать. А теперь настала очередь учительницы. По ее щекам потоком лились слезы.
– Не бойся плакать, – мягко произнесла Элпида. – Мальчик увидит здесь много слез. Поверь мне, на Спиналонге они льются обильно.
Элени прижалась лицом к плечу Элпиды. Двое прохожих остановились и уставились на них. Не вид плачущей женщины их остановил, просто они проявляли интерес ко всем новичкам. Димитрий отвернулся, вдвойне смущенный слезами Элени и взглядами незнакомцев. Ему хотелось, чтобы земля под ним вдруг разверзлась, как при землетрясении, о котором он узнал в школе, и поглотила бы его. Он ведь знал, что Крит время от времени встряхивает, так почему бы не сейчас?
Элпида поняла чувства Димитрия. Рыдания Элени и на нее начали действовать: она ужасно сочувствовала женщине, но ей хотелось, чтобы та наконец умолкла. К счастью, им повезло остановиться прямо перед ее собственным домом, и Элпида решительно повела Элени внутрь. На мгновение она вдруг остро осознала разницу между своим домом и тем, в котором предстояло жить Элени и Димитрию. Дом Контомариса, официальная резиденция главы острова, был одним из тех зданий, что остались на острове с периода оккупации Венецией, здесь имелся балкон, который можно было назвать почти величественным, и вход с портиком.
Супруги жили здесь последние шесть лет, и Элпида была настолько уверена, что на ежегодных выборах ее муж снова получит большинство голосов, что никогда и не думала о том, каково было бы жить где-то еще. Конечно, теперь именно она сама уговаривала его оставить свой пост, а это значило, что им придется переехать, если Петрос действительно решит уйти в отставку. «Но кто еще может этим заниматься?» – спрашивал он. И это был справедливый вопрос.
Те немногие, кто готов был, по слухам, выставить свои кандидатуры, имели слишком слабую поддержку. Один из них, Теодорос Макридакис, являлся главным среди агитаторов, и хотя многие из его дводов звучали разумно, для острова стало бы бедой, если бы ему дали какую-то власть. Его полная неспособность к дипломатии привела бы к тому, что весь прогресс, которого Контомарис достиг в переговорах с правительством, был бы утрачен, и весьма вероятно, что у острова могли даже отобрать привилегии, а не добавить новые.
Еще одним кандидатом на роль старосты был Спирос Казакис, добрый, но слишком слабый индивидуум – для него единственным подлинным мотивом к борьбе было завладеть домом, которым втайне мечтали обладать все обитатели Спиналонги.
Внутри этот дом представлял собой невероятный контраст любому другому дому на острове. Окна от пола до потолка позволяли свету проникать внутрь с трех сторон. Еще здесь имелась люстра резного хрусталя, висевшая на длинной пыльной цепи в центре потолка, грани ее маленьких подвесок бросали на светлые стены радужные блики.
Мебель была старой, но удобной, и Элпида жестом предложила Элени сесть. Димитрий принялся бродить по комнате, рассматривая фотографии в рамках и шкаф с застекленными дверцами, в котором хранились драгоценные обломки прошлого Контомарисов: серебряный кувшин с гравировкой, ряд коклюшек для плетения кружев, несколько изделий из дорогого китайского фарфора и, что вызывало наибольший интерес, крохотные солдатики, выстроившиеся в шеренги.
Мальчик несколько минут простоял перед шкафом, однако он не глядел на все эти необычные предметы, а зачарованно всматривался в свое отражение в стекле. Собственное лицо показалось ему таким же странным, как комната, в которой он очутился. Он будто не узнавал человека, смотревшего на него. Это был мальчик, вся вселенная которого укладывалась в городки Айос-Николаос, Элунду и несколько деревушек в той же местности, где жили его двоюродные братья и сестры, дяди и тети. Димитрий чувствовал себя так, словно его вдруг перенесли в другую галактику. Лицо его отражалось в безупречно отполированном стекле, а за своей спиной он видел кирию Контомарис, обнимавшую кирию Петракис, которая плакала. Димитрий несколько мгновений наблюдал за ними, а потом сосредоточил взгляд на солдатиках, так аккуратно выстроенных внутри шкафа.
Когда он обернулся, чтобы посмотреть на женщин, кирия Петракис уже взяла себя в руки и потянулась к нему.
– Димитрий, – сказала она, – мне так жаль…
Слезы учительницы и потрясли, и смутили мальчика, ему вдруг пришло в голову, что она, наверное, так же тоскует по своим детям, как он тоскует по матери. Димитрий попытался представить, что бы чувствовала его мама, если бы на Спиналонгу отправили ее саму, а не ее сына. Мальчик взял руки кирии Петракис и крепко их сжал.
– Не надо извиняться, – проговорил он.
Элпида отправилась в кухню, чтобы приготовить кофе для Элени и немного лимонада для Димитрия – то есть просто воды с сахаром и каплей лимонного сока. Когда она вернулась, то увидела, что ее гости сидят рядом и тихо о чем-то беседуют. Глаза мальчика загорелись, когда он увидел напиток, и очень скоро допил все до дна. Что касается Элени, то она ощущала себя окутанной теплой заботой, но не могла бы сказать, то ли это чувство возникло от сладкого кофе, то ли от доброты Элпиды. Ведь раньше именно ей выпадало на долю проявлять симпатию и сочувствие, и Элени вдруг поняла, что ей труднее принимать заботу, чем отдавать. Для нее такая перемена мест была чем-то вроде вызова.
Дневной свет начал понемногу угасать. Еще какое-то время они все сидели, погрузившись каждый в свои мысли, и тишину нарушало лишь осторожное позвякивание чашек. Димитрий расправился со вторым стаканом лимонада. Ему никогда не приходилось бывать в таких вот домах, где на стенах играли маленькие радуги, а стулья мягче всего того, на чем ему когда-либо приходилось спать. Все здесь было так не похоже на его родной дом, где каждая скамья вечером превращалась в кровать, а каждый коврик служил еще и одеялом. Димитрий всегда думал, что по-другому никто и не живет. Но здесь…
Когда все допили свои напитки, Элпида заговорила.
– Ну что, продолжим прогулку? – вставая, предложила она. – Там кое-кто ждет, чтобы с вами познакомиться.
Элени и Димитрий вышли следом за ней из дома. Димитрию не хотелось уходить. Ему очень здесь понравилось, и он надеялся, что, может быть, еще вернется сюда как-нибудь, и выпьет лимонада, и, может, даже наберется храбрости и попросит кирию Контомарис открыть шкаф, чтобы получше рассмотреть солдатиков, а то и потрогать их.
Дальше на этой улице стояло здание на несколько столетий моложе резиденции главы острова. Оно обладало резкими простыми очертаниями, но его линиям очень не хватало классической эстетики дома, из которого они только что вышли. Это строение было амбулаторией и следующим пунктом их прогулки.
Приезд Элени и Димитрия совпал с одним из тех дней, когда с материка приезжал врач. Это нововведение, как и само строительство медицинского учреждения, было заслугой Петроса Контомариса, долго добивавшегося улучшения медицинского обслуживания прокаженных. Первым барьером, который пришлось преодолеть в переговорах с властями, было выделение денег на строительство амбулатории. Дальше необходимо было убедить власти, что осмотрительный доктор вполне может посещать больных и помогать им, не рискуя заболеть сам. Теперь по понедельникам, средам и пятницам из Айос-Николаоса должен был приезжать врач.
Доктором, взявшим на себя дело, которое многие его коллеги считали опасным и бессмысленным, стал Христос Лапакис. Это был бодрый краснолицый человек в возрасте слегка за тридцать, его в равной мере любили и сотрудники кожно-венерологического отделения госпиталя, и пациенты со Спиналонги. Солидный объем доктора говорил о большом жизнелюбии, которое отражало его убеждение в том, что у человека есть только здесь и сейчас, поэтому следует от души наслаждаться этим. Его респектабельную родню в Айос-Николаосе беспокоило то, что он продолжал оставаться холостяком. Христос Лапакис отлично понимал, что его перспективы на брак не улучшатся оттого, что он взялся за работу в колонии прокаженных. Впрочем, его это не слишком беспокоило. Он честно делал свое дело и радовался тем переменам, пусть и весьма ограниченным, которые мог внести в жизнь этих бедняг. Лапакис твердо верил в то, что никакой загробной жизни не существует и второго шанса человеку не дано.
Во время своих визитов на Спиналонгу доктор Лапакис обрабатывал раны и болячки и давал пациентам советы относительно того, какие дополнительные меры предосторожности они должны предпринимать, какие физические нагрузки для них допустимы. Когда появлялись новые люди, он всегда проводил полное обследование. Введение Докторских дней, как стали называть это в островной общине, способствовало духовному подъему и помогло улучшить состояние многих страдальцев. Доктор постоянно подчеркивал важность чистоты, соблюдения санитарных правил и физиотерапии, это помогало больным вставать с постели по утрам с чувством, что они не просто поднимаются на ноги, чтобы подвергнуться дальнейшему разложению, но делают что-то ради продления жизни.
Доктор Лапакис был потрясен, когда впервые прибыл на Спиналонгу и увидел, в каких условиях живут многие больные лепрой. Он знал, что для них чрезвычайно важно содержать язвы в чистоте, но в те дни он обнаружил в людях нечто вроде полной апатии. Их чувство заброшенности было катастрофическим, а психологическая травма, причиненная переселением на остров, оказалась куда тяжелее, чем физические проблемы, причиняемые болезнью. Многие просто утратили интерес к жизни. Да и как иначе? Жизнь ведь буквально истекала из них.
Христос Лапакис лечил и умы, и тела этих людей. Он твердил им, что всегда остается надежда, что они никогда не должны сдаваться. Он был властен, а иногда и грубоват. Он мог сказать:
– Ты же умрешь, если не будешь промывать свои язвы!
Доктор Лапакис был прагматичен, он бесстрастно сообщал людям правду, но при этом не скрывал, что его это беспокоит. И он был практичен, точно объясняя больным, как именно они должны сами заботиться о себе.
– Вот так ты должен промывать язвы, – говорил он, – а вот так должен тренировать руки и ноги, если не хочешь потерять пальцы на них.
Говоря все это, доктор показывал необходимые упражнения. Он заставил всех осознать жизненную важность чистой воды. Вода была самой жизнью. А для них – разницей между жизнью и смертью. Лапакис очень поддерживал Контомариса и оказывал ему всевозможную помощь в организации водоснабжения острова, что смогло изменить и остров, и прогноз для многих живших там людей.
– Здесь у нас больница, – сообщила Элпида. – Ну, на самом деле амбулатория. Доктор Лапакис ждет вас. Он как раз закончил осматривать постоянных пациентов.
Элени и Димитрий очутились в прохладном и белом пространстве, точно какой-нибудь склеп, и сели на скамью, что тянулась по одну сторону комнаты. Ждать долго им не пришлось. Доктор вскоре вышел и поздоровался с ними, он по очереди осмотрел женщину и мальчика. Они показали ему пятна на своих телах, и доктор внимательно их изучил, рассматривая обнаженную кожу и ища признаки развития болезни, которые сами больные могли еще не заметить.
У побледневшего Димитрия имелось несколько крупных сухих пятен на спине и ногах, говоривших о том, что пока болезнь не слишком сильно поразила мальчика, пребывая в «туберкулезной стадии».
А вот вроде бы некрупные, но блестящие пятна измененной кожи на ногах Элени Петракис встревожили доктора Лапакиса куда сильнее. Можно было не сомневаться в том, что у женщины развивается куда более опасная лепроматозная проказа, или бугорковая лепра. Это говорило о том, что женщина заболела достаточно давно, задолго до того, как появились первые признаки.
«У мальчика все не слишком плохо, – размышлял Лапакис. – Но вот эта бедняжка не заживется на острове». Однако на лице его не отразилось ни малейших намеков на то, чт именно он обнаружил.
Глава 5
Когда Элени отправилась на Спиналонгу, Анне было двенадцать, а Марии – десять. Гиоргису теперь предстояло одному справляться и с домашними делами, и, что куда более важно, с задачей воспитания дочерей без матери. Из двух девочек у Анны был более трудный характер. Она всегда была шумной и беспокойной, вплоть до полной неуправляемости, – и это еще до того, как научилась ходить, а уж с того дня, как родилась ее младшая сестра, Анна стала просто неистовой. И Гиоргиса ничуть не удивило, что теперь, когда Элени уехала, Анна тут же яростно восстала против домашних правил, отказываясь принять на себя материнские обязанности только потому, что она была старшей из двух сестер. И весьма доходчиво объяснила это отцу и сестре.
Мария же обладала мягкой натурой. И поскольку из-за характера сестры им с отцом трудно стало жить под одной крышей, Мария взяла на себя роль миротворца, хотя ей частенько приходилось подавлять в себе инстинктивную реакцию на агрессию Анны. В отличие от Анны Мария не находила домашнюю работу унизительной. Она была практичной от природы, с радостью помогала отцу делать уборку и готовить, за что Гиоргис мысленно благодарил Бога. Как большинство мужчин его поколения, он умел штопать носки не лучше, чем летать над землей.
В глазах окружавшего их мира Гиоргис был человеком молчаливым. Даже бесконечно долгие одинокие часы в море не вызывали в нем жажды разговора, когда он сходил на сушу. Ему нравился звук тишины, и когда он проводил вечер за столиком кофейни, что было скорее правилом для зрелых мужчин, чем проявлением какой-то социальной активности, Гиоргис продолжал помалкивать, слушая, что говорят люди вокруг него, точно так же, как в море он слушал плеск волн о борта его лодки.
Родные знали, какое у Гиоргиса доброе сердце и как нежен он с близкими, но случайные знакомые находили его необщительность почти враждебной. Те же, кто был знаком с ним поближе, видели в его поведении отражение тихого стоицизма, качества, которое теперь помогало Гиоргису выжить и держаться, хотя обстоятельства его жизни трагически изменились.
Жизнь и прежде нечасто радовала Гиоргиса. Он был рыбаком, как и его отец и дед до него, так же, как они, возмужал и внешне очерствел за долгие часы, проведенные в море. Обычно это было просто долгой бездеятельностью ожидания, но иногда длинные темные ночи напролет приходилось бороться с яростными волнами, и в такие моменты рыбаку постоянно грозила опасность того, что море может взять свое и поглотить его раз и навсегда. Жизнь критского рыбака протекала в деревянном каике, но он никогда не требовал большего. Для него это была судьба, а не выбор.
За несколько лет до того, как на остров отправилась Элени, Гиоргис немного увеличил свои доходы, взявшись доставлять припасы на Спиналонгу. Теперь у него была лодка с мотором, и он мог отправляться туда каждую неделю с полными ящиками необходимых вещей, которые оставлял на причале, откуда их забирали больные лепрой.
В первые дни после отъезда Элени Гиоргис боялся даже на мгновение оставить дочерей одних. Их горе как будто нарастало и нарастало, но Гиоргис знал, что рано или поздно они сумеют приспособиться к новой жизни. И хотя добрые соседи приносили им еду, Гиоргису все равно приходилось заставлять девочек поесть. Как-то вечером, когда он столкнулся с необходимостью самому приготовить ужин, его горестная беспомощность у плиты заставила Марию улыбнуться. Но Анна лишь насмехалась над усилиями отца.
– Я это есть не буду! – закричала она, бросая вилку в тарелку с бараньим рагу. – Это даже голодный зверь не стал бы есть!
С этими словами Анна зарыдала и в десятый раз за день выскочила из комнаты. Она уже третий вечер подряд не ела ничего, кроме хлеба.
– Ничего, проголодается – станет не такой упрямой, – беспечно сказал Гиоргис Марии, которая терпеливо жевала пережаренное мясо.
Они сидели за столом друг против друга. Разговор не клеился, и молчание лишь подчеркивалось случайным постукиванием вилок по тарелкам, да еще звуками приглушенных рыданий Анны.
Но потом пришел тот день, когда девочкам нужно было вернуться в школу. И это подействовало как некие чары. Как только их умам нашлось на чем сосредоточиться, кроме отсутствия матери, горе стало утихать. Это был также день, когда Гиоргис должен был снова направить свою лодку в сторону Спиналонги. Со странной смесью страха и радостного волнения в душе он пересек узкую полосу воды. Элени не могла знать о его приезде, и нужно было как-то ей сообщить об этом. Но на Спиналонге новости распространялись быстро, и еще до того, как Гиоргис успел привязать лодку к столбику причала, Элени появилась из-за угла огромной стены и замерла в тени.
Что они могли сказать друг другу? Что могли сделать? Им нельзя было коснуться друг друга, хотя так отчаянно этого хотелось. Вместо этого они просто окликнули друг друга по имени. Это были слова, которые звучали прежде тысячи раз, но сегодня слоги показались просто шумом, не имеющим смысла. И в это мгновение Гиоргису захотелось больше не приезжать сюда. Он похоронил жену еще на прошлой неделе, а она все равно была здесь, такая же, как всегда, живая и любимая, и это лишь добавляло невыносимой боли к их неизбежной разлуке. Ему ведь скоро нужно покинуть остров, повернуть лодку к Плаке. И каждый раз, когда он будет приезжать сюда, им предстоит новое болезненное расставание. На душе у Гиоргиса было тяжело, и на какое-то мгновение ему захотелось, чтобы оба они поскорее умерли.
Первая неделя, проведенная Элени на острове, была занята делами и пролетела куда быстрее, чем для Гиоргиса, но когда ей сказали, что его лодку уже видно, он направляется сюда, – все ее чувства как будто взбунтовались. С момента приезда сюда Элени постоянно хлопотала, и этого было достаточно для того, чтобы отвлечь мысли от бесконечных перемен, случившихся в ее жизни. Но вот теперь перед ней стоял Гиоргис, его глубоко сидящие зеленые глаза смотрели на нее, и в мыслях у Элени осталось только одно: как сильно она любит этого могучего, широкоплечего человека и как ей бесконечно больно оттого, что их разлучили.
Они почти официально поинтересовались здоровьем друг друга, Элени расспросила о девочках. Но что Гиоргис мог ответить, если ее вопрос лишь высветил перед ним пока что скрытую истину? Рано или поздно девочки привыкнут ко всему, Гиоргис это знал, и тогда он сможет честно сказать ей, что с ими все в порядке. А сегодня на вопрос Элени он мог ответить только другим вопросом.
– Как здесь вообще? – Он кивнул в сторону огромной каменной стены.
– Не так ужасно, как можно было подумать, и вроде бы дела должны вскоре наладиться, – ответила Элени с такой убежденностью и твердостью, что Гиоргис почувствовал, как слезы на мгновение отступили от его глаз. – Нам с Димитрием дали домик на двоих, – сообщила Элени, – и он вроде нашего дома в Плаке. Может быть, попроще, но мы постараемся все обустроить. У нас есть дворик, так что следующей весной мы сможем завести садик, посадить всякие травы, если ты привезешь мне семян. И у крыльца растут розы, они сейчас в цвету, а скоро и мальвы зацветут. Так что и вправду все совсем неплохо.
Гиоргис ощутил некоторое облегчение, услышав ее слова. А Элени уже достала из кармана сложенный лист бумаги и протянула ему.
– Это для девочек? – спросил Гиоргис.
– Нет, – чуть смутившись, откликнулась Элени. – Я подумала, что для письма еще рановато, напишу, когда ты приедешь в следующий раз. Это список вещей, которые нам тут необходимы.
Гиоргис отметил это «нам», и его кольнуло ревностью. Когда-то «мы» означало Анну, Марию и его самого, подумал он. А потом возникла и более горькая мысль, которой Гиоргис тут же и устыдился: теперь «мы» означает ненавистного ребенка, из-за которого у них забрали Элени. А «мы» его семьи больше не существовало. Семья была разорвана пополам и поделена по-другому, и ее каменная надежность сменилась такой хрупкостью, что Гиоргис едва осмеливался о ней думать. Ему трудно было поверить, что Господь их оставил. Вот только что он был главой семьи, а в следующее мгновение превратился в мужчину с двумя дочерьми. Эти два состояния были так же далеки друг от друга, как две планеты в пространстве.
Гиоргису пора было отправляться обратно. Должны вернуться из школы девочки, и он хотел быть дома к их приходу.
– Я скоро вернусь, – пообещал он. – И привезу все, что тебе нужно.
– Давай кое о чем условимся, – попросила Элени. – Лучше нам не говорить «до свидания». В этих словах на самом деле нет смысла.
– Ты права, – согласился Гиоргис. – Свиданий у нас не будет.
Они улыбнулись и одновременно повернулись в разные стороны, Элени к темному проходу в высокой стене венецианской крепости, а Гиоргис – к своей лодке. И ни один из них не оглянулся.
В следующий раз Элени написала письмо, и Гиоргис привез его девочкам, но в ту секунду, когда отец протянул им конверт, нетерпение Анны взяло верх, и она так рванула письмо из его руки, что оно разорвалось пополам.






