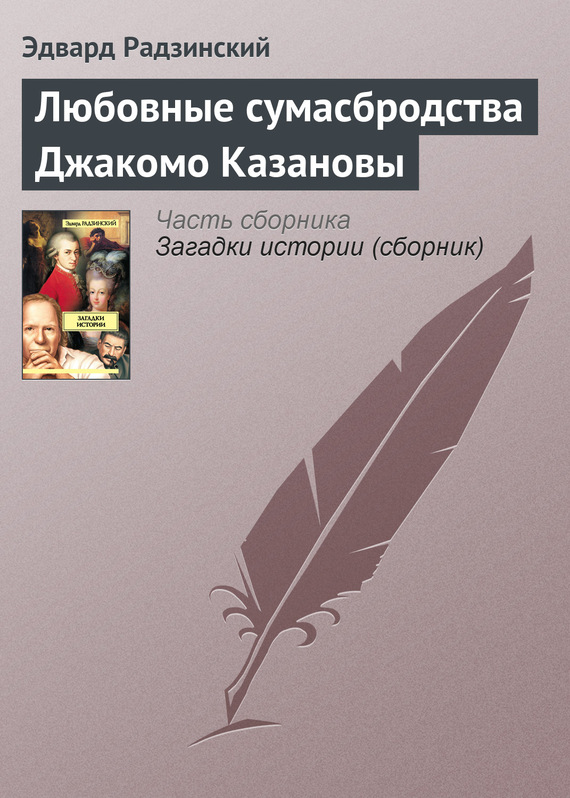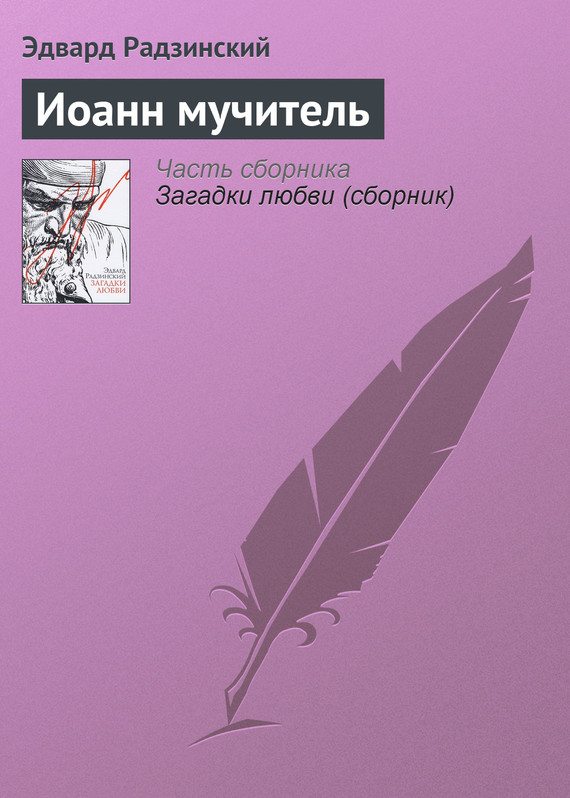Дайте им умереть Олди Генри

Смуглое лицо девочки не выражало ничего.
Совсем ничего.
Глава третья
Хаким[12]
- Лежит человек, сну доверясь,
- лучом, перерубленным дверью.
- А вена похожа отчасти
- на чей-то неначатый путь.
- И тихо в районе запястья,
- как цель, пробивается пульс.
…Избитая до крови степь грохотала, качаясь и подпрыгивая под копытами коня, впереди стремительно росло и надвигалось облако пыли, в глубине его солнечными вспышками то и дело сверкала сталь, темные силуэты всадников сшибались с оглушительным лязгом, криками и ржанием, кто-то кулем тряпья валился под копыта, кто-то вырывался из пыльного пекла, чтобы тут же нырнуть обратно: рубить, колоть, резать – убивать или быть убитым.
Но думать об этом уже было некогда, потому что стена бурой пыли скачком придвинулась вплотную, и в полированном лезвии тяжкого эспадона-двуручника (старая лоулезская ковка, прадедовский меч!) на миг отразилось перекошенное яростью лицо – ЕГО лицо с развевающейся гривой льняных волос. Высверк стали со свистом рассек воздух, и еще раз – слева, справа; кособоко валится наземь разрубленный до седла кочевник в мохнатом малахае-треухе, так и не успевший достать кривой саблей обманчиво неповоротливого гиганта, беловолосого гуля-людоеда. Становится тесно, он едва успевает рубить фигуры в удушливой пелене – рубить коротко, почти без замаха, ворочаясь в седле поднятым медведем-шатуном, снося подставленную под удар саблю вместе с частью плеча, отсекая бестолково топорщившиеся железом руки. Кажется, он что-то кричал, когда очередной клинок, устремившийся к нему, легко переломился в выгнутом бараньими рогами захватнике эспадона; получив наконец пространство для настоящего размаха, он очертил вокруг себя плоский круг, подбросив к небу выпучившую глаза голову в мохнатой шапке, чужую зазевавшуюся голову, кусок мертвой плоти – и на миг запнулся, увидев совсем рядом знакомого воина в сияющем даже под пылью доспехе, в прорезном шлеме, в латных рукавицах (в правой – он знал это! – не было руки, но именно в деснице воин сжимал прямой меч-цзянь по прозвищу Единорог).
Вознеся над собой эспадон Гвениль в традиционном приветствии, он еле успел опомниться, сообразить, где он и кто он, – в лицо брызнуло горячим и красным: зацепили все-таки, ублюдки Хракуташа!
– Лоул и лорды! Н-на!..
Ответный удар двуручника, неотвратимый подобно рушащейся скале, расколол…
Словно подброшенный невидимой пружиной, он резко сел в кровати, закашлялся, давясь чужим хрипом, – и проснулся.
Сон. Всего лишь сон!
Но еще минуту назад жизнь была ослепительно реальна – тяжесть меча в бугрящихся мускулами обнаженных руках, искаженный белогривый лик, мимолетно отразившийся в полированном лезвии, гибнущие враги, резкая боль от случайного пореза, соленый привкус на губах…
Рашид тяжело вздохнул и почесал живот.
Неприятно обозначившееся в последнее время брюшко, словно дразнясь, оттопыривало пижаму.
Переел на ночь, что ли?
Иногда ему, скромному учителю истории, очень хотелось быть таким, как беловолосый гигант во сне, но… каждому – свое, как говаривал пророк Зардушт. Рашид аль-Шинби по праву считался отличным специалистом в области истории средних веков, от становления Кабирского Эмирата и до первой трети позапрошлого века, когда распухшая от непомерных завоеваний туша Империи начала трещать по швам и распадаться. Через тридцать лет, после многочисленных локальных конфликтов между самозваными эмирами, столицу перенесут в Дурбан, подпишут пакет соглашений с Кименой и Лоулезом (а потом и с остальными, вплоть до Ритунских островов) о невмешательстве во внутренние дела; окончательно получит международное признание упрямый Мэйлань, тут же затеяв кровавую возню с рвущимся на свободу Верхним Вэем, – впрочем, у бывшего эмирата обнаружится свой Верхний Вэй, именуемый Малым Хакасом…
Но это уже новая история.
И у нее другие специалисты.
Аль-Шинби прекрасно разбирался в холодном оружии, в тактике ведения конного и пешего боя, в защите и осаде крепостей – но из первой секции «рукопашки», куда он пытался записаться еще в детстве, Рашида выгнали, как «бесперспективного»; из второй он ушел сам, не выдержав жестокости изнурительных тренировок и ненавидя себя за это; а тайная попытка лично воспроизвести подсмотренный на гравюре прием работы с алебардой привела к тому, что Рашид чуть не остался без ноги – длинный шрам на голени ныл на погоду до сих пор.
Так что Рашид в конце концов раздумал становиться похожим на героя древности и занялся тем, что у него действительно получалось: историческими исследованиями.
Каждому – свое; пророк Зардушт был прав.
Теперь хаким Рашид если и брал в руки один из хранившихся в дурбанском музее мечей – то с предельной осторожностью и лишь с единственной целью: снять размеры со старинного оружия, сделать несколько снимков в разных ракурсах или перерисовать в рабочую тетрадь загадочные руны, покрывающие клинок.
И упаси Творец, никаких выпадов или лихих рубящих взмахов! Собственные ноги дороже… да и экспонат испортить боязно, что ни говори.
Но наедине с собой хаким Рашид частенько переставал быть уважаемым специалистом и становился хилым неуклюжим мальчишкой, которого мучают все классические комплексы. Господи, Творец-с-сотней-имен, до чего же иногда хочется почувствовать себя не заплесневелым книжным червем, а настоящим мужчиной, который сидит в седле как влитой, одним ударом тяжелого меча перерубает древесный ствол толщиной в руку, который может, не поморщившись, осушить жбан крепкого кименского хереса, которого любят женщины (конечно, имеется в виду мужчина, а не херес)…
В конце концов, ему ведь всего тридцать два! Еще не поздно, еще есть время опомниться, похудеть, бросить курить… Но, бередя застарелые язвы, в глубине души Рашид аль-Шинби сознавал: мечтам суждено навсегда остаться мечтами.
И все же – нынешний сон… Вот как надо снимать фильмы! Это вам не дурацкий бесконечный сериал «Железная Рука» о Чэне-в-Перчатке!
К вящему стыду, Рашид согласился в свое время участвовать в подготовке этого, с позволения сказать, «шедевра» в качестве консультанта-историка. Тогда молодой выпускник Государственного университета фарр-ла-Кабир, собиравший материал для диссертации на тему «Смута Маверранахра и упадок рода Абу-Салим», был не только польщен и обрадован подобным предложением: он искренне надеялся, что получится дельная историческая картина, и стремился внести посильную лепту в благородное дело…
А что вышло?!
Ведь заранее же было известно, дорога в какое неприятное место вымощена благими помыслами…
Киношники внимательно выслушивали многочисленные замечания юного энтузиаста, листали принесенные им альбомы, даже делали какие-то пометки в своих блокнотах, благодарили, руку жали… А когда Рашида пригласили на просмотр первых двух серий, он чуть не упал со стула при виде разросшегося вдвое против реальных размеров Единорога (временами у крестовины меча открывался светящийся глаз, моргал и изрекал всякую чушь лязгающим фальцетом), ОСТРОГО четырехгранника-Дзюттэ за поясом у КРАСИВОГО шута Друдла и перекачанного дебила-блондина, вертевшего бутафорский двуручник-эспадон, как бамбуковую палку!
Рашид был так расстроен и возмущен, что поспешил оставить просмотровый зал, забыв потребовать, чтобы его фамилию убрали из титров.
В результате там она и осталась, исправно кочуя из серии в серию под тенорок, гнусавящий за кадром: «Не возда-а-ам Творцу хулою…»; и когда аль-Шинби видел свое имя на экране (или получал по почте мизерный, но регулярный гонорар), у него всякий раз багровели уши.
Хаким прикрыл глаза и вновь ощутил тяжесть меча в руках, услышал хруст ломающейся в захватнике вражеской сабли…
Захватник!
У меча, что лежал под стеклом в дурбанском историческом музее, у изрядно подпорченного ржавой коростой эспадона, идеей реставрации которого Рашид болел последние полгода, захватник был обломан; и аль-Шинби все не удавалось выяснить, какую форму тот имел, когда еще был на месте.
Теперь он знал!
Круто загнутые, короткие и прочные «бараньи рога» с отсутствием заточки по иззубренной внутренней дуге. Сам видел… во сне. Сегодня занятий в мектебе[13] у него нет – надо непременно сходить в музей: проверить, сделать кое-какие замеры, наброски… Опять же он обещал Лейле навестить девушку «в ее одиночестве» – прекрасная возможность совместить приятное с полезным.
С этой мыслью Рашид аль-Шинби выбрался из кровати и зашлепал в ванную, на ходу расстегивая пижаму.
Первые, еще мягкие лучи ослепительного южного солнца позолотили купола минаретов и антенны на крышах высотных домов – день понемногу вступал в свои права.
Непривычная пустота в правой руке остановила Рашида возле самого входа в музей. Ну конечно, его портфель вместе со всеми бумагами, рабочей тетрадью и миниатюрным фотоаппаратом «Око-3м» остался в учительской, в мектебе. Вот растяпа!
Рашид почесал в затылке, грустно вздохнул и решил прекратить самобичевание: раз уж он дошел до музея, следует зайти внутрь, а съездить в мектеб за портфелем можно и попозже.
И аль-Шинби неспешно поднялся по истертым ступеням двухэтажного особняка – памятника старины, который столичные власти восемь лет назад отвели под исторический музей, миновал ряд колонн, испещренных выбоинами еще от мушкетных пуль, и потянул на себя массивную ручку-грифона, открывая трехстворчатую дверь красного дерева.
Всякий раз, когда он делал это, ему казалось: там, за дверью, замерло в коме прошлое, и стоит только найти способ реанимации, сбрызнуть недвижное тело живой водой…
Швейцар, несмотря на ранний час, восседавший за конторкой, почтительно поздоровался с «господином хакимом» – Рашида в музее знали все, от директора до уборщиц. Он работал тут не первый год, параллельно с преподаванием собирая материалы для докторской диссертации. За это время с помощью аль-Шинби был отреставрирован десяток ценнейших экспонатов, составлен новый каталог собрания музея; так что «господин хаким» имел не только право свободного входа в музей в любое время суток, но и неограниченный доступ как к витринным экспонатам, так и к обширным запасникам.
Остроглазой Лейлы, дипломницы университета ош-Дурбани, учившейся на реставратора и подрабатывавшей смотрительницей в музее, не оказалось в закрепленном за ней третьем зале – то ли задержалась, то ли выскочила за сигаретами.
Пунктуальностью старого швейцара Лейла не отличалась, зато имела массу других достоинств.
Улыбаясь невесть чему, Рашид постоял некоторое время перед узкой застекленной витриной, похожей на хрустальный гроб из сказки: в таких положено покоиться всяким Спящим Красавицам. Но вместо красавицы на алом бархате лежал изрядно проржавевший эспадон (несомненно, родовое оружие кого-то из лордов Лоулеза!) с обломанным захватником и частью крестовины. На рукояти сохранились изъязвленные временем фрагменты накладок из слоновой кости, украшенные резьбой, и Рашид надеялся рано или поздно восстановить весь рисунок, а теперь, после удивительного сна – чем Иблис не шутит, когда Творец спит! – и захватник с гардой! Останется аккуратно снять ржавчину, заново отполировать и запассивировать металл – и будет эспадон, в шутку прозванный Гвенилем в честь полусказочного двуручника, как новенький! Ну, не совсем, но все-таки не очень старенький; припадет губами к клинку великий воин Брюхач аль-Шинби, и очнется меч от забытья, аки красавица во гробе горного хрусталя…
Историк вновь обругал себя за забывчивость; однако сейчас, в рабочее время, вынимать меч из витрины все равно бы никто не дал. Рашид немного успокоился, пообещав самому себе обязательно вернуться вечером, и неторопливо побрел из зала в зал, разглядывая по пути давно знакомые экспозиции.
Впрочем, на живую историю Эмирата он мог смотреть часами, всякий раз выгрызая новые мелочи из старой скорлупы: это качество успело принести аль-Шинби определенную известность в ученых кругах.
В ближайших залах экспонировались знамена и штандарты: Падающий Орел[14] на зеленом поле – эмирские стяги фарр-ла-Кабир; белоглавая вершина Сафед-Кух на черни – хоругвь хакасского рода Чибетей; голенастые драконы и ровные столбики иероглифов – Мэйлань и Верхний Вэй; серебристые лилии россыпью по треугольному щиту – Лоулез; бунчук о семи хвостах и рогатый череп на древке – Шулма; и дальше, дальше…
Дальше он не пошел.
Сделав небольшой круг, хаким вернулся в третий зал, где были выставлены превосходное холодное оружие и на удивление корявые доспехи эпохи Смуты Маверранахра – начала Огненного Века.
Лейла была уже там, с мягкой улыбкой поднявшись навстречу Рашиду со скамеечки в углу. В зале, кроме них, никого не было, так что почтенный хаким позволил себе перестать быть почтенным и обнял просиявшую девушку. «В плен я взят врагом коварным, в душный сладкий плен – что там дальше?.. Трам-пам-пам, тирьяри-яри, и не встать с колен! Эх, стихи стихами, а махнуть бы сейчас рукой на все, завалиться в ее каморку, запереться там и…» Увы, Лейла осторожно высвободилась, в ответ на недоуменный взгляд Рашида указав глазами куда-то ему за спину.
Историк обернулся.
Возле витрины с эспадоном стоял не замеченный им угловатый подросток, несмотря на жару почему-то завернувшийся в тяжелую шаль с бахромой. Мальчишка явно был поглощен созерцанием двуручного меча, игнорируя чужие поцелуи.
Лишь через несколько секунд до Рашида дошло, что никакой это не мальчишка, а девчонка лет двенадцати; более того, он видит ее здесь далеко не в первый раз, все чаще – у витрины с предполагаемым Гвенилем.
– Твоя знакомая? – шепотом, чтобы не нарушить благоговейную тишину, царившую в музее, поинтересовался историк у Лейлы.
– Просто девочка, – также шепотом ответила студентка. – Является регулярно, а в последнее время зачастила прямо с утра – вижу ее каждую неделю, если не чаще. Приходит – и стоит перед единственной витриной. Иногда час, иногда два. Бывает, что по залу бродит – только по этому. Странная какая-то…
Рашид ласково погладил Лейлу по плечу и шагнул к девочке.
– Что, оружием интересуешься? – весело спросил он. – Этот меч называется… – Хаким осекся, напоровшись на острый укоризненный взгляд, словно с разгону налетел на спицу. Так смотрят на случайного прохожего, потревожившего тебя на кладбище, когда ты стоишь у могилы кого-то из близких.
Или на бодрячка-доктора, когда ты проведываешь умирающего деда в доме для престарелых.
– Извини… – пробормотал Рашид, спеша отойти.
Девочка снова повернулась к витрине и застыла в почетном карауле, а историк вернулся к ожидавшей его Лейле.
– Я зайду вечерком? – заговорщицки прошептал он девушке на ухо, одновременно без особого успеха пытаясь выбросить из головы взрослую укоризну во взгляде несовершеннолетней девчонки. – Хочу повозиться с Гвенилем… и не только с ним!
– Ни в коем случае! – лукаво улыбнулась Лейла, обеими руками взлохмачивая черные как смоль волосы, завитые снизу таким образом, что прическа походила на шлем. – Я сегодня допоздна, пожалуй, и ночевать здесь останусь. И так бедной девушке страшновато, так еще и малознакомый мужчина…
Это была их обычная, ставшая традиционной игра, неизменно заканчивавшаяся на маленьком, но весьма удобном диванчике – он стоял в выделенной Лейле подсобной комнатке музея.
Или в квартире Рашида, на широкой пружинящей кровати.
Аль-Шинби уже давно подумывал сделать Лейле предложение, но все как-то не решался, а девушка его не торопила, хотя явно ждала от хакима соответствующих слов.
«Может, сегодня. Или завтра», – в очередной раз замялся Рашид, понимая: непросто быть настоящим мужчиной, даже выпив предварительно жбан кименского хереса!
Поцеловав на прощание Лейлу, он заспешил к выходу из музея.
В любом случае сейчас следовало заехать в мектеб «Звездный час», где аль-Шинби, магистр истории и не последний человек в ученых кругах, преподавал историю средневековья ученикам старших и средних классов.
«Звездный час» по праву считался особенным мектебом.
Глава четвертая
Хабиб
- А хочется повыше,
- хоть чуть-чуть повыше,
- А хочется подальше,
- хоть чуть-чуть подальше,
- Ах, как же это вышло,
- как же это вышло?
- Ведь мы такого и
- не ожидали даже…
…Неизвестно, сколько суждено было Кадалю оставаться нищим энтузиастом, волшебником, неспособным наколдовать себе пару рубленых кебабов и стаканчик вина, если бы на его пути не возник Равиль ар-Рави – дородный громогласный красавец, обладатель густой черной бороды и хитрых глазок, при необходимости становившихся холоднее воды из горных потоков Бек-Неша; хозяин жизни, носящий безупречные дорогие костюмы – и аляповатые перстни с браслетами, единственным достоинством которых были размеры и вес; курящий лучшие дурбанские сигары «Дым отечества» – и стряхивающий пепел прямо на уникальный ковер тринадцатого века; человек с сомнительным прошлым, темным настоящим и, несомненно, светлым будущим.
Впрочем, люди, хорошо знающие Большого Равиля (а таких было немного; вернее, живых немного), полагали всю эту внешнюю мишуру не более чем ловко надетой маской.
Они были правы, знающие люди: и живые, и мертвые.
У Равиля ар-Рави была проблема: его двоюродный брат слишком полюбил тыкать себе иглой шприца в разные части тела, вместо того чтобы уделять внимание делам семьи; врачи оказались бессильны, убеждения – тщетны, а отрезать брата от источников зелья не мог даже Равиль. Особенно если учесть, что… хотя, пожалуй, не стоит учитывать личные обстоятельства семьи ар-Рави.
Себе дороже.
И тогда Большой Равиль обратился к Кадалю.
Каким образом один из шейхов «Аламута»[15], не первый год числившийся среди «горных орлов», вышел на скромного доктора, осталось неизвестным. Заявившись в небольшую квартирку Кадаля и упав в жалобно заскрипевшее под ним кресло, ар-Рави первым делом брезгливо стряхнул сигарный пепел в вазу с ломкими осенними астрами и заявил, что в гробу видал всяких колдунов-чудотворцев и прочих шарлатанов. Но сейчас у Кадаля появился шанс доказать обратное: если брат Равиля выздоровеет, то он, Равиль ар-Рави, будет готов немедленно уверовать в любую паршивую магию, Творца, шайтана, Восьмой ад Хракуташа и во все, что угодно господину Кадалю, плюс успешно подкрепит веру наличными…
В случае отказа у него, шейха Равиля, действительно возникнет повод увидеть господина доктора в гробу.
– Фото, – коротко бросил Кадаль в ответ на эту длинную тираду.
Равиль на мгновение опешил – он не ожидал столь делового ответа от мямли-докторишки, – и во взгляде «орла» промелькнуло нечто похожее на уважение.
– А теперь убирайтесь, – так же спокойно и сухо заявил Кадаль, получив десяток фотографий. – Можете прийти завтра, а лучше – через неделю, когда убедитесь сами, выздоровел ли ваш брат. Но имейте в виду – в моем доме пепел стряхивают в пепельницу.
И грозный Равиль молча ушел, даже не подумав перечить странному доктору, в котором недвусмысленно почувствовал дремлющую до поры силу.
Силу ар-Рави уважал.
Он вернулся через неделю, совершенно обалдевший: двоюродный брат в один день бросил колоться, и даже особой «ломки» у бывшего позора семьи не наблюдалось.
Аккуратная пачка казначейских билетов более чем солидного достоинства приятно удивила Кадаля, не привыкшего к высоким гонорарам. И когда искренне благодарный Равиль, долго жавший доктору руку, предложил стать его атабеком, то есть опекуном-покровителем, Кадаль недолго колебался. В конце концов, он будет делать то же самое, что и раньше. А если есть возможность получать за лечение хорошие деньги, почему бы ею не воспользоваться? Доктор Кадаль отнюдь не был святым – просто ему часто не хватало деловой хватки, – зато у Равиля последнее качество имелось в избытке.
Примерно через час новые партнеры ударили по рукам, и несколькими днями позже доктор Кадаль переехал в дорогой двухэтажный особняк, расположенный в самом фешенебельном квартале Западной Хины. Напротив, через дорогу, проживал хинский пайгансалар[16] с многочисленным семейством и сворой блудливых терьеров, а по левую руку возвышался дом господина сахиб-хабара[17], выстроенный городским архитектором по особому проекту. К счастью, сам Равиль обитал в том же квартале и быстро приучил заробевшего было Кадаля не теряться в высокопоставленной компании.
И уж тем паче не заикаться при каждом случайном «саламе».
Теперь люди Большого Равиля (Кадаль был далек от мысли, что его атабек занимается этим самолично) усердно подыскивали богатых клиентов, нуждающихся в услугах Кадаля, и приносили доктору фотографии «страждущих». Заказы в основном поступали не от самих больных, а от их состоятельных родичей, весьма довольных анонимностью лечения. Поначалу громилы-агенты тоже пытались принять участие в процессе, путано объясняя, как часто забивает косяки тот или иной обдолбай, но доктор всякий раз нетерпеливо обрывал:
– Не беспокойтесь, диагноз я поставлю сам.
Видимо, один из громил в конце концов удосужился разузнать, что значит страшное слово «диагноз», и поделился этой ценной информацией с товарищами. Или ар-Рави посоветовал «орлятам» не гадить в чужие гнезда – короче, больше люди Равиля не докучали доктору невразумительными пояснениями. А после восьмого удачного излечения к каждому комплекту снимков стал неизменно прилагаться внушительный аванс. Аналогичную сумму доктор получал через неделю после сеанса – когда состояние пациента уже не вызывало никаких сомнений.
Сколько навара имел сам Равиль, доктор Кадаль даже не представлял, да и не очень-то задумывался насчет доходов атабека. Иногда он по-прежнему лечил людей бесплатно. Теперь он мог позволить себе подобную роскошь – именно как роскошь, как легкую, необременительную филантропию. Однажды ар-Рави, пронюхав об этом по своим каналам, решил было вразумить Кадаля, но доктор посмотрел на разоравшегося атабека, как смотрел иногда на фотографию несимпатичного ему пациента, и «орел», с хрустом захлопнув клюв, плюнул на ковер и ушел.
А Кадаль задумался: впрямь ли однозначно его неумение влиять на человека при личном контакте?
Позже, успокоив нервы и пригласив доктора отобедать в дорогом ресторане, Большой Равиль с не свойственной ему деликатностью попросил, чтобы Кадаль хотя бы не распространялся о своей бесплатной практике. Если доктору по душе благотворительность – ради Бога, все не без греха, одни любят мальчиков, другие субсидируют музеи, но зачем же сбивать цены на свои услуги? Богатые клиенты этого не поймут.
Кадаль согласился, что атабек прав, выпил по поводу примирения бокал шербета и пообещал не афишировать случаи бесплатного лечения.
В общем, недоразумение было улажено, а вскоре между Кадалем и ар-Рави установилось нечто вроде своеобразной дружбы: оба безоговорочно признавали авторитет и незаурядные способности партнера в его области, но при этом симпатия Равиля носила легкий оттенок снисходительности к одаренному свыше, но абсолютно непрактичному «знахарьку», а Кадаль, в свою очередь, ценя деловую хватку и острый ум Равиля, относился к «горному орлу», как к большому ребенку, увлекшемуся опасной игрой и считавшему эту игру единственным смыслом жизни, что, по мнению доктора, было в корне ошибочно.
Но, независимо от нюансов, новые друзья хорошо ладили и были вполне довольны друг другом. Несколько раз они даже отдыхали вместе на курортах побережья Муала или в Озерном пансионате, расположенном в пригороде Дурбана на месте бывшего гарема правителя города.
Впрочем, любая из девочек, приезжавших по вызову в Озерный пансионат, могла дать сто очков форы гаремной наложнице по части умения ерошить мужчинам паховые перышки. Еще бы, девочки были дорогие, а наложницы – бесплатные…
Самое смешное: до сих пор, заходя в цирюльню или чайхану, Кадаль искренне боялся, что у него не хватит денег рассчитаться за стрижку или поджаристый лаваш. Динаров в кожаном портмоне достало бы завалить лавашами всю кладовку, а подстричь на эти деньги можно было бы целый хайль новобранцев – и вот поди ж ты!
Зато в присутствии Равиля доктор ловил себя на том, что начинает сорить деньгами.
Комплексы прошлого.
…Успешное сотрудничество друзей-партнеров продолжалось уже четыре года, но в последнее время кошки все чаще скребли на душе у Кадаля.
Теперь он хотел знать клички этих непрошеных кошек.
Доктор не догадывался, что для этого придется копаться на помойках бытия.
Взгляд скользил по мелким строчкам газетного шрифта, информация тонким, монотонно журчащим ручейком вливалась в мозг – и тут же падала в некий отстойник, минуя сознание, занятое сейчас совсем другим.
«Вооруженный маньяк застрелил из автоматической винтовки девять человек в центре Дурбана, после чего оружие взорвалось; преступник скончался на месте, не приходя в…»
Еще одно убийство-самоубийство – снова набитый песком ствол?!
Едва не перевернув кофе, доктор Кадаль порывисто вскочил и в два шага оказался у журнального столика, на котором лежала стопка старых газет недельной давности – хорошо, что прислуга не удосужилась их выбросить!
Нужные сведения буквально бросились в глаза: да, вот они – одно, два… и еще два случая подряд до боли знакомых самоубийств! Итого – пять. Столько же, сколько у Кадаля было пациентов с одинаковой манией! А ведь это неполные данные, причем только за последнюю неделю!
«И в трех случаях из пяти фигурируют револьверы марки «масуд»!» – отметил вдруг Кадаль. Возможно – совпадение, а возможно… Он не знал, что еще – «возможно». Возможно было все.
«Демон У меня побери! – обожгло доктора. – Неужели всю эту дрянь, кроме меня, никто не видит?! Или видит? Может, делом уже занялись соответствующие службы (Кадаль не очень представлял, какие именно службы в данном случае будут соответствующими) и я просто лезу не в свои шаровары? Только, во-первых, я еще никуда толком не влез, а во-вторых… похоже, влезу!»
Подойдя к телефону, он набрал номер Равиля. Шейха «Аламута» наверняка не было дома, но в последнее время ар-Рави всюду таскал с собой эту новомодную штучку – радиотелефон, так что Кадаль не сомневался: он сумеет вызвонить своего друга и атабека.
В кои-то веки доктору действительно понадобилась его помощь.
– Салам, Равиль… да, это я, Кадаль. Слушай, у меня к тебе просьба: скомандуй переслать ко мне в почтовый ящик… нет, не ящик, а… ну, телевизор с клавишами!.. точно! На мой КОМПЬЮТЕР все, какие найдешь, данные по Узиэлю ит-Сафеду… а что, есть еще один Узиэль, кроме теперешнего главы корпорации «Масуд»? Кончай ржать, я не собираюсь заняться промышленным шпионажем… да, естественно, именно официальные, доступные сведения, за которые не дают пожизненный зиндан! Сам? Я его боюсь, этот твой телевизор, а ты говоришь: сам… Что? Включить? Зачем? А-а, понял! Ладно, включаю и жду!.. Да, позвоню вечером или завтра. Ас-салам!
Загадочный ящик с кнопками и небольшим телеэкраном принялся злобно бурчать на доктора, изрыгая невнятные гадости и мигая целым созвездием лампочек. Кадаль поспешил отодвинуться подальше – он стыдился признаться, что до сих пор побаивается компьютера, называя его про себя детищем Иблиса. Однако Равиль убедил доктора, что чудо техники может пригодиться, и заставил взять несколько уроков обращения с подозрительным ящиком у застенчивого очкарика – последний, уходя, всякий раз с завистью косился на Иблисово детище и бормотал под нос: «Везет же…»
Кому именно везет и кому должно было бы везти, если бы в мире царила очкастая справедливость, паренек тактично замалчивал.
Только теперь доктор понял, насколько прав оказался ар-Рави, всегда старавшийся идти в ногу со временем. На обзвон специальных хранилищ, архивов и библиотек, поиск нужных материалов и корпение над ними у Кадаля уже просто не было времени – властная уверенность в этом не поддавалась логическому осмыслению, будучи сродни знакомому ощущению слияния с чужим мозгом. Сколько их оставалось, кругов часовых стрелок по циферблату неведомого? День? Два? Неделя? Месяц? Хорошо бы – месяц. Но вряд ли. События развивались стремительно и фатально, надвигаясь из-за грани невероятного; и НЕвероятное постепенно становилось МАЛОвероятным, а затем – и ВЕСЬМА вероятным, норовя под шумок стать ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМ. Что тогда? Человечество отыщет у себя висок, один на всех, и пустит в него пулю?
Предчувствие гигантским кракеном всплывало из потаенных, до сих пор скрытых от него самого глубин, – и Кадаль покорно внимал себе ДРУГОМУ, тому СЕБЕ, который знал куда больше обычного Кадаля, знал, пытался предупредить, никак не мог докричаться – и наконец-таки сумел: пусть не сам голос, но хотя бы отзвук, эхо дошло до сознания доктора, и теперь он просто не имел права отмахнуться от слабого отчаянного вопля из толщи души.
Доктор Кадаль боялся только одного.
Что боек уже ударил по латунному капсюлю, что неумолимая свинцовая оса в оболочке из нержавеющей стали начала свое короткое и плавное скольжение по нарезам ствола.
Что поздно отдергивать руку – все равно не успеть.
Поздно.
Он боялся этого – и отчаянно раздувал гаснущие угольки надежды.
Информация поступила через час, возвестив о себе радостным звяканьем в электронных недрах Иблисова детища.
Еще минут двадцать ушло у доктора на поиск пришедших файлов; следующие полчаса он выгонял их на экран, как измучившийся пастушонок гонит стадо разбредающихся овец. Но из первого раунда сражения с выкидышем прогресса Кадаль вышел победителем: на бледно-голубом экране все-таки высветилась надпись: КОРПОРАЦИЯ «МАСУД».
Далее шли рекламно-информационные разделы: история создания и развития; современное состояние; специализация; технико-экономические показатели и тому подобные сведения – безобидные, вполне годные для восприятия любым обывателем.
Немного освоившись и на ходу припоминая уроки очкастого завистника, Кадаль начал проглядывать раздел за разделом, забираясь во внутренние подкаталоги, испуганно выныривая из них, набирая в легкие воздуха и снова окунаясь в дебри цифр, фактов и терминов.
Если бы он еще знал, что ищет?!
Первый «звонок» прозвенел примерно часа через два – когда Кадаль, устав протирать слезящиеся от постоянного напряжения глаза, изучал раздел «специализация». Словно пуля-оса ударила в голову изнутри, разорвав пелену апатичного тумана, постепенно затягивавшую усталый мозг. И доктор внимательно вчитался в текст.
Зацепка?
То, что корпорация «Масуд» производила стрелковое оружие и в первую очередь знаменитые револьверы «масуд» 24-го, 38-го («ар-мушериф»), 45-го и 54-го калибров со множеством модификаций, было известно всем. Но, кроме револьверов и карабинов одноименной марки, «Масуд» производила также автоматическое оружие, бронетехнику, ракетные комплексы наземного базирования и артиллерию – это, пожалуй, оказалось для Кадаля новостью. Криминала тут не было ни на йоту – и тем не менее… Еще четыре известные оружейные фирмы вместе с принадлежавшими им заводами и конструкторскими бюро оказались фактически филиалами «Масуда»: корпорация, которую доктор считал просто ОДНИМ из крупнейших производителей оружия, на глазах превращалась в колоссального МОНОПОЛИСТА.
На всякий случай доктор Кадаль сходил в соседнюю комнату и еще раз сверился с газетами. Все совпадало: автоматический пистолет «гасан бен-гасан» и малокалиберный «шакал», из которых застрелились двое самоубийц последней недели, были изготовлены на дочерних предприятиях «Масуда». А это значило…
Ничего это не значило! Если почти все оружие в стране производится разросшейся амебой «Масуда», – информация законная, открытая и ни к чему не обязывающая, – то удивительно ли, что пятерка «маньяков суицида» застрелилась из пистолетов данной корпорации!
Но, с другой стороны, почему именно ЗАСТРЕЛИЛИСЬ – не повесились, не утопились, не зарезались, не выбросились из окна, не отравились газом или цианидом… мал ли арсенал возможностей свести счеты с жизнью?!
…Височная впадина лопается под напором – и содержимое твоего черепа, венец сотен веков эволюции, склизкими ошметками выплескивается…
Неужели ВСЕХ ИХ преследовал один и тот же кошмар?!
Остынь, дружище Кадаль! Копни статистику: наверняка окажется, что люди вешаются и травятся ничуть не реже, чем стреляются! Выбрось эту чушь из головы, занимайся своим делом: спасай тех, кого еще можно спасти, исправно получая соответствующий гонорар! А не способных рассчитаться с Равилем – в меру сил спасай бесплатно, как делал до сих пор.
И смотри на себя в зеркало, не отводя взгляда.
Доктор Кадаль грустно вздохнул и продолжил поиски, параллельно раздумывая над кандидатурой психиатра, который возьмется вылечить некоего Кадаля от паранойи.
Интересно, за какой гонорар?
Был уже вечер, когда он добрался наконец до раздела «Узиэль ит-Сафед: некоронованный король. Глава совета директоров корпорации «Масуд» об оружии и о себе».
Кадаль отхлебнул чуть горчащего тоника из высокого бокала, на минуту зажмурился, пытаясь восстановить изрядно севшее зрение, – и нажал «ввод».
На экране возникло очень качественное цветное изображение: представительный лысеющий мужчина лет сорока пяти, одет в серый кименский костюм с длинными фалдами пиджака-фрака, стоит и держит в руках новенький револьвер «масуд» 45-го калибра; и не то чтобы целится из него в камеру, но щурится так, как если бы целился. Револьвер Узиэль ит-Сафед держал любовно и твердо, словно сына-первенца, сопящего в коконе из теплых пеленок.
Было что-то ненормальное, противоестественное в нарочитости позы, в прищуре стальных (под цвет костюма? или это костюм под цвет?..) глаз генерального директора-оружейника, прицеливающихся в зрителя (или в оператора?) из сына-револьвера…
Доктор Кадаль задумчиво рассматривал детали снимка: иглы черных зрачков, длинные, почти девичьи ресницы, разбегающиеся во все стороны лучики морщинок, презрительные складки возле тонких губ… Взгляд доктора скользнул ниже, будто сорвавшись с кручи лица ит-Сафеда, и Кадаль вздрогнул: на него уставился еще один презрительный черный глаз – зрачок револьверного дула. В гнездах барабана отливали золотом блестящие головки пуль, и весь хищный абрис оружия, казалось, говорил: «Сейчас, сейчас дернется курок-коготь, и содержимое твоего черепа, венец сотен веков эволюции…»
Изображение внезапно поплыло, размазалось под кистью вечно пьяного ретушера, как всегда бывало при удачном контакте, и прежде чем провалиться в чужое сознание, доктор Кадаль успел обреченно подумать: «Вот и проверил. Значит, годятся не только фотографии…»
В следующее мгновение он был уже ТАМ.
Вокруг него и одновременно ВНУТРИ зыбко шевелились расплывчатые силуэты, напоминая готовящихся к схватке вэйских бойцовых рыбок-самцов; доктор никак не мог отследить их контуры, потому что и сам был одним из мерцающих призраков, но вместе с тем – ВСЕМИ ИМИ сразу! Искаженное до неузнаваемости сознание дробилось на немыслимое множество исчезающе малых частиц, чудом оставаясь целым, расплескавшись тонкой маслянистой пленкой по поверхности живого океана, в глубине которого шевелилась заточенная между солеными каплями нежить, не в силах прорваться на поверхность. Этот глубинный напор был древним, как само Время, его сила копилась давно, и сейчас тварь, стремившаяся разорвать сдерживающую пленку, была, как никогда, близка к завершающему рывку, к свободе, к ошметкам содержимого черепа, одного на всех… но – время еще не пришло. Скоро, уже скоро – но не сию минуту.
«Когда?!!» – не слыша самого себя, взвизгнул Кадаль, из последних сил цепляясь за остатки растаскиваемого в стороны «Я»; в ответ беспокойно заворочались зыбкие силуэты, словно дивясь неожиданному вторжению и пытаясь рассмотреть странного пришельца целиком, вместо того чтобы рвать его на части.
Окружающий Кадаля кошмар на миг замер, и какая-то неуловимая часть ЦЕЛОГО пришла в особое движение. Это было уже не общее хаотическое брожение – нечто двигалось целенаправленно, оно сопровождалось все усиливающимся пароксизмом боли, и Кадаль-организм знал неясным знанием: тайна рождается в муках, чтобы быть безжалостно выброшенной из материнского чрева в никуда, исчезнуть, кануть в небытие…
Внутренности чудовищного, состоящего из миллионов отдельных элементов безликого существа, которым в этот момент был Кадаль, обожгло огнем, и кричащий раскаленный зародыш вырвался на свободу, мгновенно умчавшись прочь, чтобы дрожь извращенного наслаждения-гибели пробежала по гигантскому организму, чтобы боль от вошедшей в нервный узел тупой и ржавой иглы сменилась блаженным чувством, подарком наркотической белены, что течет по венам, разрушая тело, давая взамен возможность забыться, отрешиться от предчувствия неизбежной боли, и от ее наступления, и от ухода, за которым следует новый виток спирали отчаяния и тоски – мука, проклятие, но без нее ты уже не можешь, не в силах представить свое существование…
Сладостный, мучительный экстаз разрушения и смерти!
Кадаль закричал, с усилием вырываясь из засасывающей трясины нечеловеческого кошмара, – и, судорожно глотая ртом воздух, вынырнул на поверхность.
Глава пятая
Азат
- Я открываю скрипучую дверь,
- я выхожу из тьмы.
- Я – это я,
- зверь – это зверь,
- мы – это мы.
– Пустите меня, я его р-резать буду!..
– Арамчик, миленький, сладенький!..
– Р-р-резать!.. От корня…
– Слушай, Арам, не кипятись, давай как мужчина с…
– Держите его! Соседушки, что ж вы попрятались?!
– Арамчик, родненький, ты его неправильно понял!
– Пр-равильно, сука! Р-резать…
Хор истошных воплей подбросил Карена на постели не хуже подъемного рожка, и опомнился бравый висак-баши только у окна, наскоро протирая заспанные глаза. Впрочем, единственное окно в комнате, выделенной новому постояльцу воинственной бабушкой Бобовай, выходило на другую сторону дома, и видеть из него можно было лишь трамвайную остановку и чахлый сквер за ней.
– Арамчик, я тебя люблю!
– Люби! Ты всех любишь, т-тварь!..
– Нож! Спрячь свой штырь, падла!
Дребезжащий трамвай вразвалочку подкатил к шаткому навесу, двое случайных прохожих стали помогать юной мамаше загрузить внутрь коляску с гукающим младенцем; но всего этого Карен уже не видел. Спешно натянув штаны, он, как был – взлохмаченный, голый по пояс, босой, – вымелся в темный коридор, чертыхаясь, больно угодил плечом в висящий на стене одноколесный велосипед, сослепу кинулся в первую попавшуюся дверь и вскоре оказался на балконе.
– Подобру ли спалось, гостенек? – как ни в чем не бывало осведомилась бабушка Бобовай, не отрывая горящего взгляда от происходящего внизу. Инвалидное кресло старухи подпрыгивало, отражая бурю чувств в бабушкиной душе, сама бабушка опасно напоминала престарелого коршуна хакасских скал, и Карен поразился прочности этого чудо-творения доморощенного механика из тупика Ош-Дастан.
Если сочетание разнокалиберных колесиков, алюминиевых трубок, дощечек и пластмассовых обрезков, именуемое инвалидным креслом, в состоянии выдержать темперамент полупарализованной бабушки…
А если кто-то и решит, что под чудо-творением и так далее имелось в виду отнюдь не кресло, а сама хозяйка Бобовай, то он тоже будет недалек от истины.
– Ах ты, чаушиный помет! Р-резать, тр-ребуху пороть…
– Иди себе умывайся, гостенек, это все ерунда, это Арам-солдат домой вернулся. Сейчас он бычка залетного подхолостит, коровище своей красоту наведет, отведет душеньку – и начнем всем тупиком столы накрывать. Я им долму сделаю, настоящую, с виноградным листом, со сметанкой чесночной… любишь долму, гостенек?
Карен понял, что с его стороны будет донельзя глупо запихивать старуху в комнату, слетать вниз по стене, цепляясь за виноградные лозы, и спасать непонятно кого от непонятно чего. Дитя кабирских закоулков, он прекрасно знал, что в таких домашних разборках больше всего достается непрошеным миротворцам, которые огребают двойную порцию тумаков. Поэтому висак-баши вздохнул, прокашлялся со сна, обеими руками пригладил волосы и, уже не торопясь, выглянул с балкона.
Напротив, у загаженной подворотни, прыгали два петуха и одна курица. Курица была, что называется, вся из себя и не только из себя: пышнотелая, с крашеными перьями, в ночной сорочке с многочисленными прорехами, и в блажном курином кудахтанье через слово мелькало «Арамчик», а через два – «миленький». При всем этом курица успела бросить оценивающий взгляд на полуобнаженного мужчину у перил балкона бабушки Бобовай, и многозначительное подмигивание чуть не заставило Карена попятиться – столько в простом движении век было страсти и женского голода.
В одном же из петухов было несложно признать Арама-солдата, несложно, даже будучи с ним абсолютно незнакомым, – старшинская форма уз-баши и сиреневые петлицы стройбата говорили сами за себя. Карен прекрасно знал, из кого вербуются строительные части, особенно дорожные, предназначенные для работы на износ в труднодоступных местах. Не зря армейские мушерифы регистрировали любой смертный исход в частях дорожников (а также среди населения в результате конфликта с агрессивными полууголовниками), как «вызванный естественными причинами».
Наверное, если бы ревнивый Арам поднял сейчас голову и увидел на балконе висак-баши, с нехорошей улыбкой поглаживающего длинный шрам на предплечье – зарубку на память об одной деликатной встрече, – то позаботился бы буян-Арамчик резво убраться куда подальше.
Но Араму было не до того.
Уж чего-чего, а попользоваться своим огнем он не давал никому, всячески норовя это продемонстрировать во всеуслышание и рассмотрение.
– Р-резать!
– Ах, значит так, ублюдок…
Второй петух резво отскочил в сторону, сверкнув фальшивыми перстнями и дутой золотой цепью на шее, и мигом подобрал увесистую штакетину. Ткнул ею в сторону Арама, почти сразу присел на волосатых ногах, смешно торчащих из цветастых трусов, ловко ударил с другого конца, норовя достать пах и прихватив штакетину посередине; завихлял кругом, загарцевал, вертя самозваное оружие и не отрывая глаз от Арамового ножа.
Неизвестно, видел ли он то, что видел Карен: армейский нож Арам держал щепотью, по-хаффски, даже когда перекидывал из руки в руку, так что из пальцев неизменно торчал только кончик бритвенно-острого лезвия; и петуху-гуляке грозили в худшем случае обильные порезы. Такие раны залечивают после всем двором, спрыскивая вином обиду и смытое легкой кровью оскорбление, а бывшие соперники хором проклинают слабых на передок баб и подвешивают курице по синяку с обеих сторон – ни дать ни взять печати на договоре двух уважаемых держав.
Карен покусал губу и собрался идти умываться.
– Тр-ребуху пороть… стер-рвень…
– Арам! Братан! Дай я его…
Цепкая старушечья лапка прихватила Каренов ремешок чище егерского крюка, и немедленно раздался властный крик бабушки Бобовай:
– Сдурел, Руинтан? Мозги в чаче утопил?! А ну брось ружье, ишак драный!
Руинтаном – по-дурбански «меднотелым» – оказался давешний бородач. То ли не удалось ему проспаться со вчерашнего, то ли успел он крепко добавить на рассвете, празднуя восход солнца, но вид у «меднотелого» был жалким. Его качало, он выходил из подворотни и все никак не мог выйти, за ним с меканьем тащилась взволнованная коза, по-прежнему привязанная к грязной щиколотке, и если бы не потрепанная двустволка у бородача в руках, то безобидней человека было бы трудно найти.
– Арам! Братан…
Карен понимал: не успеть. Оба ствола уже поднимались вверх, они плясали, дергались, не в силах сосредоточиться на блудливом петухе, но это было неважно, потому что один из стволов вполне мог отрыгнуть дробью или картечью, и тогда… Бабушка Бобовай отпустила ремешок Карена, скоренько пошарила в недрах кресла, и через секунду в ладонь висак-баши ткнулся кусок металла. Гнутый, клепанный с конца болт, с тяжелой граненой шляпкой, отполированный до блеска. И последнее, о чем Карену Рудаби, бывшему горному егерю, хотелось в эту минуту думать, так это о том, откуда болт взялся в инвалидном кресле старухи и какое предназначение выполнял.
– В голову цель, парень, – прошептала бабушка, и было в старушечьем голосе что-то, заставившее Карена вздрогнуть и оценивающе смерить расстояние между собой и бородачом. – В голову, милый… старая я, руки у меня… дрожат руки-то!..
Все произошло одновременно: слепящая молния дурацкого болта, совершенно не предназначенного для метания в пьяных бородачей, но тем не менее на удивление уравновешенного, – и похмельная судорога, заставившая корявый палец Руинтана дернуть спусковые крючки.
Двустволку неожиданно повело у него в руках, как идущий юзом грузовик по обледенелой дороге и сводящий на нет все попытки водителя совладать со взбесившейся громадой; грохот дуплета вышел сбивчивым, рокочущим, оба ствола лопнули, разворачиваясь удивительным цветком в лепестках огня и дыма, цветок взметнулся вверх, обласкав краем левую сторону лица Руинтана, – и в следующее мгновение исковерканное ружье полетело в одну сторону, а бородач в другую, получив в челюсть шляпкой любимого болта бабушки Бобовай.
А Карен уже несся вниз по возмущенно скрипящей лестнице.
– Ухо, – озабоченно пробасил бородач, садясь и неловко ощупывая голову. – Ухо мое…
– Тебе голову, пропойце, оторвать надо, а не ухо! – рявкнул Карен и только сейчас заметил, что левая половина бородищи Руинтана сильно обгорела, а по шее течет кровь.
– Голову надо, – покорно согласился неудачливый стрелок. – Надо голову, а оторвало ухо…