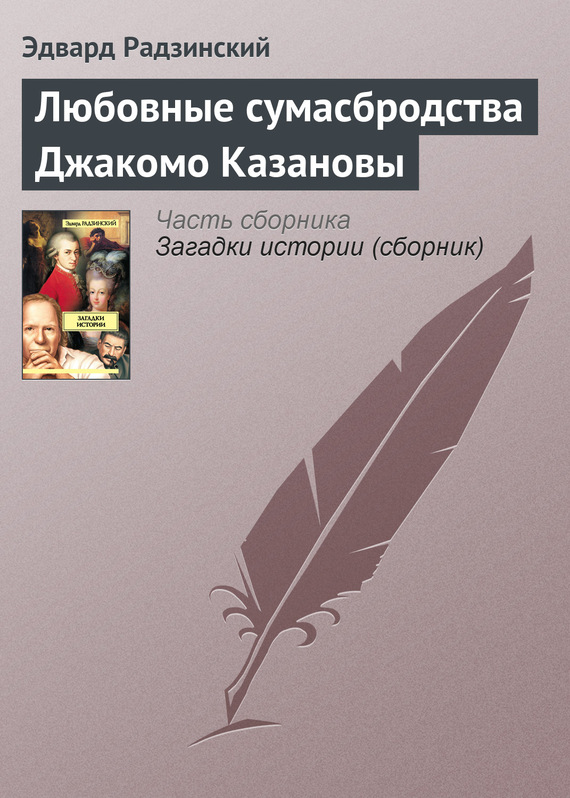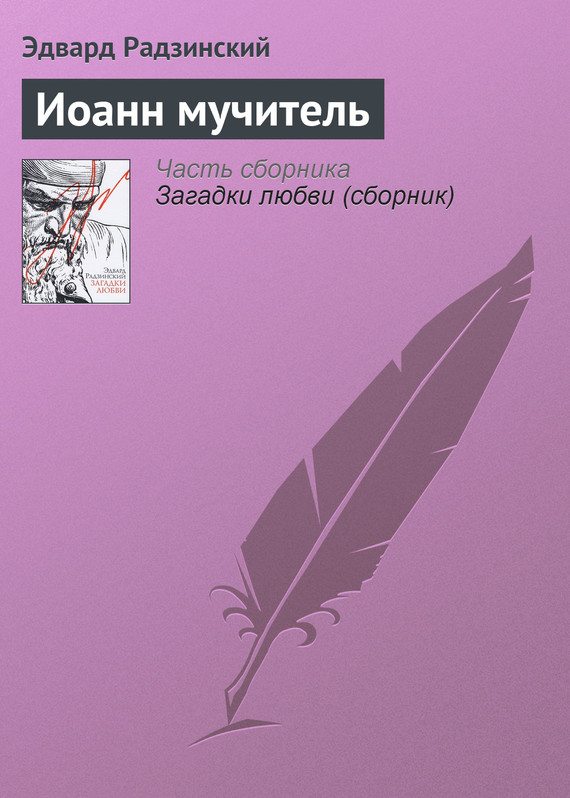Дайте им умереть Олди Генри

Пролог
Липкие струйки пота с омерзительной неспешностью ползли по спине, образуя темное пятно в области крестца, как раз над тонким кожаным ремешком; и когда рычание короткой автоматной очереди вспороло полдень над автострадой Дурбан – Кабир…
Пальцы Карена сами собой нащупали холодное тело «гюрзы-38» в наплечной кобуре, и первым сознательным ощущением было удивление: металл почему-то совсем не нагрелся от солнца и тепла человеческого тела. Прикосновение к оружию успокаивало, как всегда, одновременно вызывая странную гадливость – словно под руку ни с того ни с сего попался хитиновый панцирь жука-кусаря, готового вцепиться жвалами в ладонь или рвануться прочь.
«Нервы, – подумалось Карену. – Тут портовые тросы нужны, а не нервы…»
Он врал сам себе.
Он знал, что дело не в нервах.
Вернее, не только в нервах.
Из-за соседней машины неуклюже высунулся толстяк Фаршедвард Али-бей, хайль-баши[1] дурбанской полиции, раздул волосатые ноздри, простудно засопел и через мгновение уполз обратно. Безобидность этой горы жира, казалось, едва справляющейся с простейшими приказами желеподобного мозга, была одной из козырных карт лихого хайль-баши: в свое время, когда пыхтящий Фаршедвард вразвалочку объявлялся на борцовском ковре, где сходились борцы-нарачи в схватке гигантов, соперник помимо воли расслаблялся и усмешливо косился на ассистентов. Зря, конечно… Да и сейчас, видя вползающую в спортивный зал тушу, все местные мушерифы[2] знали: в участке объявился новенький, и сейчас этот новенький будет втихомолку посмеиваться… некоторое время. Потом перестанет. А господин Али-бей попыхтит еще немного, невинно глядя на раскинувшееся перед ним тело, и уйдет в кабинет.
Карен был новеньким в Дурбане. И при этом достаточно стареньким, чтобы знать все, что следует, о Фаршедварде Али-бее по прозвищу Тот-еще-Фарш.
Убрав руку с пистолета, он оглянулся: ровное полукольцо машин за спиной, пятнистые каски, затянутые маскировочной сетью, блики на оптических прицелах и десятка полтора черных зрачков, готовых в любую секунду заплевать смертью пол-автострады. Гургасары-спецназовцы, «волчьи дети», элита внутренних войск. Совершенно никчемушная сейчас, когда речь идет не о смерти, а о жизни, о сорока двух заложниках в рейсовом автобусе, сорока двух обывателях, задыхающихся от страха и от приближения той минуты, когда их продолжат расстреливать для весомости аргумента.
Всего минуту назад заложников было сорок три.
Карен прикусил губу – привычка, оставшаяся с детства, – и еще раз оглядел захваченный автобус. Дверь рядом с водителем неспешно открылась, сложившись гармошкой, и наружу грубо вытолкнули подростка лет пятнадцати, прыщавого дылду в цветастой маечке и модных шароварах с резинками на щиколотках. Серьга в левом ухе подростка раскачивалась, ловя солнечные зайчики. Следом выбрался плечистый коротыш и лениво опустился на ступеньку, положив автомат поперек колен. На рябом лице коротыша отражались скука и равнодушие. Ко всему, даже к собственной судьбе. Исполнитель. Наверняка бывший наемник, убийца-профессионал, давно переставший испытывать что-либо, нажимая спусковой крючок; он и умрет так же скучно, не моргнув глазом, не торопя и не отдаляя приход небытия. Конечно, если тебя после приговора везут в Дасткар-Зах, в камеры смертников, то сонным охранникам стоит быть повнимательнее, чтобы четверо приговоренных не оказались на свободе. Ничего нет опаснее крысы, загнанной в угол. Коты это знают. В отличие от многих мушерифов, чьи семьи теперь могут утешаться лишь пенсией погибшего кормильца.
Подросток что-то испуганно сказал коротышу, и тот в ответ только плюнул. Довольно умело, надо заметить: комок слюны угодил заложнику точно в промежность. Юнец скорчился, как от подлого удара, после чего торопливо заковылял прочь от автобуса, потешно перебирая стреноженными ногами. Руки подростка были свободны, но он даже не попытался развязать или ослабить путы, протянувшиеся от одного колена к другому, – так и брел, спотыкаясь, от автобуса к полицейским машинам… И когда добрел до опрокинутого навзничь женского тела, как раз на полпути к жизни, наглый рык автоматной очереди снова заставил дребезжать стекла машин, а холодный жук «гюрзы» опять ткнулся в ладонь Карена.
«Мама-а-а!» – отдаленным эхом прозвучало в мозгу. Карен знал, что кричит не подросток, потому что убитые наповал не кричат и еще потому, что вот уже пятый месяц он просыпался от этого крика в смятых простынях, захлебываясь душным воздухом и болью.
«Мама-а-а… не надо, мама!.. Пожалуйста…»
И глумливый смех трясущегося в припадке оружия.
Вне сомнения, каждый из гургасаров мог в любую секунду всадить свинцовый желудь скучающему коротышу куда угодно, на выбор. И Карен понимал: хайль-баши Али-бей больше всего на свете боится именно этого. Он представил себе: тросы-нервы одного из снайперов лопаются с коротким щелчком, плечистый убийца сползает со ступеней в пыль, в автобусных окнах возникают лица… увы, отнюдь не спасенных заложников, а двоих дружков коротыша, и невидимый снаружи третий (да, теперь, после шального выстрела он будет именно третьим, а не четвертым из бежавших смертников!) лезет в тяжелую сумку и выдергивает чеку из связки гранат.
Никто не знал, откуда у беглецов взялись гранаты. Но факт их наличия был зримо подтвержден час назад: вон, корявая воронка на обочине до сих пор мозолит глаза, зар-раза…
Фаршедвард Али-бей еще раз высунулся из-за машины, и Карен увидел переговорное устройство в монументальной лапе хайль-баши. Нечленораздельно рявкнув в резонирующую мембрану, Али-бей поманил пальцем Карена к себе. Карен даже вздрогнул от ознобного счастья: что-то делать, двигаться, шевелиться, пробираться между машинами, а не сидеть сиднем, глядя, как по ступенькам мимо коротыша уже спускается подталкиваемая в спину старуха, – о, Творец, как мало человеку надо для счастья, особенно если я не знаю: кощунствую сейчас или просто схожу с ума!
Мама-а-а!..
Зимняя слякоть, дождь наискось хлещет по кабирскому переулку, по одному из многих переулков бывшей столицы, и морщинистая женщина у ворот их дома не откликается на сыновний крик. В маминых руках, сохлых, как мертвое дерево, бьется серебряная рыба, пытаясь выплюнуть рвущий губу крючок, спусковой крючок, и остроребрая чешуя с треском разлетается вокруг, пятная соседей черной слизью: валится навзничь тетка Фатьма, уползает к подъезду беззвучно воющий лавочник Низам, удивленно смотрит на окровавленное предплечье четырехлетний мальчишка, внук лучшей маминой подруги, – боль еще не пришла, и в круглых глазах ребенка пока лишь один интерес, от которого хочется разбить голову о ствол чинары или бежать быстрее, но ты не можешь, не можешь, не можешь…
– Мама-а-а!..
Рыба в руках матери лопается, огненные потроха клубятся, вспухают слепящим шаром, и вскоре только дождь стучит по переулку да еще к лавочнику Низаму возвращается голос, и он еле слышно скулит, хотя от простреленной лодыжки еще никто не умирал, а тетка Фатьма с изумлением уставилась в небесную рвань тремя черными глазами, и рядом лежит теткин любимый кот с развороченным брюхом.
– Мама…
На похоронах матери к Карену подошел седой человек, похожий на птицу. После затасканных до дыр слов соболезнования он предложил Карену назавтра зайти в большое серое здание на углу улицы Ас-Самак и подняться на третий этаж. Недавно вышедший в отставку Карен знал, что на встречу в сером здании по адресу Ас-Самак, 4/6 приходят в любом случае.
Даже если у тебя только что умерла мать, предварительно решив перестрелять ближайших соседей из хранившегося дома табельного оружия.
Они долго говорили, висак-баши[3] Карен Рудаби и седой человек, похожий на птицу; к концу их разговора Карен знал все, что ему было дозволено знать об эпидемиях, проходивших по документам под названиями «Спи, сынок» и «Проказа «Самострел».
А еще через три месяца Карену вручили офицерскую бляху мушериф-эмира[4] и перевели в Дурбан.
– Тут сиди, – жарко выдохнул Тот-еще-Фарш Карену прямо в ухо и с подкупающей прямотой добавил: – Ты не местный, я тебе не верю. Дернешься невпопад…
Сперва Карен не понял. Впрочем, обидеться ему даже не пришло в голову, а задавать вопросы прямолинейному (когда Али-бей этого хотел) хайль-баши помешали две вещи: въевшееся в костный мозг чувство субординации и стрекот приближающегося со стороны города вертолета. Иблисов корень, как глупо, глупо и стыдно все получается! Неужели условия смертников будут приняты?! Вертолет, два миллиона динаров золотом и трое заложников в кабине, пока «стрекоза» с беглецами не пересечет границу с Малым Хакасом. Карен ни минуты не сомневался, что в ту же секунду заложники будут честно отпущены – вниз головой, из рубящей воздух лопастями «стрекозы», как раз на острые хребты тамошних скал.
Вертолет опустился в полусотне шагов от машин, винт начал замедлять обороты, и вскоре из кабины выпрыгнуло на землю маленькое существо, издали ужасно похожее на древесного палочника-переростка. Существо поковырялось пальцем сперва в левом ухе, потом в правом и, продолжая ковыряться, прыгающим шагом направилось к машине Али-бея.
Карен даже зажмурился от изумления.
Девочка. Тощая нескладная девочка лет двенадцати, насквозь прокопченная неистовым дурбанским солнцем, длинноносая и черноглазая, несмотря на жару кутающаяся в тяжелую шаль с бахромой.
Некрасивая, и красивой никогда не будет.
Это была именно та девочка, которую Карен совершенно не ожидал увидеть здесь и сейчас.
– Зачем?! – непроизвольно вырвалось у Карена, и почти сразу он поправился: – Зачем она здесь, господин хайль-баши?
– В свое время я забыл уведомить вас, висак-баши: ее зовут Сколопендра, – хрипло буркнул Тот-еще-Фарш, и Карен решил, что хайль-баши над ним издевается.
Не исключено, что так оно и было.
Девочка скоренько прошмыгнула мимо гургасаров – снайперы так и не шевельнулись, грея щеками ложи винтовок, и Карен мимоходом позавидовал выучке «волчьих детей», – после чего приблизилась к машине хайль-баши.
– Здравствуй, Сколопендра, – тихо прогудел Фаршедвард каким-то удивительным тоном, чуть ли не извиняющимся.
Девочка не ответила.
Стояла, куталась в шаль, смотрела на бетон дороги, на носки собственных туфель.
Носом шмыгала.
Карену показалось, что он присутствует при съемках нелепого, невозможного фильма – настолько по-идиотски выглядело все это: автобус с заложниками и беглыми смертниками, недвижные гургасары, огромный Али-бей и сумасшедшая девчонка, прилетевшая на вертолете.
По-прежнему не произнеся ни слова, девочка вдруг развернулась всем телом и тем же птичьим шагом засеменила прочь от машины.
К автобусу.
Трупы расстрелянных женщины, подростка и старухи она миновала равнодушно, не задержавшись даже на секунду, словно каждый Божий день сталкивалась нос к носу с покойниками, умершими насильственной смертью. Карену доставило чуть ли не садистское удовольствие лицезреть выражение небритой физиономии коротыша, когда тот увидел идущую к нему Сколопендру и понял, что это не галлюцинация.
Более того, в приоткрытом до половины окне, точь-в-точь как в видении Карена, объявилась усатая физиономия другого смертника, а рядом с ним над резиновым бортиком автобусной рамы всплыла бритая до синевы макушка, задержалась на миг и приподнялась еще чуть-чуть, явив намек на лоб и один заплывший глаз.
«На полу сидит, – догадался Карен. – Этот, который с гранатами… гляди-ка – снайперы, а тоже не утерпел, паскуда, высунулся!»
Последний из беглецов с наглостью человека, которому нечего терять, встал в дверях, прямо над коротышом, и демонстративно сложил татуированные руки на карабине, висевшем поперек груди.
Девочка остановилась, не дойдя до автобуса каких-то десяти-пятнадцати шагов, и плотнее закуталась в шаль.
Не говоря ни слова, коротыш-палач полез в карман отобранных у кого-то из заложников брюк (дорогих, с отглаженными складками) и достал мелкую монету. Покидал с ладони на ладонь, сплюнул в пыль и мгновенным движением швырнул монету девчонке. Напарник с карабином громко расхохотался – наверное, с его точки зрения, это и впрямь выглядело смешно; медный кругляш завис в воздухе рядом со Сколопендрой. Карен почувствовал на своем плече непомерную тяжесть Фаршедвардовой лапищи и только потом понял, что был готов сломя голову кинуться к автобусу, забыв обо всем на свете; шаль слетела с плеч девчонки, и две тонкие руки метнулись к монетке.
Не дотянулись.
Сухими веточками задергались, затрепыхались в воздухе: туда-обратно, от кожаной перевязи, крест-накрест охватывающей туловище, к медленно падающему на землю медяку; ломкое, ненадежное кружево…
И косым веером вспорхнула с полудетских ладоней стая маленьких ножей, совсем не страшных, легких, как осенние листья, как узорчатые снежинки на перевале Фурраш, как тихая смерть на пахнущей лекарствами постели в кругу родных и близких.
Палачи не заслуживают такой смерти.
Боком пополз со ступеней коротыш, булькая трижды вспоротым горлом, почти сразу же рухнул на него сверху приятель с карабином, жутко смеясь во всю глотку, словно пытаясь хохотом вытолкнуть проглоченный клинок; исчезло перечеркнутое стальными птицами лицо усача из автобусного окна, а бритая макушка внезапно взметнулась вверх сорвавшимся бильярдным шаром, и дико смотрели из-под низкого лба две костяные рукояти, прочно утонувшие в человеческих глазницах.
Девочка постояла еще немного, бессмысленно оглаживая перевязь с парой оставшихся ножей, и медленно подошла к автомату, который только что выронил убитый коротыш.
Постояла над оружием.
Повернулась к нему спиной.
После чего бесстыдно задрала подол ветхого платьица, присела и помочилась на короткоствольное дитя стали и пластика.
Подобрала монету, закуталась в шаль и, подпрыгивая, направилась к автобусу – собирать улетевших птенцов.
Нас больше нет. Остался только холод. Земля кусается. И камень жжет.
И. Эренбург
Глава первая
Хабиб[5]
- Тень от ствола клеймит висок,
- как вечности печать.
- Я слышу голос – это Бог
- идет меня встречать[6].
Контуры хмурого скуластого лица на фотографии поплыли, смазались, как бывало всегда при установлении контакта; пьяный ретушер бросил поверх изображения сеть паутины, лицо надвинулось, мелькнула совсем рядом ломкая ниточка шрама под левым глазом, кокетливо оттененная глянцем снимка, – и в следующее мгновение Кадаль был уже ВНУТРИ. На доктора мгновенно обрушилась паническая волна страха, той самой разъедавшей внутренности кислоты, которую человек с фотографии тщательно прятал под маской показного благополучия, заставляя себя вести деловые переговоры, неискренне смеяться, давать интервью, флиртовать с женщинами, время от времени затаскивая то одну, то другую к себе в постель (впрочем, женщины его круга обычно не имели ничего против, до ломаного дирхема зная цену каждому оргазму).
Но за внешней мишурой надменно стоял Их Превосходительство Страх, стоял и ухмылялся, скрестив на груди когтистые лапы. Животный, дикий страх, леденящий душу ужас, щемящая тоска предчувствия – и по ночам человек вскакивал весь в поту, чувствуя виском беспощадный холод ствола, вжимающегося все сильней в податливую кожу; щелчок взводимого курка погребальным колоколом отдавался в пылающем мозгу, и на какое-то мгновение возникало чувство странного облегчения, а потом… Ужас овладевает тобой с новой силой, но поздно: боек ударяет по латунному капсюлю, бесшумно – пока еще бесшумно – вспыхивает, дождавшись звездного часа, порох внутри аккуратного цилиндрика гильзы, и неумолимая свинцовая оса в оболочке из нержавеющей стали начинает короткое плавное скольжение по нарезам ствола. Ничего нельзя изменить, неизбежность финала извивается между долями секунд, но последние крохи последнего времени имеют привычку тянуться безумно долго, превращаясь в недели, месяцы, годы, и твоя восковая рука коченеет в отчаянной и безнадежной попытке совершить невозможное: успеть отвести от виска смертоносный ствол, пока пуля еще скользит по нарезам, пока…
Поздно!
Височная впадина лопается под напором – и содержимое твоего черепа, венец сотен веков эволюции, склизкими ошметками выплескивается на свободу.
Что означает: на стену, на колени, на полированную поверхность письменного стола…
Потом – темнота.
Этот навязчивый, повторяющийся кошмар превратил его ежедневное существование в постоянную пытку, каждая ночь грозила стать шагом в пропасть, когда, не в силах больше сопротивляться, он наконец приставит к голове равнодушную сталь и взведет курок.
Равнодушную?
Ждущую?
Или долгожданную?
Человек со снимка вздрогнул, словно звериным нюхом учуяв присутствие чужака в своем мозгу, присутствие мыслящей пули в оболочке из нержавеющей воли, но тревога исчезла, забилась в щель, а вместе с ней начал тускнеть, уходя в небытие, и проклятый кошмар. Человек задышал ровнее, искаженные страданием черты постепенно разгладились, и когда милосердный сон принял мученика в свои объятия, на скуластом лице застыло облегченное умиротворение.
Страх отступил.
Доктор Кадаль искренне надеялся, что на этот раз – навсегда.
Кадаль в изнеможении откинулся на спинку глубокого мягкого кресла и позволил векам сомкнуться. Некоторое время он лежал совершенно неподвижно, расслабившись и мало-помалу приходя в себя. Потом медленно поднял руки к вискам и начал массировать привычные точки, переливая в пальцы адскую боль, взламывающую череп изнутри.
Так бывало всегда после контакта, но сегодня боль казалась особенно сильной. Доктор знал, на что идет, знал всякий раз, беря в руки очередную фотографию, и все его существо противилось предстоящей пытке с первобытной силой, но Кадаль неизменно спрашивал себя: «Если не я – то кто?» В конце концов, ему за это платили, и платили, будем честными, немало. Только из-за денег доктор, пожалуй, не стал бы терпеть жуткие остаточные боли, наверняка забравшие не один месяц ЕГО СОБСТВЕННОЙ жизни… хотя – кто знает? Сейчас он рассуждает как хорошо обеспеченный человек, каковым и является, а случись ему вдруг потерять все?..
Увы, господа мои, это прискорбно и немножко стыдно, но к комфорту привыкаешь гораздо быстрее, чем к нищете!
Голова уже не раскалывалась, но до сих пор гудела, будто после изрядной попойки, и Кадаль ласкал виски умелыми пальцами, вяло ловя за скользкий хвост змейки возникавших в оттаивавшем мозгу мыслей.
Наверное, это напоминало вид ночного города с высоты птичьего полета: обилие огней, раздражающе ярких, болезненных, но вот они постепенно начинают гаснуть один за другим, и мягкое облако тьмы окутывает город-сознание до следующего вечера.
Точки на висках… мягкие впадинки, трепетно-чуткие ямочки. Они находятся как раз на траектории пули, которую с облегчением пускаешь себе в голову!.. Нет, это не его мысль! Это отголоски мании человека, излеченного полчаса назад. Излеченного – и только?! Не скромничай, дружище Кадаль, – ты спас баловня судьбы, чью жизнь отягощал разве что некрасивый шрам под глазом, от смерти! Спас ничуть не менее верно, как если бы вытащил скуластого из огня или из клыков разъяренного чауша! Еще день-два, от силы неделя – и чьи-то замечательные мозги замечательно расплескались бы по стене чьей-то замечательной спальни…
Хватит! Кончено! Я сделал свою работу, человек будет жить, достоин он этого или нет, и хватит рефлексировать! Это был не мой кошмар, не мой!!!
Да, конечно…
Доктор понемногу успокаивался – нехарактерная вспышка гнева удивила его самого, – головная боль послушно засыпала до нового срока, и к Кадалю постепенно возвращалась способность к аналитическому мышлению.
Конечно, ужасный демон суицида покинет скуластого, как не раз бежал с поля боя чешуекрылый легион фобий и маний, необузданных страстей, физиологической потребности в опиуме, героине или банальном алкоголе. От племени вечно голодных мучителей Кадаль вот уже несколько лет успешно избавлял своих пациентов, в большинстве случаев даже без их ведома. Но… глубинная язва беспокойства источала ледяной яд, каплю за каплей, напоминая с усмешкой Их Превосходительство Страх: пропасть самоубийства, вдавливающийся в висок ствол, жало металлической осы, с раздраженным гудением покидающей свое гнездо…
Все совпадало в точности, вплоть до деталей!
Он уже видел подобный кошмар. Причем не единожды. Сегодняшний пациент был, кажется, четвертым за последний год.
Или пятым?
Этого доктор вспомнить так и не смог.
Он взглянул на старинные настенные часы – антиквариат, подарок щедрого ар-Рави, с массивными бронзовыми стрелками, в строгом футляре черного дерева.
Половина первого ночи.
Добрый доктор, пора спать.
А как же?.. Нет, завтра, завтра. Все завтра.
Впрочем, уже сегодня.
Тем более – спать.
Солнечный луч осторожно тронул спящего за плечо, скользнул выше, с трудом продрался сквозь жесткую поросль сизой щеки и попытался заглянуть под неплотно прикрытое веко. Человек заворочался, отмахнулся от луча, как от надоедливой мухи, но тот все не отставал, все копошился, согревая щеку ненадежным теплом и заставляя плясать попавшие в него пылинки. В конце концов человек приоткрыл левый глаз, тут же зажмурился и отодвинулся в тень тяжелого шелкового полога. После чего, к своему сожалению, проснулся окончательно.
– Без четверти одиннадцать, – пробормотал вслух доктор Кадаль, чувствуя в глотке ласку ржавого рашпиля. – Самое время начать новую жизнь… или покончить со старой.
Пышущий зноем день, один из многих дней Западной Хины, уверенно вступал в свои права, и доктор, с трудом поднявшись, проковылял к окну и включил негромко зажужжавший кондиционер. После чего, дойдя до ванной, тщательно умылся и накинул поверх влажного тела тонкий, серебристый с чернью халат кабирской работы и проследовал в столовую.
Завтрак уже ждал его – бдительная прислуга, нутром почуяв пробуждение господина, времени даром не теряла. Прополаскивая горло ароматным кофе и поглощая одну за другой любимые сырные трубочки по-лоулезски, доктор Кадаль просматривал утреннюю газету «Вы должны узнать это сейчас!» – как обычно. Несмотря на претенциозное и малость длинноватое название, газета исправно сообщала хинцам свежайшие новости, а верить ей можно было процентов на семьдесят – согласитесь, для газеты это немало!
«Ну вот, очередное самоубийство! – горестно вздохнул Кадаль, по привычке начавший с колонки происшествий. – Всего тридцать два года… мой ровесник. И не нашел ничего лучшего, чем разнести себе череп выстрелом из револьвера «масуд» сорок пятого калибра, предварительно забив ствол песком! Голова вдребезги, револьвер, естественно, тоже… Интересно, а ЕГО преследовал такой же кошмар?»
Доктор сам изумился подобной мысли – и следом мгновенно нахлынули переживания прошедшей ночи. Вкус кофе и трубочек с сыром был испорчен, день, похоже, тоже – однако на этот раз Кадаль не дал эмоциям захлестнуть себя. С некоторым усилием ему удалось абстрагироваться от раздражающих видений и принудить сознание расставить домыслы с догадками строго по ранжиру.
Совершенно разных людей преследуют совпадающие вплоть до мелочей кошмары, толкающие несчастных к самоубийству. Причем одним и тем же способом: приставить ствол к виску и спустить курок.
Эпидемия идентичных маний?
Социошизофрения?
Это было невероятно, но факт – доктор сам неоднократно присутствовал в кошмарах несчастных. Только он не встречал там ничего, говорившего о желании предварительно забить ствол пригоршней песка. До последнего дня он подсознательно запрещал себе думать об этом, сопоставлять, сравнивать; он возвел стену между собой и не собой, став пленником собственной отстраненности.
«…Из револьвера «масуд» сорок пятого калибра, предварительно забив ствол песком…»
Вирус-мутант суицидальных наклонностей? Любой ученый-психолог или врач-психиатр поднял бы его на смех за подобное предположение, но с некоторого времени доктору Кадалю очень редкие вещи могли бы показаться невероятными.
С того самого времени, как маленький Кадаль, тогда еще никакой не доктор, а обычный ученик пятого класса одной из средних (и весьма средних!) хинских школ, обнаружил, что он не такой, как все.
Кадаль сидел дома и переживал. Сегодня они с его лучшим другом Рашидиком разгрохали булыжниками два окна в кабинете физики. Вредный физик позавчера влепил двойки по контрольной почти всему их классу – и компания вихрастых героев поклялась в страшной мести подлому уроду. Но, когда дошло до дела, штатные хулиганы технично испарились, и под окнами кабинета остались только Кадаль с Рашидиком (не попавшие, кстати, в число двоечников, зато, увы, попавшие в шайку мстителей!). Бить окна было боязно, но Кадаль решительно заявил, что нельзя упускать такой прекрасный шанс утереть нос записным храбрецам, – и вот уже два увесистых камня взмывают вверх, с оглушительным звоном сыплются на асфальт сверкающие острые осколки, а друзья улепетывают со всех ног, и сердце суматошно прыгает в груди. Кажется, все обошлось, никто их не видел…
И тут, прежде чем свернуть за спасительный угол и перейти на безмятежно-неторопливый шаг, Кадаль в последний раз оборачивается и успевает заметить в окне дома напротив конопатую физиономию известного стукача Салмана ан-Машури.
Теперь Кадаль сидел дома, а невыученные математика и чеканные бейты[7] аль-Мутанабби никак не лезли в голову. Тупо глядя на прошлогоднюю фотографию их класса, которая висела на стене в рамочке, он мог думать лишь о подкрадывающемся завтра, о неминуемом разоблачении и столь же неминуемом наказании. Мама небось опять будет плакать, а папаша, хлебнув пивка, расстегнет армейский ремень… «Творец, клянусь, я буду самым хорошим мальчиком в Хине, только сотвори чудо: пусть Салман-ябеда обо всем забудет или хотя бы побоится рассказывать… нет, лучше пусть забудет!» Кадаль нашел на фотографии ненавистную конопатую рожу и, сам не сознавая этого, твердил, как заклинание, как молитву, как единственные в мире слова: «Забудь! Забудь! Забудь!..»
А потом случилось непонятное. Кадаль находился как бы по-прежнему в своей комнате, но одновременно где-то еще, и тот, кто был «где-то», был уже не совсем Кадаль, вернее, даже совсем не Кадаль, а испуганный мальчишка находился внутри того, другого, как дитя ворочается в глубине материнского чрева, будучи чужим и своим сразу, – и тот, другой, вдруг забыл что-то очень важное; он изо всех сил пытался вспомнить, но не мог и расплакался от обиды и бессилия, размазывая слезы по веснушчатым щекам… Впрочем, трясущийся, как в припадке, Кадаль уже снова сидел за своим столом, дома, и только дома, – и у него очень сильно болела голова.
Салман-ябеда ничего не сказал учителю.
И Кадаль, морщась от затаившейся в норах мозга головной боли, понимал: свершилось! Чудо, о котором он молил Творца, действительно произошло вчера, когда, глядя на фотографию Салмана ан-Машури, он твердил: «Забудь!»
Салман забыл!
Более того, никто и никогда не выслушивал с тех пор доносов от конопатого Салмана.
Еще раз испробовать нечто подобное Кадаль решился только через полгода. Снова у него страшно болела голова, зато мама перестала плакать по ночам в подушку, потому что отец наконец вышел из двухнедельного запоя. Как потом выяснилось, в тот день он бросил пить раз и навсегда.
И складские грузчики очень скоро перестали биться об заклад: когда же все-таки Рябой Ганаим не выдержит и возьмет предложенную бутылку пива?!
А маленький Кадаль, наверное, уже тогда понял значение недетского слова «судьба».
Поступить иначе означало обмануть Творца, схватить подарок и забиться в угол, не поделившись с остальными.
Факультет психологии Государственного университета фарр-ла-Кабир не дал ответа на вопросы Кадаля, но кое-что ему все-таки удалось выяснить. Не будучи чудотворцем, он мог довольно многое: лечить различного рода мании и фобии, избавлять шизофреников от навязчивых кошмаров, топить в забытьи угнетавшие их комплексы. Он спасал жизнь, казалось бы, безнадежным наркоманам и алкоголикам, постепенно это давалось ему гораздо меньшими силами, так что выкладываться полностью приходилось лишь в наиболее тяжелых случаях.
Как при лечении тихого внука хинского шахрадара[8], нежной души человека, любившего чайные розы и пейзажи работы мастеров прошлого столетия, а также обожавшего гулять по ночам с большим разделочным ножом и размышлять про себя: пройдет ли мучившее его томление, если попытаться отрезать палец-другой вон у той девицы легкого поведения?
Но все это Кадаль по-прежнему мог проделывать, лишь глядя на фотографию своего пациента, входя через нее, как через некие ворота, в сознание больного и промывая застарелые язвы невидимой водой, – Кадаль и сам толком не понимал, что именно он делает, но неудачные попытки можно было пересчитать по пальцам одной руки, в то время как число исцеленных перевалило уже за шестой десяток.
Личный контакт или работа с портретом не давали результата.
Только фотографии.
Кадаль уже давно собирался поэкспериментировать с кино– или видеоизображениями, но все не доходили руки, да и нужды особой пока не было.
Поначалу Кадаль работал бесплатно или за чисто символическое вознаграждение – ему было просто интересно входить в чужие тайники, выбрасывать прочь гниющий мусор, пытаться понять механизм воздействия на психику больного. Да и сознавать, что спас человека, официально признанного неизлечимым, тоже было приятно. Иногда Кадаля – теперь уже ДОКТОРА Кадаля – начинали терзать сомнения: имеет ли он право вторгаться в святая святых – человеческую душу? Дозволено ли ему менять что бы то ни было в личности своих пациентов, изменяя тем самым и саму личность? Ведь даже избавляя больного от гибельного пристрастия или подавляя мрачный кошмар, он тем самым убивает частичку чужой души. Пусть больную, завшивленную частичку – но все же… Давно известно, что Творец создает, а Иблис-Противоречащий переделывает; кому служит дар, пришедший из ниоткуда и перевернувший жизнь слабого человека?
Доктор Кадаль так и не избавился от подобных сомнений. Но когда он видел возвращающихся к жизни людей, до того одной ногой стоявших в могиле, он понимал, что иначе не может. Он в силах только стараться не переступать ту невидимую черту, за которой заканчивается лечение и начинается насильственное вмешательство в чужую психику.
Черту, отделяющую скальпель хирурга от разделочного ножа внука хинского шахрадара.
Глава вторая
Азат[9]
- Старые долги,
- новые враги,
- все прошло,
- закончилось быстро так,
- что не стать своим
- ни тебе, ни им.
- Не суметь, не дойти
- и не выстрадать.
– Я вижу, вы изрядно повоевали, висак-баши?
– Так точно, атабек[10]!
Пожалуй, Карен вел себя излишне вызывающе, проигнорировав предложенное кресло и подчеркнуто соблюдая букву устава, но этот жирный великан раздражал его с самого начала. Вопросами, ответы на которые были скрупулезно выписаны в лежащем перед хайль-баши личном деле Карена Рудаби, только что переведенного из Кабира в Дурбан; дурацкой манерой всякий раз вздымать реденькие бровки после услышанного, отчего складчатая физиономия Фаршедварда Али-бея становилась до противности недоверчивой, как у черепахи, разглядывающей похожий на личинку камешек; шумным сопением и запахом вспотевшего тела, вызывавшим в памяти ароматы зверинца; ну никак не нравился новому мушерифу господин Али-бей, да и вообще сегодня настроение Карена было не из лучших.
– Где имели честь служить?
– В Малом Хакасе, атабек, последние четыре года!
– Внутренние войска? Дорожники?
– «Белые змеи», атабек. Горные егеря.
Брови Али-бея забрались под самую верхнюю складку его лба, где и принялись раздумчиво ползать двумя тутовыми гусеницами.
– И до сих пор всего лишь висак-баши? Интересно, интересно… в связи с чем вам было отказано в повышении? Пьянство? Неуживчивость? Склонность к личному мнению?
Карену надоел этот спектакль. Он сделал несколько шагов, мешком плюхнулся в кресло и приветливо улыбнулся глыбе хайль-баши.
– В связи с рукоприкладством, атабек. Избил непосредственного начальника, курбаши[11] Пероза. Нанес телесные повреждения средней и высшей степени при некоторых смягчающих и некоторых отягчающих обстоятельствах. Да вы читайте, читайте, там ведь все написано…
Увлекшись бравадой, Карен пропустил тот момент, когда Фаршедвард Али-бей перестал сидеть за столом и очутился рядом с его креслом. Ощущение было непередаваемым: нечто похожее бывший горный егерь испытал лишь в детстве, когда мама повела его в знаменитый кабирский зоопарк, отвлеклась, обсуждая с подругами способы засолки синих баклажанов, а непоседливое чадо умудрилось забраться в павильон к носорогу-горбачу. По счастью, гора морщинистой плоти не обратила на суетящуюся рядом кроху никакого внимания, разве что хрюкнула недовольно и лениво повела страшным рогом, а Карен вопил благим матом и пытался уцепиться за решетку и носорожий куцый хвост, когда его извлекали из павильона.
– Там написано ровно столько, господин висак-баши, сколько мне заблагорассудится прочитать, – хрюкнул Али-бей раза в полтора внушительней носорога. – Обо всем остальном я буду расспрашивать вас, сколько захочу и когда захочу, даже если для этого мне придется вынимать вас из постели трижды за ночь, всякий раз оттаскивая за уши от голой бабы! Дошло, егерь?! Или перейдем к столь любимому вами рукоприкладству?
– Так точно! В смысле, никак нет, господин хайль…
Карен хотел вскочить, но на середине движения ладонь Фаршедварда тяжко опустилась ему на плечо, и подъем мигом сменился падением. С трудом удерживаясь, чтобы не сутулиться от ласки начальника, Карен стал раздумывать, как изложить Али-бею историю драки с курбаши Перозом. Не докладывать же в самом деле, что пьяный в дым курбаши, которого егеря за глаза прозвали Сукиным Внуком, на ночь глядя ввалился в дом местного старика хакасца, потребовал ужин и в скором времени подавился рыбьей костью. Сочтя это провокацией, Сукин Внук принялся расстреливать почтенного старца, трижды промахнулся, в душевном расстройстве пошел будить егерей из отделения Карена, настаивая на их участии в расстрельной команде, и в результате был изрядно бит взбесившимся Кареном.
Отягчающим обстоятельством здесь являлся факт избиения старшего по званию в присутствии младших по званию, смягчающим – все остальное.
Но, казалось, Фаршедвард уже напрочь потерял интерес к этой истории. Когда Карен наконец открыл рот, ему было приказано заткнуться, и господин хайль-баши принялся без дела слоняться по кабинету, колыхаясь и пыхтя.
От скуки Карен начал разглядывать висевший на стене лук без тетивы. С такими луками танцевали на помосте борцы-нарачи после каждой победы – Карен не был поклонником устаревшего вида борьбы, считая ее бессмысленным пережитком прошлого и кладбищем пустых ритуалов, но несколько раз друзья все же затаскивали его на соревнования. Многие фармацевтические компании продали бы душу за таинственные рецепты древних борцов, позволяющие безболезненно наращивать вес втрое больше нормального и так же безболезненно возвращаться к обычному телосложению, будь на то воля вышедшего в тираж нарачи, – но тайна по сей день оставалась тайной.
Представив себе резко похудевшего Али-бея, Карен еле удержался от улыбки.
– И как вы относитесь к перемирию, висак-баши? – неожиданно поинтересовался Фаршедвард, стоя к Карену спиной и глядя в окно на плац во внутреннем дворе участка.
– Согласно уставу, – коротко отозвался Карен.
– Конкретнее!
– А как вы прикажете вести военные действия в условиях «Проказы «Самострел»?! Когда ты не знаешь, на каком выстреле твой собственный автомат вздумает разлететься вдребезги у тебя же в руках?! Когда в особых отделах вырастают горы папок с одинаковым заключением: «Преступная небрежность при обращении с оружием» – потому что иначе совершенно нельзя объяснить, почему служака-десятник оставил в арсенале заряженную винтовку, а та начала стрелять! Вдобавок при этом эксперты хором заключают, будто ствол винтовки был забит песком! А в отделениях поговаривают шепотком, что пятый танковый хайль был отозван на прежние позиции, потому что у танкистов те же проблемы – только во сто крат хуже!.. – Карен осекся, немного помолчал и добавил уже совсем тихо: – Впрочем, хакасские боевики тоже не являлись исключением – сам видел… Это не перемирие, господин хайль-баши. Это вынужденная пауза. Боюсь, продлится она недолго.
Фаршедвард Али-бей вернулся к себе за стол и грустно обозрел стопку картонных папок с холщовыми тесемками. Хмыкнул. Взял верхнюю и заглянул в самый конец, туда, где обычно пишется заключение.
– Не тратьте зря пыл, висак-баши. – Звук рождался у бывшего нарачи где-то в области пупка и по дороге обрастал гулкими бархатными обертонами. – Я не глухой. И смею вас заверить, что, покинув армию и переведясь в полицию, вы не уйдете от столь возмутившей вас реальности. Вот…
Хайль-баши раскрыл папку и показал Карену надпись поперек страницы, сделанную фиолетовыми чернилами. «Преступная небрежность при обращении с оружием» – было написано там.
– Вот такие дела, висак-баши… То, с чем вы столкнулись в армии, – всего лишь первая волна. Сейчас идет вторая. Я прекрасно знаю, что в Кабире тебе выдали не только мушерифскую бляху, но и ишраф, разрешение на тайную слежку и сбор информации. Они там, на Ас-Самак, 4/6, полагают, что это тайна; ты полагаешь, что в случае получения особой информации твой ишраф выведет тебя из моего подчинения и ты станешь героем, пусть даже и посмертно; я же знаю, что все это ерунда. Просто правительство судорожно пытается за счет увеличения числа «шестерок»… – Хайль-баши попыхтел и продолжил: – За счет увеличения числа «шестерок», отправленных во все концы страны, раскопать хоть что-то. Новичкам везет – вот на что они уповают. И зря. Новичкам везет всего один раз. Они могут завалить ишрафами полдержавы – правда или всплывет сама, или будет найдена профессионалами. Или везение, или работа. А пока что ты, сынок, в моем подчинении, и, уверяю тебя, это не всегда будет приятно.
Если Тот-еще-Фарш ожидал какой-то реакции со стороны нового подчиненного, то он жестоко просчитался.
Карен знал это раньше и лучше многих.
Впрочем, хайль-баши Али-бей в число многих не входил.
С момента трагической гибели старой Зейнаб Рудаби, матери Карена, прошло три месяца с небольшим; до того дня, когда четверка беглых смертников захватит рейсовый автобус Дурбан – Кабир, оставалось меньше недели.
И кто-то, кто знал все, сейчас наверняка посмеивался в бороду.
Свернув с проспекта аль-Мутанабби, Карен некоторое время плутал в хитросплетении совершенно одинаковых улочек, пока сердобольный малыш лет пяти не сжалился над тупым дядей и не указал ему, где находится тупик Ош-Дастан. Малышу это было нетрудно: песочница, в которой он увлеченно лепил громадные чуреки, предназначенные в пищу годовалой сестренке, находилась как раз посередине искомого тупика.
Карен огляделся.
Изъеденные временем несколько-с-половиной-этажные дома, украшенные ведущими под самую крышу наружными лестницами, скрипучими и щербатыми; заросли дикого шиповника, из колючей гущи которых торчат редкие корявые акации, водяная колонка с непересыхающей лужей под носом у крана; покосившиеся лавочки, на одной спит сном праведника бородач в драном халате, – а у его босых пяток пасется тощая коза, философски обгрызая края у чего-то, больше всего напоминающего кусок ржавой жести; между косматой козьей шеей и грязной щиколоткой спящего протянута веревка, но понять, кто к кому привязан и зачем, решительно невозможно.
Оазис лени и неизменности.
Легко представить, как прогресс заглядывает в тупик Ош-Дастан, брезгливо морщит нос и поспешно удаляется в более благословенные края.
Гораздо более благословенные.
Осталось только понять, почему Фаршедвард Али-бей, эта гора в пропотевшем мундире (кстати, а где шьют мундиры таких размеров?), этот мушериф-нарачи, запретил Карену снять квартиру по личному усмотрению, а направил именно сюда, снабдив конкретными и недвусмысленными предписаниями?
Нет, непохож был Тот-еще-Фарш на человека, без конкретной цели издевающегося над новым подчиненным!
Поблагодарив добросердечного малыша – дареный медяк тот мигом закатал в очередной чурек, – Карен приблизился к лавочке-ложу и принялся расталкивать спящего. Это давалось с трудом, потому что коза бдительно мекала и норовила приложиться рогом или желтым оскалом к оскорбителю спокойствия. Однако через некоторое время усилия Карена были вознаграждены, и бородач открыл один глаз.
Вместо второго красовалось обширное бельмо, открыть которое не представлялось возможным.
– Почтеннейший, – в улыбке Карена прямо-таки выпирал намек на вознаграждение в случае доброжелательного ответа, – не подскажете ли, где здесь проживает бабушка Бобовай?
– Ах ты, прохвост, шакал и сын шакала!.. – просипело откуда-то из-за спины.
Поскольку борода человека на лавке даже не шелохнулась, а сиплый голос был скорее женским, то оставалось предположить, что заговорила коза. Повернувшись, Карен лишь укрепился в этом мнении: кроме козы, за спиной по-прежнему никого не было, а слюнявые козьи губы вызывающе шевелились.
– Бедная старуха живет себе тише мыши, никого не трогает, а эти проклятые так и норовят то пособие урезать, то от жилищного вспомоществования крысий хвост оставить, то шляются тут, вынюхивают, высматривают!..
– Извините, – сказал Карен козе, – но я не…
– Вон она живет, – вместо козы ответил бельмастый бородач. – Вон, на балконе, твоя Бобовай… Подойди, она тебя помоями окатит, а я смеяться стану.
И опять заснул.
Взглянув наверх, Карен и впрямь обнаружил по левую руку от себя серый балкон, полускрытый пыльной кроной акации, и всклокоченную старушечью голову над железными перилами.
Подходить за обещанными помоями почему-то не хотелось.
– Бабушка Бобовай, – наисладчайшим голосом начал Карен, вспомнив тон, каким в детстве разговаривал с мамиными товарками в надежде на сладости, – вы меня неправильно поняли!
– Правильно я тебя поняла, правильно, отродье трупоедов! – донеслось с балкона. – Бедная старуха живет себе, никого не трогает…
Относительно последнего заявления у Карена были изрядные сомнения.
– Я насчет квартиры! – в отчаянии заорал несчастный висак-баши, радуясь, что успел переодеться в штатское. – Мне сказали, вы комнату сдаете!
– А что, если и сдаю?! – Балкон был непреклонен. – Тоже мне, нашел повод медяк у старухи изо рта выдрать! Сдаю я, сдаю комнату, только приличным людям сдаю, а не всяким проходимцам вроде тех, что шатаются без дела да языком в чужих задницах ковыряются!
У Карена оставалось последнее средство. Хайль-баши Али-бей велел прибегнуть к нему в крайнем случае, и этот случай, несомненно, наступил.
– Я от Худыша, бабушка Бобовай! – выкрикнул Карен и сразу замолчал в ожидании реакции, потому что и сам не понимал смысла сказанной фразы.
В кроне акации раздалось хриплое бульканье.
Не сразу Карен понял, что старуха смеется.
– От Фаршедвардика? Что ж ты сразу не сказал, уважаемый! Подымайся, подымайся, тут ступеньки хлипкие, но тебя выдержат…
Вздохнув с облегчением, Карен уж было собрался проверить прочность ступенек, но ему помешала коза, решившая, что брезент его сумки намного вкуснее ржавой жести.
– Забери свою козу! – еле сдерживаясь, бросил Карен бородачу.
– Это не моя коза, – не открывая глаз, ответил тот. – Это ее коза.
И указал на балкон.
В конце тупика Ош-Дастан, невидимая из-за цветущего шиповника, стояла худая девочка лет двенадцати. Стояла, зябко кутаясь в тяжелую шаль с бахромой; смотрела, как незнакомый мужчина поднимается по скрипучей лестнице.