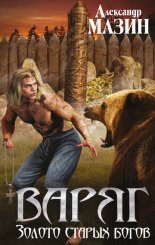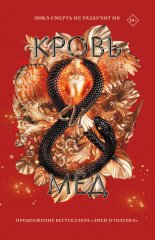Оккульттрегер Сальников Алексей

© Сальников А.Б.
© ООО «Издательство АСТ»
Глава 1
Больше не имея сил в одиночестве переживать воспоминания прошедшей новогодней ночи, Прасковья напялила на гомункула куртку, шапку и рукавицы, сама оделась, и они спустились на улицу с четвертого этажа. Снаружи, впрочем, было не сказать что людно. Только шел по тротуару, бодро постукивая тростью, слабовидящий молодой человек, совершенно пьяный, в яркой оранжевой куртке с отражателями. Но отражать было нечего – утренний свет равномерного картонного оттенка, как снег, лежал на домах и деревьях. В целом зимний город выглядел так, будто кто-то взял соляной карьер, замусорил его, воткнул сухой растительности, человеческих жилищ да так и бросил.
«День триффидов, честное слово», – подумала Прасковья, пристраиваясь на лавочку возле детской площадки. Гомункул, изображая ребенка, несколько раз скатился с горки – три раза вниз ногами, два раза вниз головой, – после чего принялся лепить снежки: бросал их в черных, как уголь, ворон и в серую, как британский кот, трансформаторную будку.
Вокруг лежало затоптанное конфетти, а еще ленты серпантина, почему-то в основном светло-голубого цвета, из-за чего казалось, что у сугробов проступили вены. Там и сям валялись коробки из-под салютов. Словно камыш, качались на ветру обгоревшие стебли использованных ракет. Разбросанные по двору бутылки походили на куски льда сильнее, чем сам лед.
Хрущевка, в которой жили Прасковья и гомункул, будто специально сделана была так, чтобы походить на рубку какого-нибудь ледокола, поэтому и выглядела органично только зимой, когда низкая невеселая облачность сплошь волоклась над головой или когда нежной красноты солнце выглядывало из-за горизонта, чтобы чуть подсветить город сбоку, а затем снова скрыться в морозном мраке.
Меж тем народу прибывало: воздух слегка расстегнулся от звука, который Прасковья стала забывать, – это был треск открываемой примерзшей хлипкой деревянной двери. С кустов порхнули воробьи (удивительным образом они разлетелись и в разные стороны, и в некоем общем направлении). На балкон второго этажа вышел мужчина лет пятидесяти, его худая складчатая шея торчала из ворота толстой кофты. Мужчина облокотился на перила и оглядел окрестности. Миг – и только что зевавший, сонный, он втянул большими ноздрями еще более огромный свежий воздух, неторопливо закурил, и лицо его наполнилось спокойной суровостью. Мужчина стал похож на капитана дальнего плавания, на вторую половину песни Юрия Визбора «Серега Санин». При виде рваного табачного дыма, синего елочного шарика, что болтался на тополиной ветке рядом с лицом курильщика, Прасковья почувствовала, что постепенно приходит в себя. Поэтому сказала:
– Доброе утро! С наступившим! Как отпраздновали?
Когда мужчина сообразил, что это обращаются к нему, то с удовольствием отмахнулся от Прасковьи, дескать, «и не спрашивай!».
– Просто охренеть! – ответил курильщик после молчания в две затяжки длиной. – Бегал чё-то, чё-то носился весь год, чё-то все мутил, туда-сюда мотался, один раз даже в больничке весной полежал из-за всего этого, еще со своей грызлись, считай, весь вечер перед курантами. И вдруг бац – просыпаюсь сейчас. И…
Он показал, что вдыхает полной грудью.
– Как так? – недоуменно спросил он у Прасковьи.
– Пока часы двенадцать бьют, – объяснила она. – Может, у вас жена что-то такое загадала.
– Если бы она загадала и сбылось… – начал он с той доверительностью, какая бывает между почти незнакомыми людьми, однако продолжать не стал, а покривился, словно держал во рту батарейку «Крона», затем понял, что все о себе говорит, спросил с хитрецой, и с участием, и с пониманием: – А чего вы оба в такую рань во двор вылезли? С братишкой заставили гулять?
– Ну это сын, – солгала Прасковья.
– Да ну? А тебе самой сколько?
– В этом году двадцать пять.
Балконный курильщик не стал спорить, не стал и комплименты развешивать, хотя да, Прасковья выглядела моложе, но видно было, что все же вычел семь или восемь из двадцати четырех и вздохнул не без сочувствия:
– Бывает, чё… Сама живешь, или родители помогают, или еще кто?
– Сама, – ответила Прасковья.
Если разобраться, то гомункул, что по-детски возился со снегом, был старше этого мужчины и его жены, вместе взятых, и настоящий возраст Прасковьи перекрывал и возраст вот этого вот мужчины на балконе, его родителей, дедушек и бабушек. Курильщик был перед ней все равно что младенец, а она ответила «сама» – и ощутила гордость оттого, что вся такая самостоятельная.
– А чем занимаешься, если не секрет? – спросил курильщик.
– Когда теургией, когда тауматургией, – запросто ответила Прасковья.
Конечно, особенности уральского произношения, расстояние между Прасковьей и соседом и ветер сделали свое дело.
– Драматургией? Это как? Пьесы, что ли, пишешь, как Коляда? – не расслышал курильщик, чиркая зажигалкой в промежутке между вопросительными знаками. – А ты не в двадцать пятой, случайно, живешь?
Прасковья кивнула.
– Ой, ну слушай, до чего странная квартира! – воскликнул сосед. – Там постоянно молодая мать с каким-нибудь ребенком жилье снимает. Уже года три. Раз в несколько месяцев меняются. И не то странно, что всегда вот так, а то, что никогда переезда-то и нет. У нас это заметно как нигде: лестница узкая, не развернешься, поэтому, если начинают таскать шкафы, холодильники, пианино, – считай, всё, приходится штукатурку спиной обтирать, чтобы на улицу выйти. А тут ни разу, прикинь, НИ РАЗУ не попадали, чтобы такое беспокойство. Там с мебелью хозяин сдает? Это убежище какое-то от семейного насилия или что? Ты вот надолго к нам?
«Палево», – юмористически подумала Прасковья и вспомнила, что давненько не маскировалась от соседей по подъезду, потому что особой нужды в этом не было: почти все они не являлись собственниками – выныривали из сумрака грузовых «газелей», вносили вещи в дом, какое-то время попадались на лестнице, в ближайших продуктовых, на улице, а затем снова возле подъезда стояла «газель», внутрь нее заносили коробки, торшер, невероятно чистую микроволновую печь, детали шкафа, стола, табуреты, телевизор, холодильник – машина уезжала и увозила бывших соседей в неизвестность.
В течение сорока с лишним лет Прасковья могла наблюдать, как люди заезжают в дом и съезжают из дома, где она жила, как ссорятся и мирятся, знакомятся и расстаются, даже немного участвовала во всем этом.
Труднее всего пришлось в восьмидесятые и девяностые, потому что гомункул то и дело тащил с улицы временных друзей и сам ходил в гости: возникали невольные ненужные знакомства. После перестройки стало гораздо спокойнее, а вот годы советской власти запомнились Прасковье сущим кошмаром, который полнился непрерывным общением. Взять те же весенние и осенние субботники – их нельзя было игнорировать, чтобы казаться хоть сколько-то нормальной. Или стояние в очередях, когда приходилось отвечать на вопросы, где она работает, как справляется с ребенком, как все успевает, в какой школе и каком классе учится ее ребенок. Или тогдашний обычай их тихого городка не запираться днем (в кражах не было смысла: перетаскивание из дома в дом спичек, прищепок, турки, кастрюль, емкостей для специй без специй таило в себе больше логистики, чем воровства). Период, пока моноколор еще не сменился триколором, вспоминался тем, что в квартиру, пару раз стукнув, мог войти кто угодно с каким угодно вопросом и просьбой. И ладно люди. Сколько чужих кошек заглядывало на огонек – и не пересчитать, а однажды, ошибившись этажом, пришел к Прасковье на кухню эрдельтерьер.
…Между тем сосед – балконный курильщик – не сказать чтобы ждал, но не был против ответов на свои большей частью риторические вопросы, и тут выручил гомункул – прекратил игру в снежки, запрокинул голову и похвастался:
– Мы в феврале хотим переехать. В центр.
Гомункул так забавно картавил, что и Прасковья умилилась. Что до соседа, тот и вовсе растаял и охотно переключил внимание с Прасковьи.
– Да ну?! – воскликнул сосед с удовольствием. – А здесь плохо?
– Здесь хорошей музыкальной школы нет.
– А… – принялся было сосед, но тут его уволокли в дом.
Впрочем, в его компании теперь не было нужды. Справа уже выгуливали кокер-спаниеля с бомбошками снега на животе, лапах и ушах, слева подъехал мусоровоз цвета оранжевой астры, покрытой пылью, с приятным пневматическим шумом принялся шевелить поршнями. Неторопливый человек подсовывал машине, один за другим, зеленые контейнеры с подарочными упаковками, бутылками из-под шампанского. Все это поглощалось мусоровозом с сотрясанием воздуха, звоном, шелестением, блеском. Как только мусоровоз уехал, пошли до лесопарка лыжники в ярких, будто фломастерами раскрашенных костюмах. Еще не пристегнув к себе ни одной лыжи, лыжники все равно шагали одной общей скользящей походкой, уже охваченные грядущим полетом по лыжне.
Холодный воздух слегка покачивался туда-сюда вроде воды, которую пытаются не расплескать, когда тащат в ведре или кастрюле. Нежно выдыхая газовый пар, прокралось по следам мусоровоза такси, такое чистое, что даже глянцевое. Из городской пустоты возникла усталая компания, чтобы молча проследовать мимо гомункула и Прасковьи, скрыться из виду; люди держались так близко друг к другу, что казались единым существом. «Пилигримы», – вспомнилось Прасковье слово. Она долго смотрела в ту сторону, куда ушли люди, хоть и телефон давно достала из кармана, намереваясь проверить поздравления и эсэмэс, еще позвонить своему Саше, с ним предстояло расставание в середине февраля не потому, что все было сложно, а в силу особенностей самой Прасковьи.
Потыкав пальцем в различные части древовидной трещины на экране, Прасковья разблокировала телефон и подождала, пока приложения, замирая, подвешивая сами себя и своих соседей, отзовутся на включение. Затем в страшных муках родились, одна за одной, иконки на рабочем столе, и можно было звонить.
Прасковья разбудила Сашу, но он сказал, что нет, что давно уже встал. Тут же зевнул и стал чесаться во всяких местах, принялся ходить по квартире, закурил, поставил чайник, не прекращая отвечать на вопросы, как все прошло, было ли весело, как ему Надя. После каждого вопроса обдумывал ответ, то ли подозревая ревность, то ли отвлекаясь на телевизор и музыку из умной колонки. Кажется, у них с Прасковьей уже все было не очень, потому что он продолжил разговор сначала пенным ртом, набитым зубной пастой, затем застучал клавишами ноутбука: видимо, узнавал между делом, насколько изменилась в новогоднюю ночь политическая обстановка в стране и мире.
– Ну а Наташа тебе как? – спросила Прасковья. – Давно хотела вас познакомить. Это вот еще одна моя лучшая подруга.
– Не было там такой, кажется, – ответил Саша. – Это которая с Эдиком? Тогда норм. Удивительно стойкая девушка. Вообще, ты зря не пошла, там и дети были, было бы мелкому чем заняться.
– Нет. Наташа такая же, как я. Тоже разведенка.
– Тогда не было. Там, считай, три пары, с ними всякая мелкота, а еще, считай, Надя. Всё. Собаки Надины. Дед Мороз. Местная знаменитость какая-то, вроде блогер или инстаграмщик, но тоже мужик.
– Ага, – неопределенно ответила Прасковья на все это, бросила трубку и почувствовала, что раздваивается.
С одной стороны, она думала, что беспокоиться не о чем. Как правило, потеряшки находились живыми и здоровыми, и не только люди. Дошло до того, что в городе и звери почти не исчезали безвозвратно.
С другой – она позвонила Наташе, и оказалось, что ее телефон выключен или находится вне зоны действия сети.
Объяснить такое можно было несколькими способами. Наташа никогда не следила за уровнем зарядки смартфона; постоянно получалось при разговоре, что батареи хватит от силы на три-пять минут. «Поболтаем, но я сейчас отключусь», – говорила она почти каждый раз, когда поднимала трубку. Наташа не держалась города в праздники, ее то и дело уносило в глухие места, к едва знакомым людям. Еще она бросалась телефоном в стену, если телефонная беседа ее не устраивала. Ах да, Наташа теряла смартфоны, кошельки, ключи, забывала своего гомункула в разных местах, когда случайно, когда – поддавшись чувству, похожему на жажду самоуничтожения.
Подобное поведение оставляло мало места для тревоги за подругу, но, ведомая беспокойством, Прасковья минут десять вертела телефон в руках, в результате чего гомункул оказался сфотографирован, выложен в сеть, получил пару сердечек; выяснилось, что Натальи нет в интернете уже пятнадцать часов; несколько чужих ночных постов с елками и людьми пролайкались почти сами собой; собака в шапке Деда Мороза удостоилась хохочущего смайлика; набрано и отправлено было сообщение: «Надежда, доброе утро! Слышала уже, что Новый год неплохо прошел. Проснешься – перезвони».
И пока этот короткий текст набирался, вмешалась внутренняя редактура, почерпнутая из роликов и дзена. Прасковье не понравилось приветствие: две близких друг другу «д» мешались, стоя рядом, так что ей захотелось написать «Надежда, утро доброе», но это звучало, как ей показалось, слишком старо; Прасковья набирала, стирала, снова набирала, после чего махнула рукой и в прямом, и в смысле, отправила как есть.
Телефон зазвонил почти сразу же. Вокруг Нади на том конце имелся уличный шум, сама Надя бодро дышала в трубку, слышалось, как азартно возятся возле нее три ее ротвейлера.
– Ага, не забыла меня, это хорошо! А я и не сплю! – сказала Надя весело, с шутливой интонацией. – Вы там как? Уже пришли в себя? Ты в этом году рано. За Александра беспокоишься?
– Наташка у тебя не появлялась? – в свою очередь поинтересовалась Прасковья.
– Нет, – ответила Надя, и в этом «нет» послышалось беспокойство того же рода, что и у Прасковьи. – Думала, она решила к тебе зайти. Я ее позавчера видела. Она мартини покупала, а это же ваш с ней напиток. Решила, она у тебя будет.
Прасковья помолчала и тем самым как бы ответила, что никто никакого мартини не принес.
– Она опять вне дозвона? – спросила Надя и не сделала того, что сделал бы любой человек утром первого января, узнав, что нужно срываться, идти, ехать кого-то искать, – не вздохнула.
Как и любому демону, Наде было чуждо чувство досады. Она и ее сородичи смотрели на мир одним и тем же взглядом, похожим на взгляд малолетнего ютьюбера, распаковщика наборов лего или еще каких игрушек, которого устраивают и пять подписчиков, и пятьдесят просмотров – всё ему в радость. У этого доброго отношения почти ко всему на свете были свои очевидные причины: материальное благополучие, восторг существования, невозможность заболеть чем-нибудь серьезным.
– Давай я сейчас к ней домой съезжу с собаками, – предложила Надя.
– Да что ж тебя все время тянет на приключения? – спросила Прасковья. – Это совсем не твоя работа, в конце-то концов. Оторвут тебе когда-нибудь голову, допрыгаешься.
– Так три собаки здоровенных, – сказала Надя уверенным голосом. – Сто двадцать кило зверства.
– Видела я это зверство, – ответила Прасковья. – Давай лучше без них. Только глаза соседям мозолить. Если собираешься приехать, то подожди там где-нибудь неподалеку, пока я доберусь.
– Слушай, я могу за тобой заскочить. Это не трудно, – предложила Надя.
– Ну заскочи, если тебе так все это интересно. Если тебе это еще не надоело за все годы.
– Ой, Головнякова, если что, будешь должна, да всё! А вдруг сглаз покажешь! А вдруг порчу? Дорога приключений не надоедает! – заранее обрадовалась Надя, и Прасковья закатила глаза.
Беззаботность Нади ее слегка раздражала, и звучание собственной фамилии смущало – мерещилось в ней что-то такое… путеводное, что ли, то, чем определялась Прасковьина жизнь.
Ну и, конечно, «Параша Головнякова» звучало для Прасковьи несколько обидно, даже когда она сама себя так называла. Прасковье казалось, что реальность дала ей кличку. Хорошо, что эта же реальность раз в четыре месяца подкидывала ей паспорта на разные имена, разные фамилии, иначе было бы чуть более невыносимо.
– Сейчас окажется, что она просто дома спит. Вот тебе и сглаз, вот тебе и порча, – произнесла Прасковья надтреснутым от раздражения голосом, заранее выговаривая Наташе за все ее безалаберные поступки, чтобы, когда все благополучно закончится, сдержаться и промолчать.
– Посмотрим! – жизнерадостно сказала Надя и прервала разговор.
Динамик телефона в случаях, если трубку клали на том конце, всегда издавал характерный щелчок, похожий на звук, когда вода попадает в ухо. Прасковью такое неизменно раздражало, потому что, как она помнила, ее несколько раз пытались утопить, и подобный щелчок разом вызывал к жизни все воспоминания об этих неприятных случаях, включая все, что их сопровождало: беспомощность, унижение, холод, собственный крик, кажущийся отдаленным, особенное округлое грохотание пузырей воздуха, охотно вылезавших изо рта и ноздрей.
Опять же по старой памяти, если Прасковья разговаривала по телефону на улице, она чувствовала себя все равно что в телефонной будке. Уж сколько всего изменилось незаметно. К примеру, Прасковья однажды поймала себя на том, что больше десяти лет, наверно, не выносила на улицу мусорное ведро, нет, не сам мусор, именно ведро, чтобы взять его, дотащить, вытряхнуть, вернуться с этим ведром обратно, – всё пакеты, пакеты. Лет пять не держала в руках наличных денег. А вот привычка окружать себя придуманными стенками телефонной будки, видимо, осталась с ней навсегда: она крючилась во время разговора, даже на ходу; оглядывалась, будто за ней, как в старые времена, могла образоваться очередь из желающих поговорить.
По окончании разговора эти стенки лопались, возвращалась погода, с ее ветром, дождем или снегом, город разом врубал всю свою акустику, это происходило одномоментно, Прасковья чувствовала нечто вроде пробуждения, будто после короткого внезапного инэмури в трамвае или троллейбусе.
Хлоп-хлоп-хлоп – это старушка, изваляв половик в снегу, выбивала его на турнике. Солнце, желтое, как сигнал светофора, положило прямой свет на ветки деревьев, а те дотягивались тенями до стены местного ЖЭКа. Гомункул обзавелся компанией, правдоподобно делил оживленную деятельность с настоящими детьми. Подростки мимоходом поджигали и бросали петарды, дымили вейпами, пили пиво и собирались в центр города, но двигались в другую от ближайшей остановки сторону. С ними была беспроводная колонка, исходившая бодрыми звуками веселого ремейка песни «The hanging tree». «Одно что и осталось от дебильных “Голодных игр” – песня, да и ту испохабили», – удивленно подумала Прасковья, но ее сейчас же отвлекли от сарказма, подергали за рукав: ребенок из тех, что бегали по детской площадке, зачем-то жалобно стал отпрашивать гомункула, которого называл Мишей, к себе в гости.
– Конечно, – ответила Прасковья. – Можете потом к нам, там какие-то конфеты, все такое. Мандарины.
«Кислые, как пиздец», – подумала она, но озвучивать эту мысль не стала.
Еще решила, что во время следующей линьки нужно дать гомункулу имя посовременнее. Макаром назвать, Елисеем, Даниилом, Назаром, а если девочка будет – Эмилией, Евангелиной какой-нибудь, а то он перестал соответствовать общим трендам. Когда его окликали «Олег!» или «Вова!», казалось, что двор на мгновение проваливается в прошлое, лет на двадцать назад.
Отпускать гомункула куда-либо она не боялась – опасаться должен был тот, кто решился бы его обидеть. Похищать его было себе дороже. Да что там, даже поссориться с ним было невозможно. Уж сколько они жили вместе, а вспоминалось это все как один огромный день. Прасковья знала: все те, на кого гомункул обратил внимание – а действовал он, скорее всего, сознательно, – чувствуют потом всю жизнь эту короткую, в несколько месяцев дружбу. Спустя огромное время длиной чуть ли не в человеческую жизнь подчас замирают, усмехаются, сожалеют о пропавшем друге: «Был друг во дворе, переехал куда-то, вот бы узнать, что теперь с ним», «Была подруга, жаль, что быстро уехала, вот с ней бы я сейчас поговорила».
Оставшись одна, Прасковья снова побеспокоила звонком Надю, не столько из спешки, сколько от внезапно навалившейся скуки спросила: скоро она там?
– Скоро! – обнадежила Надя и обнадежила еще раз: – Но, похоже, мы зря едем. Я тут попросила геолокацию ее телефона. Телефон дома у нее лежит ну или где-то близко к дому.
– А! Уже все равно, раз взялись, – сказала Прасковья. – Хотя бы узнаем, какое у нее приключение было этой ночью. А если никакого, то даже лучше. Просто поругаемся да разойдемся.
Глава 2
Прасковья не переставала удивляться демонической природе. Даже точно зная, что Надя – самый настоящий демон, Прасковья скорее себя причислила бы к чертям, чем свою подругу. Вроде бы в этом ничего удивительного не было, в конце концов, основная Надина работа заключалась в том, чтобы сбивать с толку, вызывать зависть – а трудно заставить себе завидовать, если ты выглядишь не абы как. Прасковья не могла объяснить, чем Надя отличалась от обычных смертных женщин. В любом случае, не красота Надю выделяла. Никто от вида Нади голову не терял. Если брать сексистские цветочные аналоги, ни орхидеей, ни розой, ни даже незабудкой Надя не являлась, вид ее вызывал ассоциацию, скорее, с несколькими ромашками, воткнутыми в прозрачный стакан с еще более прозрачной водой. Всякие другие сравнения лезли в голову при виде нее: крупные цветные бусины, рассыпанные по лакированному столу, зеркало, только что тщательно вытертое газетой, новые наручные часы со скользящей по циферблату секундной стрелкой – все вот такое, непонятно как вызывающее в сердце какое-то доброе шевеление. Но это были, так сказать, косвенные признаки, а Прасковья знала стопроцентный признак того, что ты знаком с демоном. Правда, для этого нужно было попасть к демону домой. В жилищах нечистой силы, как ни странно, всегда царил невероятный, недостижимый человеком порядок.
У Нади, например, жили три собаки, все эти псы спокойно разгуливали по дому, валялись на диванах, но ни одной шерстинки невозможно было обнаружить ни на полу, ни на мебели. Таких чистых кастрюль и сковородок Прасковья не видела ни в одной человеческой квартире. Это была как будто только что купленная посуда, какой не касались еще ни продукты, ни газовое пламя. Пыли в двухэтажном Надином доме не было вообще.
Когда Прасковья бралась за ежедневную уборку, все было не так. Если у Нади в доме и до уборки блестели полы, стены и зеркала, то Прасковья как ни старалась, все равно выходило чуть чище, чем раньше, да и только, но и эта чистота буквально на глазах сходила на нет.
Прасковья начинала с кухни, затем переходила в спальню, гостиную, прихожую, заканчивала в ванной, садилась выпить чаю и видела, что на оконные стекла в кухне уже села пыль, да еще этак разводами, будто окно не мыли полгода, от соседей через вентиляцию лезла беременная тараканиха, обнаруживалось, что чайные ложки потемнели, что между холодильником и стеной кухни – паутина. Стоило закончить с кухней, сунуться на диван в убранной гостиной, как с дивана взмывала пыль и принималась по-комариному роиться в солнечном луче, проникшем меж гардин, в промежутке которых виднелось только что протертое, но уже покрытое пылью денежное дерево, а в отраженном свете этого солнечного луча особенно явно виднелись следы тряпки на экране телевизора.
В том, чтобы люди сами ели себя поедом, не в силах добиться такой же легкости в жизни, в каждом движении, не умея, за редким исключением, быть такими же обаятельными, собственно, и состояла основная демоническая функция, но, когда однажды Прасковья выразила эту претензию кому-то из знакомых демонов, тот, с присущей им убедительностью, необидно ответил:
– Не знаю. Чем дольше живу, тем больше не понимаю, что мы тут у вас делаем. Ни один черт не сделает с человеком того, что человек сам с собой может сотворить. Искушение искушением, но ведь это человек сам решает, что делать, когда его соблазняют: красть – не красть, изменять – не изменять, завидовать – не завидовать, отчаиваться – не отчаиваться. Это при том, что у кого-то из ваших даже и выбора нет, кто-то изначально в таких декорациях оказывается, что ему ничего не остается, кроме, например, отчаяния. Что-то я даже в аду не припомню тех мучений, которые переживает какая-нибудь девочка, у которой, сколько она себя помнит, мать полубезумная, что без конца ей что-нибудь вдалбливает про неблагодарность, полупарализованная бабушка тут же, требующая заботы, за которой сорок лет нужно этой девочке горшки выносить, и эта бабушка еще и переживет эту девочку, и все это в однокомнатной квартире происходит, куда и материнские ухажеры таскаются. Этому существу, кажется, автоматически пропуск на небо нужно выписывать, если оно, небо это, вообще существует.
…Надя могла одеться как угодно и все равно выглядела мило. Когда Прасковья залезла к ней в машину, то увидела, что на подруге легкомысленная бирюзовая курточка, из рукавов которой торчат и болтаются бирюзовые же рукавицы на резиночках, из-под длинной синей юбки выглядывали ноги в белых кроссовках. Растрепанные светлые волосы, блестящие от неизбывного любопытства глаза, по-особенному розовый нос делали Надю похожей на персонажа студии «Пиксар». По приезде оказалось, что для выхода на улицу у Нади имеется красная вязаная шапка с ушами – что-то среднее между головным убором Шерлока Холмса и шарфом.
– Что? – спросила Надя, когда Прасковья радостно рассмеялась тому, что безумный головной убор сделал Надю только симпатичнее, что в этом сезоне Прасковьиной линьки они похожи если не на родных, то на двоюродных сестер – Прасковья тоже была вся такая светлая, в светлом пальто, светлых джинсах, светлой кофточке с ярким узором.
Временно потерянная Наташа жила на другом конце города, чуть дальше от центра, чем Прасковья, и тут было заметнее, что город снова подточило, блеклость окружающих зданий, людей, деревьев, вывесок так и бросалась в глаза, но прошедший праздник слегка встряхнул все это, и, очевидно, окраина выглядела теперь бодрее, чем накануне. Над пестрыми крышами частного сектора стояли лубочные печные дымки и запах горящих березовых дров; затянутый в сетчатую гирлянду фасад дома культуры, который много лет назад переделали в гостиницу «Релакс» и одноименный ресторан (завтраки, бизнес-ланчи), то медленно гас, то медленно разгорался множеством чахоточных в свете дня диодных огней. Возле двух специальных магазинов, где продавали только разливное пиво, около супермаркета и киоска «Продукты», который выглядел так, будто его только вчера забросили в сугроб возле тротуара, уже вовсю ходили люди. Это движение было столь интенсивно, что не пришлось прибегать к ухищрениям, чтобы попасть в Наташин подъезд – стоило подойти к двери, а она неторопливо отворилась, оттуда с таким видом, будто на работу, выпятилась девочка, волочащая за собой бублик для катания с горки.
Мимолетно глянув на Прасковью с Надей, девочка было продолжила движение, а затем спохватилась, узнала Надю. Можно было подумать, что с девочкой случился легкий приступ астмы.
– Ой, здравствуйте! Вы Надя? Я тоже. А собаки у вас дома остались? А можно?.. А можно?.. – Создалось ощущение, что девочка полезла внутрь себя, будто намереваясь вынуть сердце из груди, но, понятно, достала чудовищных размеров телефон, не дожидаясь согласия Нади, принялась настраивать камеру на селфи.
Тут бы и задать девочке вопрос: не рано ли ей сидеть в инстаграме и тиктоке? Однако Надя не спросила, да и Прасковья тоже промолчала и спокойно самоустранилась из фотографии.
После этой небольшой возни Прасковья и Надя проникли наконец в подъезд, где пахло мокрым снегом и масляной краской. Молчаливые от какого-никакого, а все же волнения, Прасковья и Надя поднялись на второй этаж, сначала стали прислушиваться, есть ли внутри жизнь. Но понять что-либо было трудно: дом полнился телевизионными звуками и речью из квартир вокруг, слышимость позволяла различить звон бокалов и вибрацию включенного на беззвучный режим телефона.
Нажимать на кнопку звонка у двери не имело смысла – Наташа обрезала провода еще несколько лет назад, поскольку ее бесило, когда один из соседей, по пьяной лавочке перепутав этаж, начинал включать раздражающую соловьиную трель в ее квартире в два часа ночи. (Оставался еще настойчивый стук требовательным кулаком, однако Наташа и тут выкрутилась – пару раз слегка навела на соседа порчу, пока он не сообразил, что долбиться к ней не стоит.)
Они постучали – ответа не было. Металлическая дверь (наружная отделка – коричневая шагрень, два замка: сувальдный и цилиндровый), встроенная в подъезд середины двадцатого века, мало того что выглядела тут гостьей (как и все остальные двери), так еще и почти издевательски смотрела на Прасковью и Надю своим единственным серым глазком, чем-то похожим на взгляд Красной королевы из первой части «Обители зла».
«Сглаз на глаз», – подумала Прасковья, быстро вынула отмычки и вскрыла оба замка, пока Надя отвлеклась на шаги сверху. Вообще, Надя должна была сказать какую-нибудь глупую шутку насчет замков, двери, поскольку очень любила веселиться, каламбурить, как правило несмешно и невпопад, – такой у нее имелся раздражающий изъян в ее на первый взгляд безупречном образе. Однако Надя промолчала, только вдохнула, увидев довольное лицо Прасковьи.
– Ой, ну ладно! – опередила Прасковья восхищенный возглас Нади, распахнула дверь и шагнула за порог.
– Просто я люблю все эти ваши оккульттрегерские штучки, – объяснила Надя, заходя следом. – Знаешь, когда ты эдак челюсть вперед и с решительным видом что-нибудь делаешь.
В приоткрытой ванной горел свет, в кухонной раковине лежало полностью размороженное мясо для отбивной.
– Знаешь, с чего у нас вегетарианство началось? – спросила Надя.
– С Лескова? – в свою очередь спросила Прасковья, к чему-то вспомнив, что при участии Лескова в свое время была издана первая в России книга вегетарианских рецептов.
– Со стишка про попа и собаку, – ответила Надя. – У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. Не поп убил, а кусок мяса.
– О, первая шуточка в этом году. Смешно, – одобрительно кивнула Прасковья.
Они ходили в обуви по прибранной квартире, Прасковье казалось, что сейчас Наташа выскочит из шкафа и крикнет: «Ага! У себя вы в ботинках по мытому не разгуливаете! Все с вами ясно!»
Она выдернула из розетки работавшую гирлянду, заглянула в холодильник и увидела два приготовленных зимних салата, с той разницей, что в один из этих салатов были замешаны креветки, а во второй – копчености и спаржа.
Надя глянула в окно и заметила, что оранжевые «жигули» Наташи стоят возле дома. Прасковья тоже зачем-то отодвинула тюль и посмотрела на утопленный в снегу автомобиль.
– Это ничего не значит, – сказала она со вздохом. – Уже года два она ее тут маринует. Что-то с тормозами, и с двигателем, и с печкой, кажется. Все надеется как-нибудь отремонтировать, но, по-моему, проще новую купить или продать эту на металлолом, еще тысяч тридцать добавить и нормальный электросамокат приобрести.
Надя озабоченно кивала на слова Прасковьи.
Между прочим, нашелся и выключенный телефон Наташи, подцепленный к зарядному устройству в гостиной. При помощи очередного сглаза Прасковья проникла сквозь телефоний ПИН-код, а затем и через пароль.
– Вот поэтому у меня айфон и активируется через отпечаток пальца, – сказала Надя.
Такой разговор повторялся уже много раз, но Прасковье нужно было чем-то унять свое волнение, поэтому она решила заполнить его словами.
– При сглазе все равно, даже если бы через ДНК включался, – почти с зевком заметила Прасковья. – Я бы, честно говоря, всё бы отдала не за сглаз, а, знаешь, за умение, чтобы все в руках мгновенно работать начинало, без этих всех загрузок, обновлений, без этого подвисания экрана, когда тычешь в иконку, она не реагирует, тычешь второй раз, а там уже что-то открылось в промежутке между первым тычком и вторым. Или за умение текст двумя большими пальцами набирать, как сейчас все делают, кто выглядит на тот же возраст, что и я, потому что я-то когда щурюсь и указательным пальцем жму на клавиатуру – это выдает, что я гораздо старше, чем кажусь.
– Поверь, вовсе не это выдает в тебе человека, который гораздо старше, чем кажется, – заметила Надя, хитро блеснув глазами. – Плейлист с Муслимом Магомаевым и Анной Герман – вот что выдает. …А вот если бы я умела в сглаз, таких дел бы натворила! – сказала опять же Надя, но на этот раз с коварством во взоре.
– Каких дел? – усмехнулась Прасковья. – В личку к людям бы залезала? Ну вот смотри, Наташа – необычный человек, она вся такая трется меж визионерских сил, как ты сама знаешь, вся такая ведьма. Казалось бы, у такой женщины должны быть необычные обои на рабочем столе, какие-то фантастические фотографии, где не городские достопримечательности, а НЕВЕРОЯТНЫЕ ЛОКАЦИИ, фотографии сосвечами, пентаграммами и хрустальными шарами, какое-нибудь экстремальное видео. Но на фотографиях вот – дурацкие селфи, гомункул. Среди последних приложений вовсе не тиндер какой-нибудь, а список покупок, ютьюб, открытый на ролике с рецептом. Чего от остальных людей ждать, которые и вовсе обычной жизнью живут? Но – чу! Может быть, она в ватсапе обнаженку демонам кидает или пытается соблазнить чьего-нибудь богатого супруга…
– Обнаженка, – перебила Надя. – Вот еще слово, которое выдает в тебе человека старше, чем ты есть. Сейчас не обнаженка, а нюдесы или даже нюдсы. И не смешные картинки с подписями, даже не мемы, а мемесы.
– В любом случае, дорогая Надя, в ее переписке мы наблюдаем именно смешные картинки с подписями, а не мемесы, – возразила Прасковья, вертя перед лицом Нади чужим смартфоном с диагональной трещиной через весь экран. – Потому что демотиваторы с Мальчишом-Кибальчишом, Чапаевым вот, Чубайсом – это именно что смешные картинки. И, к сожалению, они не дают ответа на вопрос, куда пропала Наташа.
Прасковья проверила переписку Наташи с Артуром, чертом, который с недавнего времени за Наташей приударял, но в последних сообщениях было только несколько вопросов: «ты где?», «ты в поряде?», «чего не отвечаешь?», оставшихся без ответа. Прасковья влезла в их чат, объяснила, что Наташи пока нет, а где она, неизвестно. Артур был знаком с нравом Наташи – она никогда ни от кого не скрывала душевных порывов и скачков настроения, – поэтому довольно беззаботно написал в ответ: «Ну лан, пускай позвонит, когда появится, а то я тут в Екб тусуюсь, ей было бы интересно».
– Как бы то ни было, – продолжила Прасковья, – я еще не завтракала ни фига, знаю, к чему все идет, и не готова к встрече с херувимом на голодный желудок.
Она повесила пальто на вешалку в прихожей, разулась, нашла тряпку в ванной, стала затирать собственные следы (Надя следов не оставляла), затем вымыла руки, поставила чайник, убрала кусок мяса из раковины в холодильник, вытащила из холодильника салат с копченостями.
– Но и сильно наедаться тоже не стоит, – подсказала Надя. – У херувима и укачать может.
– Никогда не была у херувимов первого января, – ответила Прасковья, поедая отгруженную в отдельную тарелку порцию салата.
Она не решалась сесть ни на один из пустующих кухонных табуретов. Надя тоже почему-то стояла. Наступал вечер, и пришлось включить свет.
– Мне кажется, они просто продолжают то, чем занимаются весь год, и никакой разницы нет, – предположила Надя, глянув на лампу у себя над головой. Лампа была в виде белого шара с зелеными и черными прожилками, словно украденная из музея советского быта. – А может, они сердитее, чем обычно. Сейчас вообще трудно загадывать, так все меняется. Раньше, когда я заглядывала к тебе, буквально года четыре назад, все было сурово и при этом карикатурно. Действительно, как в дурном кино про окраины, люди сидели на корточках, тут же барсетка, тут же семечки, четки вертели в руках. А сейчас велосипедисты, бегуны, хипстеры до нас докатились, так интересно, на самом деле. Может, и на херувимов это как-нибудь повлияло.
– Представляю, если они на крафтовое пиво перейдут или на винишко. Или вискарь из такого ценового сегмента, который превращает алкоголизм во что-то вроде… не знаю, как сказать, безобидного увлечения с фетишами. Хайболы такие-сякие, разные наборы камней. Дорого же тогда встанет общение.
– Даже не деньги проблема в этом всем, – сказала Надя. – А то, что Сережа (мы же к Сереже сейчас поедем?) начнет продавцам правду о процентах контрафакта говорить. Как тогда с текилой из Ставрополья.
Видимо, заметив не очень веселую усмешку Прасковьи, Надя спросила:
– А ты сама? Ты же первого января тоже особо никуда… Тяжело?
Прасковья неопределенно повертела вилкой в воздухе, не находя слов, но все же ответила:
– Ну вот эти все воспоминания наваливаются неприятные, да, не очень хочется скакать и веселиться. Но это же привычно. Не так трудно, как в первые годы. Сейчас накатывает, но ведь это уже, грубо говоря, одна двухсотая от всех воспоминаний, что у меня есть. Честно говоря, жду, что мне что-нибудь заслонит этого парня из четырнадцатой квартиры, но пока не судьба.
– Ну еще нужно учитывать, что не так много времени прошло, – сказала Надя, пытаясь быть настолько убедительной, что верхнюю половину ее тела даже слегка отшатнуло от Прасковьи, будто убеждение обладало отчасти еще и реактивной силой. – Сейчас смотрю на себя тогдашнюю, даже десятилетней давности, как на кино, честное слово, а что-то более давнее – оно совсем смешалось с фильмами и книгами. Оглядываешься назад и уже не можешь различить: где твое, где за тебя уже придумано, где придумала сама. Точно знаю, что говорила на французском, но все выветрилось теперь английским. Иногда вспоминаю что-то, а ощущение, как от этой пошлой песни: «Послушай меня, деточка, прабабушку свою». И слово «пальто» склонялось, и мигрень была мужского рода, но это просто бессердечные факты, способ поддержать беседу.
– У меня не так, – вздохнула Прасковья. – Сама знаешь. Сколько раз мы об этом говорили, ничего не меняется. Я помню, как меня пороли, как сквозь строй прогоняли, всю эту березовую кашу помню так, будто она вот только сейчас была, в каждый из дней, похожий на этот, что сегодня. Вот такой же, с легким морозом. Умела бы рисовать – каждое из лиц, что тогда вокруг были, могла бы набросать на бумаге. И много всего перед глазами стоит…
Последние слова уже сопровождали мытье наклоненной в раковину тарелки; Прасковья, говоря про глаза, действительно слегка потрясла перед лицом пенной рукой, в которой сжимала губку для мытья посуды, да так и замерла, когда послышался требовательный, из пяти ударов, стук кулаком в дверь.
Надя обмерла, а Прасковья спокойно сполоснула руки, вытерла их вафельным, но цветным полотенцем (Прасковье до сих пор казалось странным, что вафельные полотенца могут быть еще какими-то, кроме как белыми; именно белыми, скрученными в жгут, смоченными для увесистости, она получала многократно даже и по лицу, точнее помнила, что получала). Когда стук повторился, Прасковья, не скрывая некоторого азарта, взглянула исподлобья на слегка обеспокоенную Надю.
– Если это снова твоя поклонница малолетняя за очередными фотками пришла и друзей своих навела, я ей по жопе надаю, – пообещала Прасковья.
Понятно было, что девочка так колотить не могла, разве что головой и изо всех сил, поэтому Прасковья, не без радости ощутив, как дремотное чувство недавней сытости сменилось в ней азартом служебной собаки, которую вот-вот спустят с поводка, выступила в прихожую, достала из кармана пальто инструмент для порчи, надела его на руку и с удовольствием, будто являлась хозяйкой квартиры и ждала гостей, спросила:
– Кто там?
– Открывай, тварь ты лицемерная! – ответил из-за двери пропитой и простуженный низкий мужской голос и завел привычную Прасковье шарманку: – Тонет твой проклятый город, пока ты жрешь, пока себя жалеешь, пока рисуешься перед грешниками и демоном! Думаешь, отработала ночью? Думаешь, сейчас работаешь? Вот уж я задам тебе работку, мразота.
– Да что ж ты такой злой всегда? – невольно возмутилась Надя, но не с претензией, а больше с детской обидой. Так детсадовец восклицает, перед тем как расплакаться.
Прасковья уже убирала орудие порчи обратно в пальто, потому что, совершенно очевидно, за дверью находился их знакомый херувим Сергей.
– Ты там один или с дружками своими придурочными? – поинтересовалась в свою очередь Прасковья.
– Один, один, – ответил Сергей уже более миролюбиво. – Как счет в футболе.
Даже сквозь дверь было слышно, как он почесал щетину.
Глава 3
Много различных знаний порой вылетало у Прасковьи из головы, воспоминания исчезали, но она точно знала, что по своей природе ангелы не могут задерживаться на земле очень долго. Витаминов им, что ли, не хватает. Или среда слишком токсичная, бог их знает. День, два – и привет. Впрочем, была пара исключений.
Во-первых, престолы – поскольку в материальной форме способны питаться электричеством, то в виде неоновых, светодиодных вывесок, изображений в телевизорах, а иногда и на экранах смартфонов живут среди людей много лет, внушая смертным подсознательный восторг и трепет.
Во-вторых, конечно, херувимы, наиболее крепкие из всей этой братии. Но даже им приходилось нелегко. Чтобы поддерживать материальную форму, им нужны были или спирт, или сахар, из-за чего у них наблюдались проблемы или с печенью, или с зубами. Неумение лгать и мессианская потребность доносить до людей правду являлись причинами травматического нездоровья других частей херувимских тел. Кровоподтеки, вывихи, трещины в костях – все это было следствием правдолюбия и неспособности к вранью. Из неземной природы проистекали и странные представления о гигиене. Нет, херувимы не запускали себя, как некоторые люди, до степени заплесневелого хлеба, погибшего на жаре пакета молока, трехдневного мусорного мешка, куда накиданы луковые очистки, окурки и рыбья чешуя, но все же не пахли парфюмом; смесью щей и табака от них вечно несло, лежалой шерстью.
«Печально все это», – подумала Прасковья, покуда Сергей медленно заходил в открытую квартиру. Он делал это так неловко, что создавалось ощущение, будто действительно за спиной у него имеются огромные крылья, которые мешают пролезть в дверной проем.
– А, сука, – сказал он несколько раз – сначала когда споткнулся, затем когда разувался, когда раздевался и не мог повесить лоснящуюся от грязи дубленку за воротник, поскольку петельки у дубленки не имелось.
Был он коротко стрижен, но все равно лохмат теми остатками волос, что сохранились у него между залысинами на висках и плешью на макушке. Смуглый и обветренный, с трещинами на губах и болячкой в углу рта, вокруг которой не росла черная блестящая щетина из толстых редких волосков, слегка одутловатый, рыхлый, как подмерзшая картошка или старая половая тряпка, он внушал Прасковье чувство отвращения, некоторого страха, но и восхищения тоже, потому что светло-зеленые глаза его почти светились совершенно неземным огнем нечеловеческого знания. Этих глаз и не выносили всякие подвыпившие компании, случайные гопники прежде всего пытались частично загасить это пламя ударом в переносицу или в бровь.
На демонов этот взгляд действовал тоже, но только чарующим образом.
– Что уставилась? – спросил у Нади Сергей, как только она попалась ему на глаза. – Можешь не стараться. Мне, кроме моей дорогой Марии, ничто больше не нужно из вашей погани.
– Так я… – начала было оправдываться Надя, но при этом не без симпатии смотрела на него: на его страшное лицо, на свитер, изначально белый, а теперь желтоватый, прожженный в нескольких местах сигаретами, покрытый чем-то вроде микроскопической пыли; на спортивные штаны с лампасами, под которые для тепла были надеты еще какие-то штаны; на шерстяные носки, поеденные молью.
Видя эту симпатию, Сергей рассердился еще больше, начал было и вовсе впадать в ажитацию: ругаясь, полез в карман штанов, где обычно таскал заточку, – но тут вмешалась Прасковья.
– Чего хотел? – спросила она. – Нет, ну кроме того, что понятно. Выпивку я принесу.
Сергей словно очнулся после этих слов, но не сводил взгляда с Нади, в глазах его появилась мечтательная рассеянность, будто он не мог до конца прийти в себя.
– Ну-ка, что это еще за гляделки? – слегка взъярилась Прасковья и потащила херувима в гостиную. – Ты там сиди! – приказала Прасковья Наде, потому что та, как завороженная, устремилась за ними следом.
Прасковья толкнула Сергея в кресло, хлопнула по засаленному выключателю – в люстре горели две лампы из четырех, что-то было в этом свете сродни полупадшему херувиму: не слишком темно, но и не сказать, что светло. Сергей откинулся к спинке кресла, скрестил ноги, сплел кисти рук, локти развел, отбросил голову куда-то вбок – это почему-то напомнило Прасковье па из «Танца маленьких лебедей».
– Грохнули твою Наташку, – сказал Сергей и усмехнулся, разглядывая картинку на стене – невероятно яркий водопад, окруженный брызгами и пеной, похожей на куриные перья. – Допрыгались. Киднеппершу проморгали. Жди. Теперь за тобой придут.
Услышав про киднеппершу, Прасковья, что называется, заскучала.
Так получалось порой, что реальность складывала нейроны в голове какой-нибудь девушки из обеспеченной семьи в знание, что есть черти, ангелы, оккульттрегеры, гомункулы, где они все живут, как выглядят. Девушка сама решала, каким образом поступить с этим знанием. Большинство подобных случаев, скорее всего, ничем не заканчивались, поэтому Прасковья о них попросту не знала. Но бывало, что девушку привлекала идея стать бессмертной. Тогда она могла просто прийти, например, к Прасковье и потребовать отдать ей гомункула, Прасковья не имела права отказать. Получив гомункула, кандидатка в оккульттрегеры должна была угадать настоящее имя гомункула. Если угадывала – всё, гомункул переходил к ней, а бывший оккульттрегер становился обычным смертным человеком.
Всё бы хорошо, но девицы, которых посетила идея отжать гомункула, никогда не приходили сами, чтобы просто попросить. Они затягивали в свою игру влиятельных родственников, друзей, окружающих, те подключали свои связи, и начиналась нездоровая кутерьма. В прошлый раз такое приключилось с Прасковьей, насколько она помнила, в шестидесятые. Тогда ее даже в колонию упекли, чтобы присвоить гомункула, и Прасковья несколько лет и чалилась, и жила человеческой жизнью, даже естественным образом постарела года на три.
Сергей усмехнулся, чем пробудил Прасковью из мрачной задумчивости, скосил глаза куда-то вниз и сказал:
– …А надо чаще заходить, отрабатывать грехи. Оно, конечно, с чертями веселее, но и про нас забывать не надо. Тонет город, а им и дела нет. Муть появилась, а они и не чешутся.
– Мог бы и сам зайти, раз такой сознательный.
– Не сознательный. Триста метров медного кабеля в заброшке и всепроникающий взгляд. Всё вместе – безбедная жизнь, беззаботность, отданные долги.
– Тогда хорош проповедовать, – попросила Прасковья. – Как убили? Если киднепперша, то смысла нет Наташку убивать.
– А это все от недопонимания, – вздохнул Сергей. – Киднепперша, наверно, папу своего попросила для похищения каких-нибудь отморозков нанять, Наташка решила, что это не про гомункула, а просто какие-нибудь ушлепки с проблемами в половых вопросах. Одного покалечила, а второй ее застрелил да и прикопал кое-где в снегу.
Они помолчали.
– Так понимаю, ты не скажешь, где она теперь, – поняла Прасковья.
Сергей ничего не ответил. Надя незаметно появилась в двери прихожей, на нее Сергей и воззрился осуждающе, заегозил, видимо подбирая оскорбительные слова.
– Давай уже тогда прекращай скромничать, – напомнила Прасковья. – Опохмел. Что еще?
– Заботы кое-какие накопились, пока я сибаритствовал, – хрипло и неохотно отвечал Сергей.
Как и всякий алкоголик, Сергей умел мотать нервы, ходить вокруг да около каждого дела, множа планирование там, где требовалось просто что-то решить, нагонял на себя ненужную солидность, казалось, наслаждался собственной неторопливостью. При этом в делах, где как раз требовалось подумать, прикинуть, он проявлял безоглядную решительность. Сразу приняться за работу – ни в какую. Влезть в спор, в драку – всегда пожалуйста.
– Но сначала спирт, – сказал Сергей таким голосом, будто испугался, что его сейчас прогонят.
– Сходишь? – спросила Прасковья Надю, Надя покивала.
– Ей не продадут, – уверенно заметил Сергей. – Подумают, что она тайный покупатель. Давай мне карту, я сбегаю по-быстрому.
– Разбежался! – злобно рассмеялась Прасковья. – Где тебя потом разыскивать, интересно знать?
– Тогда сама сходи, – предложил Сергей. – Иди, раз такая умная. Тебе продадут. У тебя рожа попроще.
– Всем вместе можно… – почти шепотом сказала Надя, поглядывая в смартфон, набирая там что-то.
– Подумают, что до нас алкаш вяжется, – уверенно возразила Прасковья, – заступаться начнут, по голове ему настучат. По-хорошему, вас бы правда двоих тут оставить, но вы или сойдетесь, или слово за слово – и он тебя порежет, Надя. За вами глаз да глаз, да и этого мало. Что молчите? Вы бы хоть, ребята, возразили, не знаю. Дали бы честное слово, что близко друг к другу не подойдете. Сережа, может, мартини тебя устроит?
Сергей дернул половиной лица, изображая что-то вроде аристократической брезгливости.
– Только после основного блюда, – сказал он, но, услышав, как Прасковья раздраженно цыкнула, подумал и согласился: – Хотя давайте. И поесть чего-нибудь. И можете обе идти.
– А ты тут в какую-нибудь нычку у Наташки лапу не сунешь, пока нас нет? – спросила Прасковья.
– Нету нычки, – сказал честный Сергей. – Она с деньгами и картой в магазин пошла, когда ее того-этого. Телефон, конечно, или телевизор, или сережки и кольца, не скрою, есть соблазн увести, потому что они ей пока без надобности, но она же потом все глаза мне выцарапает, когда хватится.
– Давай-ка мы тебя закроем, пока ходим, – заключила Прасковья. – Ты не обидишься?
Херувим неторопливо поднял на нее трезвые усталые глаза, спокойно сказал, гордо дернув подбородком:
– А что тебе до моих обид? До моих предостережений? Что тебе мои мольбы? Пиздуй давай уже за выпивкой.
Когда он или какой другой херувим смотрели так, говорили таким спокойным голосом, Прасковья на какой-то очень краткий миг чувствовала их правоту (которая все же так и оставалась для нее непонятной), ощущала их херувимскую суть из всех этих крыльев, света, слов, которые как бы ни были тихи, однако ошеломляли. Под таким взглядом она оказывалась все равно что вбитой по колено в землю.
Чтобы развеять это чувство, Прасковья спросила, вздохнув со старательным снисхождением:
– Сколько фанфуриков покупать?
– Да уж прояви щедрость, – с прежней развязностью сказал Сергей.
– Может, водки купить? Что ты с этими пузырьками?
Сергей опять аристократически покривился.
Вообще, если бы не трудная ночь до этого, Прасковья не так остро воспринимала бы три обычных херувимских состояния: и эту взвинченность, похожую на кружение водки в бутылке, которую собираются опустошить из горла, и монументальную серьезность, и пустую ленивую говорливость, в которую впал Сергей, когда принял разбавленный водопроводной водой спирт поверх салатов и найденной и выпитой в полчаса бутылки шампанского. За те тридцать минут, пока Прасковьи с Надей не было дома, Сергей чересчур освоился в чужом доме: успел расставить по квартире несколько грязных стаканов, несколько грязных тарелок, кинул на спинку кресла свитер, – так что по возвращении пришлось сконцентрировать все это на кухне, усадить Сергея за кухонный стол и ждать, когда он, опьяневший, но при этом, наоборот, будто более трезвый, чем когда пришел, закончит болтать на отвлеченные темы.
– Что человек? – спрашивал он в пустоту, сам же и отвечал: – Человек – это таракан, ползущий по баллончику с дихлофосом. Замасленная ветошь, ползущая по кислородному баллону. Может, ну его, этот мир, девочки? Что-то чем дальше, тем хуже. Маришку жалко, конечно, но она же сама свой выбор сделала. Наташку жалко, но ведь могла быть и осторожнее. Ты ведь, Парашенька, никогда бы не вляпалась, как твоя товарка беспутая, согласись? Да и толку от вас? Что есть вы, что нет. Столько бесприютности, словами не передать. Столько беспризорников – взрослых и детей, – такого, наверно, никогда не было. Даже в девяностые, чтобы оказаться одному среди чужих людей, нужно было всех своих близких потерять, а сейчас? Полная семья, а ребенок среди незнакомых шастает, не знает, к кому приткнуться, ищет, где бы что украсть, кого бы обмануть, как бы себя продать подороже, чтобы накупить какой-нибудь ерунды, а его родители заняты ровно тем же самым. Цок, цок, цок, сердечки, комментарии. Пустыня, пустыня, вам говорю! Земля, посыпанная солью проклятий и клятвопреступлений. Земля, на которую всем наплевать по большому счету. Тонущий город, где люди ходят по горло в воде – и видеть не хотят, что тонут. Уже и муть, и взвесь, и тоска. И ладно люди слабы. Но чтобы демонов все это разобщило! Было ли когда-нибудь такое время?
– Такое время всегда и было, – осторожно вступила Надя. – Демоны всегда были разобщены, в этом и смысл. Иначе мы бы всю Землю заселили. Нас влечет к людям, к херувимам, а к своим не очень. Это лишь в сказках у нас все организованно. Почитаешь, посмотришь – чуть ли не вермахт. А на деле – каждый за себя. Не ссоримся, конечно, праздники вместе, тусовки какие-то, троекратные поцелуи в воздух, но чтобы так, как с Прасковьей, например, такого нет. Как-то не складывается.
Надя перехватила взгляд Прасковьи, который означал «Давайте ближе к делу», но поняла его иначе. Добавила:
– Ну или во мне дело. Есть демоны, у которых семьи, даже детей рожают, а я все не могу взять на себя такую ответственность. Некоторые с людьми живут, но это бессмысленно. Детей в таком браке нет. Лет через пять становится заметно, что что-то не так. Человек стареет, демон – нет. Разве из природной потребности подселиться, слегка кровь попортить…
Сергей, наблюдавший за Надей, пока она говорила, таким взглядом, каким смотрят на муху и ждут, когда она сядет, внезапно ударил кулаком по столу.