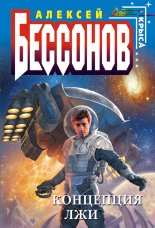Глухомань Васильев Борис

Часть первая
Глава первая
1
Хуже всего переваривается пуля из винчестера времен англо-бурской войны. Особенно если она до сей поры сидит в вашей заднице, уж это я знаю по личному опыту. Не верите?.. Тогда абзац. Можно ли на макаронной фабрике делать патроны? Отвечаю: можно, если калибр макарон 7,62. Фабрику именно такого калибра открыл товарищ Микоян Анастас Иванович еще до войны в поселке при станции Глухомань. В цехах торгово-витринного назначения расфасовывали макароны, а за ними, в глубине территории, за дополнительной колючей проволокой и еще более колючей охраной, тем временем преспокойно штамповали патроны самого привычного образца. В сорок первом на нашу станцию начали прибывать эшелоны из Тулы со станками оружейных заводов. И быстро наладили производство знаменитых винтовок времен Гражданской войны калибра 7,62, пятизарядных образца 1891/30 г. Потом война кончилась, а производство осталось. За это поселок Глухомань получил статус города и даже стал районным центром всесоюзного макаронного значения. О винтовках с патронами в те времена как-то не принято было говорить.
Вот туда-то меня и направили после окончания института. В направлении было указано, что назначаюсь я на должность мастера, но сначала обязан зайти в военкомат по месту прописки. Я зашел, предъявил диплом и назначение (а может, наоборот, не помню) и вышел старшим техником военной приемки в звании лейтенанта с документами на получение соответствующего армейского снаряжения. И уже в полной военной форме прибыл в город Глухомань на макаронную фабрику имени товарища Микояна.
Конвейер, выбрасывающий цинковые патронные ящики, лязгал сочленениями в одном цехе, винтовочки выпускали в другом, комплектация и упаковка – в третьем и четвертом, а остальные, как говорится, сверлили дырки в макаронах. Я, как представитель заказчика, был обязан отстреливать по одной винтовке из каждого десятка готовой продукции. Если при этом винтовка не взрывалась, я подписывал акт приемки, винтовки и патронные цинки запаивали, а я шел пить спирт к начальнику ОТК. Жизнь шла под сплошной винтовочный грохот, столь же однообразная, как сами патроны. Я малость озверел от ежедневной пальбы, скоропалительно женился на смазливой макаронщице Тамарочке и обзавелся семьей, жильем и друзьями, как то и положено в нашей Глухомани ради статуса настоящего мужика. Уважающего выпивку на троих и баньку с паром, веничком и пивом. Вам бы мужские разговоры послушать в этой баньке с тем еще парком… Сразу бы абзац запросили.
Однако в Глухомани я никого не знал, а потому даже такая анекдотно-матюгальная сфера как-то сближала, что ли. Ну, а через нее, сферу эту, я и в иные глухоманские сферы попал. Вместе с Тамарочкой.
Сделаем абзац для перекура и обрисуем некие фигуры, занимающие в Глухомани некие кормящие кресла. Впрочем, я их наблюдал сидящими на стульях вполне советского производства, поскольку все встречи проходили за столом в непременнейшем порядке.
Напротив нас – а мужья сидели рядом с женами, поскольку «так полагалось» – всегда почему-то оказывался местный зубной техник Николай, имея по правую руку супругу Виолетту. Дальше по порядку шел мастер куаферного дела Константин с женой Анютой, завмаг «Канцелярских товаров» Тарасов со своей Лялей, а завершал все это директор совхоза «Полуденный» Игнатов Василий Федорович с женой Ларисой. Она славилась тем, что после третьей рюмки начинала петь весьма двусмысленные частушки, от которых наши дамы стыдливо опускали глазки и несмело хихикали. Все этого момента ждали, и я тоже ждал, но потом почему-то стал ощущать какой-то жарок внутри. Странный такой жарок, с кислинкой.
Василий Федорович, вероятно, тоже ощущал нечто похожее, почему уже после второго приема внутрь накрывал ее рюмку ладонью, ведя строгий счет. Однако это не всегда ему удавалось, так как он сам не дурак был выпить, счет своим личным рюмкам не вел, и наш общепризнанный затейник Константин порой успевал подсунуть его певунье лишний бокальчик. Она начинала орать свои припевки, а супруга куаферного мастера (это он сам себя так называл, поскольку почему-то не любил слова «парикмахер») непременно уточняла специально для меня:
– Женщины делятся на дам и не дам.
Директор обладал редкой уверенностью, будто все вокруг в полном ажуре, что в конце концов и привело к полному развалу некогда вполне дееспособный совхоз. Но Игнатов не унывал, чокался и опрокидывал рюмки, рассказывал легенды о немыслимых царских охотах и вообще дышал полной грудью.
– У него – рука в Москве, – сказал мне парикмахер. – Даром, что ли, всегда об охоте рассказывает. Он ведь егерем служил в охотничьем хозяйстве не для всех.
Чужие руки занимали куафера Константина целиком, будто он страдал неодолимой почесухой. Спорить с ним было абсолютно бессмысленно, я пробовал. В ответ на мои предположения, что у человека могут быть способности, усидчивость, талант, наконец, он только покровительственно ухмылялся:
– Смех думать. Никто никого вперед себя не пропустит, если его московская рука мимо не обнесет.
«Упрямничает», – говаривали наши дамы, и это тоже меня донимало, надо прямо сказать. Может, оттого донимало, что я рюмками грохот в ушах заливал весьма усердно.
Особенно когда натыкался на все и навсегда понявший взгляд Василия Федоровича (это у которого, стало быть, «рука»). Взгляд был полон неколебимого превосходства, а рожа лоснилась, как у моей Тамарочки после горсти удушливого крема. Этот же самый липкий аромат помады витал в воздухе в началах всех наших посиделок, но потом исчезал то ли от моих рюмок, то ли от дамских кокетливых пригублений.
– Ах, что вы, что вы! Ах, я не употребляю совершенно. Только разве что за компанию.
Дамы участия в застольных разговорах не принимали. Они оживленно шушукались, передавая какие-то известия по цепочке за мужскими спинами, и непременно хихикали, когда что-то доносилось. Особенно – откровения директора совхоза:
– Люблю банек, пивок, парок да девок!
Домой Тамара приносила рецепты блюд, которые никогда не пробовала готовить, и охапки дамских пересудов. Кто, с кем, когда и где. Все их интересы концентрировались только вокруг постельных подробностей. Особенно когда дозревал до кондиции хмурый, но очень даже горластый зубной техник Николай:
– За границей все зубы рвут. Рвут и вставляют вечную улыбку. Безжалостно.
– Зачем же, если свои хорошие?
– А затем, что их искусственные зубы так сделаны, что сразу говорят: «Хочу тебя».
Дамы опускали очи, робко хихикали и изо всех сил старались покраснеть.
Точно так же они поступали, когда подвыпивший завмаг начинал рассказывать какие-либо истории. Не от рассказа, а от часто употребляемого буквосочетания «ё-мое», которым он приправлял рассказы в самых неожиданных местах.
– А муж, ё-мое, аккурат в командировке, ё-мое…
Однако Тамаре очень нравились эти посиделки, платья, прически, сплетни, женское хихиканье и густой мужской гогот. И я – терпел, поскольку имел еще некоторый запас терпения, да и деваться в Глухомани было больше некуда.
Кроме того, давайте честно признаемся, мне нравилась супруга завмага Тарасова Ляля. Нравилась так, как нравится, скажем, хорошо поджаренный кусок доброго мяса, не более того. И она это чувствовала, и Тамарочка моя тоже чувствовала, и остальные дамы – тоже, хотя ровно ничего меж нами – то бишь между мной и Лялей – даже сказано не было. И глаза я на нее особо не пялил, а поди ж ты, дамы хихикали и многозначительно переглядывались. А порою и шептались за нашими спинами. И меня это все почему-то перенапрягало. Может быть, как раз потому, что меж нами даже переглядов особых не случалось.
А тут разладился конвейер на винтовочной линии. Ни заводской, ни военпредовский контроль обнаружить какого-либо брака у целой партии не смогли, но при отстреле первая же винтовка выдала траекторию, которая не укладывалась ни в какие нормативы. Мне пришлось отстрелять пятьдесят две штуки подряд, прежде чем я смог точно установить, что из этого оружия удобно стрелять только из-за угла. Мушки оказались смещенными, я забраковал всю дневную выработку, конвейер встал, а я добрых сорок минут ругался с главным инженером. Пока он не возмутился:
– А почему ты орешь?
– Что?.. – гаркнул я.
– Орешь почему, спрашиваю?
– Потому что уши у меня заложило от вашей продукции!..
Орал я потому, что не терплю, когда орут на меня. Это – во-первых. А во-вторых, я плохо соображал после аврального отстрела, с трудом понимал, что мне толкуют, а барабанные мои перепонки чесались уже нестерпимо, и у меня было твердое убеждение, что они зарастут коростой, если я их не почешу.
Поорали и разошлись. Я пошел домой, а дома Тамарочки не оказалось, и тут я припомнил, что сегодня у кого-то какая-то встреча. И пошел неизвестно куда.
Словом, пока я, основательно поплутав, добрался до попойки, меня, похоже, уже никто и не ждал. Дверь почему-то оказалась открытой, из большой комнаты – «зала», как все здесь называли те квадратные метры, в которых спали сами родители, запихав детей в примыкающую к большой комнате маленькую, – доносилось знаменитое «ё-мое» завмага, и я, никого не тревожа, снял куртку и пошел в ванную вымыть руки. Путь в нее лежал почему-то через кухню, и, войдя в эту кухню…
Нет, тут перекурить надо, сами понимаете. Если бы я тогда вовремя перекурил где-нибудь на лестничной площадке…
Но я не перекурил. А потому, войдя в кухню, увидел свою Тамарочку, прильнувшую к зубоделу Николаю, и этот зубодел Николай откровенно ее оглаживал по довольно приятным возвышенностям, обтянутым крепдешиновым платьицем.
Это оказалось последней каплей. Точнее – самой последней. Я схватил зубтехника за плечо, оторвал от возвышенностей лично мне принадлежавшей супруги и саданул ему между глаз от всей своей перестрелянной души.
Полный абзац продолжился дома.
2
Господи, ты же учил терпеть! И чего это меня после получения высокого глухоманского статуса вдруг понесло делиться своей профессиональной скукой и житейской тоской с вышестоящими инстанциями?..
Мой рапорт с доказательством абсолютной никчемности собственной должности попал на стол самому главному винтовочному генералу, который тут же пожелал познакомиться с автором. Я прибыл и предстал. Он долго и с удовольствием втолковывал мне, что наша армия давным-давно перешагнула винтовочный уровень, а потому мы поставляем винтовки и патроны к тем народам, которые еще не доросли до автоматов, но уже осознали необходимость построения социализма в одной отдельно взятой африканской стране. И что в одной из таких передовых стран случилась небольшая неувязочка с калибрами, в которой мне для утешения заскорбевшей души и предстоит разобраться.
– Вовремя ты подвернулся! – радостно сказал он мне на прощанье и даже пожал руку.
Это я потом понял, что означают напутственные слова и братское пожатие генеральской руки. Потом, когда валялся в госпитале. Все мы крепки задним умом, как легированная сталь.
Но – для, так сказать, запевки, что ли… Вы когда-нибудь обращали внимание, что континенты сходят с ума по очереди? К примеру, в двадцатом веке сначала сбрендила Европа, провалившись во Вторую мировую, которая для нас обернулась Великой Отечественной. Затем наступил черед Азии с ее вечно мокрыми джунглями, почему брезгливым американцам и пришлось изобретать напалм. Затем всласть постреляли в Латинской Америке, начав с Острова свободы. Ну, а на мою долю досталась Африка. Романтики, уцепитесь за стул двумя руками или суньте голову под кран с ледяной водой!..
Абзац.
Оформили меня быстро, даже гражданский костюм выдали за казенный счет. И отправили почему-то через остров Мадагаскар вместе с капитаном Заусенцевым (тоже, естественно, не в мундире). Заусенцев уже бывал в странах Левинсона, Стенли и похитителей бриллиантов, что навеки замерло в его тоскливых глазах. Но я тогда взбрыкивал, как молодой жеребец, и в мужские глаза не заглядывал. Разум приходит не столько с возрастом, сколько с опытом. Разумеется, печальным, поскольку веселый опыт ничему ровнехонько не учит. Проверено.
А тогда я в самолете приставал к капитану с вопросами. Какова она, эта самая Африка, и что мне надлежит там делать ради достойного исполнения приказа Родины. Заусенцев вздыхал и отмалчивался, а потом достал бутылку «Столичной» и предложил перейти к делу. Я отказался, а он начал припадать к горлышку.
– С кем мне там скорее всего предстоит общаться: с кафрами или с банту?
– Со вшами, – мрачно изрек он и отхлебнул. – С москитами, мухами, тараканами, клопами и другой зловредной пакостью. Старайся не расчесывать, морду наверняка разнесет.
– Там очень жарко?
– Как в сауне, – он снова отхлебнул. – Ни в какую воду не лезь…
– Крокодилы? – осведомился я как можно хладнокровнее.
– Чего?.. – презрительно переспросил он. – Кино насмотрелся? Пиявок там навалом! И прочих червивых тварей. Не чешись, как на родине. И старайся не пить никакой воды. Ни глотка по возможности.
– Ни глотка?
– Ни глотка, – отрезал он и, естественно, отхлебнул. – Виски с водой, и ничего больше.
– А где же я виски возьму?
– Ай вонт ту дринк виски вери-вери мач. Так и отвечай на все вопросы, пока не дадут бутылку.
– Целую бутылку?
Он больше не сказал мне ни слова. Ни единого. А когда мы наконец сели в Антананариву, у него заболел живот. В гостинице его освидетельствовали врачи, с которыми он объяснялся на неизвестном мне языке, и мой капитан окончательно выпал в осадок. Вот такой абзац в моей жизни.
3
На второй день я куда-то вылетел на ржавом, тарахтящем, трясущемся и грохочущем самолете один. Если не учитывать черного экипажа и некоторого набора английских слов в моем русском произношении.
Я трясся на холодном железном полу, стуча зубами, поскольку от большого ума вылетел в одной рубашке. Все мои знания об Африке ограничивались доктором Айболитом с небольшой долей Луи Буссенара. Вокруг меня радостно скалили зубы сплошные натуральные негры, говорящие на каком-то бесспорно человеческом, но отнюдь не английском языке. Я тоже сначала скалил все свои резцы, но потом окончательно продрог и заговорил по-английски:
– Гив ми плис ту дринк. Ту дринк плис.
Про виски я забыл, но, полагаю, к счастью, иначе бы они меня неправильно поняли. А так – правильно, сунув мне в руку стакан с какой-то жидкостью. Я сказал «сенк ю» и хлебнул от души. Отдавало чем-то хмельным, но, сдается мне, лишь налитым в стакан из-под виски. Тем не менее я малость согрелся, и тут мне жестами объяснили, что мы собираемся садиться. И – сели, подпрыгивая на буераках. Не успел я выбраться из этого летающего устройства, как меня…
Абзац. Дух надо перевести.
Ну, считайте, что перевел. Схватили меня в полном смысле слова в охапку, кинули на дно железного кузова какой-то автоколымаги и начали срочно заваливать мягкими и жесткими предметами вперемежку. Багажом, словом. Это было не тяжело, но несколько неудобно, особенно когда мы с ревом и грохотом тронулись куда-то по тем же буеракам и весь этот багаж стал исполнять чечетку на моем теле. Каждый загруженный предмет сначала одиноко подпрыгивал и столь же одиноко падал на меня, а поскольку с багажом они постарались, то в сумме я оказался избитым до синяков. А ойкать не решался, что в определенной мере создавало как бы синяки внутренние.
Спасло то, что ехать было недалеко. Доехали. Куда – не спрашивайте, я ничего разглядеть не успевал. Разгрузили от багажа машину, а меня сунули в какую-то хижину без окон, но – со щелью, изображающей дверь. Накормили. Чем – тоже не спрашивайте, все равно не знаю. Одно могу сказать точно – не мясо, но и не рыба. Может быть, тушенные в горьком масле бананы, может, что-то еще. Выжил, но даже перекурить не дали. Снова – на божий свет, снова – на пол машины, снова – загрузка. На сей раз какими-то циновками, зато – с головой и почти без воздуха.
Тронуться не успели, как я весь зоопарк так вовремя заболевшего капитана Заусенцева припомнил. Может быть, кроме вшей. Но мух, клопов, тараканов и еще чего-то ползающего, скачущего и кусающегося было навалом. Мало того, от тряски из циновок стала вылетать мелкая и зловредная пыль. Я чихал от ухаба до ухаба, и под мое чихание автоколымага наконец-то остановилась. И тут просто необходимо объявить очередной абзац.
Колымага остановилась, и я ясно расслышал веселый женский смех. Он прорывался сквозь все циновки, пыль и мою благоприобретенную дорожную почесуху.
Я надеялся, что меня наконец-то извлекут из-под, но это «из-под» лишь раздвинулось. В амбразуре показалось сияющее невероятным счастьем черное, как надраенное голенище, лицо, и сквозь ослепительную улыбку прозвучало что-то совершенно непонятное. И тут же циновки вновь наглухо задвинулись, а я почувствовал, как на меня начали грациозно опускаться отнюдь не грациозные тела. При этом раздался бешеный хохот, решительно заглушая все иные звуки. По-моему, я даже не расслышал, как заработал двигатель.
Мы – катили, невидимые дамы поверх меня хохотали, как безумные, а меня жрали неизвестные твари. Я уже забыл обо всех предостережениях капитана Заусенцева, я уже мечтал о том, чтобы почесаться, как мечтают о глотке воды утром с серьезного перепоя, но ничего не мог поделать. Я был зажат циновками со всех сторон и припечатан к днищу увесистыми дамами сверху. Спору нет, женский смех чарует, но не в таком же положении! Однако я – терпел. Терпел, потел, страдал и всем телом считал ухабы, смутно надеясь, что после какого-то очередного подброса этот африканский самокат наконец-то остановится, а я – почешусь всласть. Но он, проклятый, что-то никак не останавливался.
А когда неожиданно остановился, я понял, что происходит нечто не совсем то. Мои тяжеленькие негритянские веселушки больше не смеялись. Не смеялись, и только поэтому я ясно расслышал грубые солдатские голоса. И внутренне весь съежился, потому что внешне съеживаться мне было уже некуда.
Неизвестный разговор на неизвестном языке продолжался и креп. Я понимал, что дело обернулось скверно чисто физиологически, поскольку, прямо скажем, сдрейфил. И покрылся противным потом, идущим, так сказать, изнутри. От дрейфа не в ту сторону.
Что, абзац? Дудки вам, а не абзац: засмеялись мои милые! Засмеялись, и мне как-то сразу полегчало. Но опять же – внутренне, потому что внешняя тяжесть вдруг стала ощутимо увеличиваться. На три пункта, если пунктами считать троекратный весомый, но как бы поочередный вклад в мою внешнюю поклажу. Трижды – и будь я проклят, если не с разбега! – грохнулся дополнительный багаж поверх всего остального. И что-то там, наверху, где свет, воздух и воистину легкая жизнь, изменилось качественно. Мои увесистые незнакомки стали еще смешливее, озорнее и – подвижнее, что ли. И мы – поехали, но тут, уж извините, абзац. Полный абзац, потому что подобного я не испытывал за всю свою двадцатисемилетнюю жизнь.
Хохот и грохот, пыль и пот продолжались, как и до, но прибавились солдатские голоса. Нет, не голоса – солдатское ржание, весьма сходное с жеребячьим. И я очень скоро начал испытывать ритмические нагрузки, сопровождаемые женскими взвизгиваниями и мужским сопеньем. Это было похоже на работу некоего мягкого, но непрерывного пресса, запущенного наверху для неясной пока цели. Однако звуки, которые издавали как дамы, так и кавалеры, недолго держали меня в неведении: наверху, в кузове трясущейся машины, шла самая что ни на есть вульгарная солдатская случка. Со звериным рычанием мужчин и радостной визготней женщин.
Наверху кипели страсти, это стало очевидным. Очевидным стало и то, что на мои чувства они не действовали просто потому, что мне было не до эмоций. Меня тайно везли через чужие границы чужих государств, чужих племен и даже чужого континента, и любая погранзастава, любой патруль или просто недоверчивый боевик с каким-нибудь там ассегаем могли закончить мою жизнь, так и не спросив, как меня зовут и откуда я родом. Тут уж, простите, не до страстей и страстишек, тут действует закон сохранения твоей личной энергии, а не похотливое желание избавиться от нее. А это, поверьте, могучий тормоз всех иных ощущений. Тут, как говорится, абы выжить, иначе – полный абзац.
4
Сколько прошло времени – не помню, не до того мне было. Но оно прошло, потому что машина вдруг остановилась, еще переполненная звуками негритянских страстей. Дополнительное давление сверху прекратилось, опять я услышал мужские голоса и смех веселых негритянок, кто-то спрыгнул, кто-то впрыгнул, и машина наконец-то тронулась дальше. И сразу же замер женский смех, вместо него до меня донеслись вполне нормальные, даже слегка озабоченные женские голоса, и я сообразил, что мужчин в кузове больше нет.
Соображал я, правда, уже с трудом, кусками и урывками, потому что все во мне онемело до такой степени, что я не чувствовал ни укусов, ни почесухи, ни зуда, ни даже жажды. Ничего я не чувствовал, кроме разве что ощущения близкой кончины. Прямо под циновками и негритянками неизвестного мне племени и политической ориентации. Так мы тряслись в рычащем и дымящем грузовике еще около часа, показавшегося мне декадой великих трудовых подвигов.
Наконец остановились, дамы спрыгнули и начали быстро сбрасывать с меня циновки, одеяла и прочий багаж. Я впервые глубоко вздохнул, закашлялся и в образовавшемся просвете увидел милые, озабоченные женские мордашки. Они о чем-то спрашивали хором и в розницу, но я не понимал ни слова, а на ответную улыбку уже не было сил. Впрочем, эта односторонне немая сцена длилась недолго. Кто-то извне раздвинул кучерявые головки, и я увидел загорелую дочерна, но вполне индоевропейскую физиономию. И эта физиономия спросила на чистейшем русском языке:
– Живы?
– Воды… – прохрипел я. – Ай бин виски энд муттер…
Почему я попросил виски с матушкой да еще на полунемецком-полуанглийском – и не спрашивайте. Вам бы хоть сотую долю такого путешествия через добрую половину Черного континента…
Но неизвестный земляк все понял, что-то кому-то сказал, и мне подали холодный – холодный!.. – стакан, в котором плавал настоящий лед. Я выпил неизвестную жидкость на одном дыхании, съел лед и спросил:
– Ты наш?
– Наш, наш, – ворчливо ответил он. – Зови просто Колей. А девочек наших поблагодари особо и непременно каждую – в отдельности. Они тебя не только через две границы и три фронта перевезли – они тебе жизнь заново подарили.
Я расцеловал каждую в отдельности черную мордашку и поплелся вслед за Колей, ощущая каждое сочленение собственного тела тоже как бы в отдельности. Мы брели через какое-то бесконечное кочковатое поле к какому-то деревянному бараку, и я заплетающимся от виски языком все же пытался расспрашивать моего проводника и, как я надеялся, переводчика, хотя расспрашивал и не очень толково.
– Мы где?
– В Африке.
– В самой-самой?
– Вас надо было через Анголу везти. Дальше, зато безопаснее. Всегда деньги экономят. Где капитан Заусенцев? Опять заболел?
– Что значит «опять» в данном случае?
– Значит, долго проживет.
– А ты – переводчик?
– И как ты догадался?
– Затрясло меня и зажрало, извини. Я вообще-то насчет винтовок и патронов калибра 7,62. Какие проблемы?
Насчет проблем он ответить не успел. Раздался какой-то рев, Коля толкнул меня на землю, упал рядом, а неподалеку раздался самый натуральный взрыв. Как в кино, только комья земли летели в мою спину. Весьма чувствительно. И не успели все комья оставить на мне свои отпечатки, как загремела еще парочка взрывов.
– Засекли!.. – прокричал Коля. – Беги за мной!..
Я послушно побежал за ним, хотя мы бежали не к бараку, а совсем даже в другую сторону. По нашему полю били беспрерывно, мы падали, получали в спины очередные комья, вскакивали, снова бежали, снова падали и снова получали. Наткнулись на какую-то изгородь, Коля полез через нее, я тоже полез, расцарапал руки, грудь и живот, окончательно дорвал рубашку до лохмотьев, но каким-то чудом перебрался.
– Это чужая собственность, – зачем-то пояснил Коля. Зачем – мне ясно стало позднее. Но тогда я ничего не уточнил, потому что увидел впереди какой-то вполне цивилизованный дом и, вскочив, бросился к нему, как к бомбоубежищу.
– Стой!.. – заорал Коля. – Назад!.. Тут бур живет! Нейтралитет! Нельзя нарушать!..
Кажется, я остановился и зачем-то повернулся к нему лицом, но вообще-то не помню. Грохнул выстрел, и я ощутил удар в зад. Так сказать, в филейную часть. И – полный абзац. Вырубился. Не ходите, дети, в Африку гулять.
5
К чему рассказал все это? А бог его ведает, надо же с чего-то начинать. Тем более что все последующее оказалось связано с предыдущим. Как ни странно это может показаться стороннему человеку.
С этой простреленной нейтралом-буром ягодицей я оказался на Кубе, где меня и чинили. Почему на Кубе, спросите? Не знаю, я не спрашивал, почему на Кубе, а не в Африке. На Кубе, представьте себе, как-то спокойнее. А еще спокойнее, когда ты никому не задаешь никаких вопросов. Вопросы очень раздражают, замечали? На них что-то отвечать приходится, а в тех конкретных условиях – попросту врать. И тебе противно, и отвечающему – тоже противно.
Теперь-то, в эпоху, как говорится, всеобщей обязательной гласности, могу предположить, что кое-как заметали следы. Одно дело – кусок бурского свинца из твоего седалища извлечь, другое дело – объяснить, как ты в Африке-то оказался, рязанец чертов! Без визы, денег, кредитных карточек и знания какого бы то ни было языка, кроме рязанского! Уж лучше тебя через другую половину Африки еще раз перетащить и на кубинский корабль сунуть. Там ребята сообразительные, вопросов задавать не станут. А с Острова свободы – пожалуйста, к родным пенатам. С какими угодно документами. Хоть туристическими, хоть дипломатическими.
В госпитале первым меня навестил представитель нашего посольства. В штатском. Принес корзинку фруктов, бутылку рома и настоятельную просьбу не писать домой ни строчки.
– Мы сами все объясним вашим родным и близким. По собственным каналам. А вы пока отдыхайте, будем вас навещать.
Кубинские врачи залечивали дырку, я отдыхал между лечениями, и меня навещали. Правда, не из посольства, а из общества дружбы с нами. Веселые девчонки с цветами и фруктами и смешливые ребята с бутылками рома. И так продолжалось довольно долго, потому что бурское гостеприимство заживало весьма неохотно.
Эти ребята и подвигли меня взяться за перо. Подарили толстую тетрадь и попросили описать свой героический подвиг во имя торжества всеобщей справедливости и гармонии. В конце концов я начал писать, потому что делать было абсолютно нечего.
Если парни подарили мне хоть и весьма интересную, но все же обязанность, то кубинские девушки сделали прямо-таки королевский подарок. Они преподнесли мне женский паричок ручной работы с необыкновенно красивой укладкой натуральных волос густого золотого цвета. Чья-то негритянско-кубинская бабушка сотворила этот куаферский шедевр для своей внучки, а внучка преподнесла его мне от всей своей негритянской души. И сказала:
– Это вашей жене.
Вот это-то меня больше всего и обрадовало. Когда начинаешь поправляться на больничной койке, под утро приходят совсем другие сны. С другими градусами содержания, и это – признак номер один. И я этого не избежал. Исчезли боль и всяческие неудобства, а вместе с ними отошли в небытие и африканские страсти-мордасти, и мне все чаще и чаще стала сниться вполне мирная и, главное, желанная картинка. Наша квартирка, ужин вдвоем и – конечно же – она. Моя Тамарочка, которую я по-прежнему любил, а следовательно, и давно простил. И сны были теплыми и уютными, и паричок при возвращении мог очень даже пригодиться.
В общей сложности месяца полтора я провалялся, потом стал кое-как ходить, а потом меня выписали, и за мной приехал тот же представитель посольства. Думаю, не вследствие беспокойства о моем здоровье, а по той причине, что я остался без штанов, поскольку штаны остались в Африке.
– Поздравляю с выздоровлением, – сказал представитель, явившийся со штанами, но без фруктов и рома, – ваши родные и близкие в курсе. Одевайтесь: поедем в посольство, с вами компетентные товарищи хотят познакомиться. Будете жить на территории посольства, пока не придет пароход. За пределы территории выходить не рекомендуется ни под каким видом.
Так что Кубу я видел сквозь посольские окна, но все-таки видел. В отличие от Африки, которую не видел, но зато прочувствовал.
Еще через месяц пришел пароход. Он отваливал в кромешной тьме, которой я и сделал ручкой с его борта. Абзац, поскольку командировка относительно путаницы с калибрами закончилась, и где-то вдали замаячили родные берега.
Но родные берега – еще не родная Глухомань. До нее я добирался через Москву, где потратил три дня на объяснение, как, где, почему, зачем и кто именно меня ранил. Устно и письменно, в трех экземплярах. Потом всучили новенькую форму и сразу два приказа. Первый – о присвоении мне внеочередного воинского звания капитана, второй – об увольнении меня из рядов Советской армии вследствие бытовой травмы. Так и было написано: «бытовой». Я, естественно, ринулся опровергать, требуя записи «боевой», а меня резонно спросили, с кем мы сейчас воюем.
– С Афганистаном!
– С Афганистаном мы не воюем. Там – ограниченный контингент по просьбе трудящихся.
И я заткнулся.
– То-то же, – сказали мне. – Помалкивай, пока мы выводов не сделали.
И поехал я помалкивать в родную Глухомань. Навстречу абсолютно нежданному абзацу в своей жизни.
Глава вторая
1
Пока я выполнял важное и сугубо секретное государственное задание, моя миленькая супруга-макаронщица Тамарочка ежедень писала во все мыслимые инстанции. И то ли перебрала с требованиями ответить, куда отправили ее мужа, то ли просто количество переросло в качество согласно законам диалектики, а только откуда-то (из центра!) пришло письмо с гербовой печатью, скорбно сообщавшее, что я пропал без вести. Пропал, и все тут. Как трешка из кошелька.
Такой вот абзац. Женушка порыдала и пошла в загс, где ее и развели с без вести пропавшим на основании казенной бумаги с гербовой печатью. И она тут же вполне законно вышла замуж, пока ее профессия не сказалась на ее фигурке. Такие вот дела. Слава богу, детей у нас не было, а стало быть, и новых сирот не появилось.
И с точки зрения центра никто и не пострадал, поскольку разведенный мужчина это не то же самое, что разведенная женщина.
Хорошо еще, что новый муж моей прежней жены имел аж трехкомнатную квартиру в центре города, так как оказался каким-то комсомольским вожаком с весомым окладом и казенной жилплощадью, за что-то там сосланным в нашу Глухомань. Супруга моя от повышенной комсомольской совестливости вздумала было возвратить мою квартиру домоуправлению, но, по счастью, процесс не пошел вглубь. И она честно призналась, почему не пошел:
– Мой… То есть муж… не посоветовал, когда узнал о моем заявлении. Он о тебе очень беспокоился.
Вот так благодаря заботе комсомольского вожачка я и оказался весьма завидным женихом в городе Глухомани. И спасибо ему, потому что остальные друзья-приятели куда-то успели слинять, и я остался практически в одиночестве. Без друзей, без работы, но зато – с отдельной однокомнатной квартирой и бытовой дыркой на том месте, о котором не следует знать даже самым близким людям. Правда, мне предстояло таковыми еще обзавестись, поскольку, как я уже говорил, прежние друзья стали как-то странно помалкивать в мою сторону.
С бурской бытовой травмой никакой пенсии мне не полагалось («Пить надо меньше, Вася!..»), но диплом у меня все же был. Честно говоря, мне не хотелось идти на макаронную фабрику имени товарища Микояна, но на иных производствах нашей Глухомани специалисты по отстрелу не требовались, и я вынужден был топать именно туда, куда не хотел.
– В спеццех начальником ОТК, – сказали мне в отделе кадров. – У вас имеются как опыт работы с нашей продукцией, так и допуск к нашему секретному производству.
– А…
– Не рекомендуется.
– Но…
– Не рекомендуется.
– Ага.
И – пошел.
2
Не хочу прикидывать, как сложилась бы моя судьба, если бы… Вообще мне кажется, что наше «если бы да кабы» – явление сугубо национального характера: лютый частник-бур, к примеру, ни секунды не размышлял о подобном. «Мой дом – моя крепость» – вот исходная точка всех его душевных терзаний. Но у нас нет никаких «моих» домов, а есть крепость. Одна на всех. Та самая, которую вроде бы должны, но все никак не соберутся взять большевики. А что касается собственности, то мы куда чаще теряем ее в Африке или на ином каком континенте, как, вспомним, потерял я. Конечно, можно вальяжно порассуждать на банной полке, что было бы, если бы у бура, допустим, заела прадедовская пищаль… Но – бесперспективно.
Кстати, мечтаем мы тоже вполне бесперспективно, замечали? Хорошо бы, дескать, изобрести такой самогонный аппарат, чтобы он сам собой перестраивался на выдачу кефира, как только в двери постучит участковый. Или, скажем, неплохо было бы найти у проходной червонец ровнехонько в понедельник, поскольку именно в этот день недели мы особенно тягостно воспринимаем среду обитания. Ну и так далее. Читай сказку о Емеле, который поймал в проруби говорящую щуку.
Вот так в общих чертах и я размышлял, пока не познакомился с Кимом, новым директором совхоза «Полуденный». Натуральным корейцем с натурально нашенским именем Альберт. Должность эта оказалась вакантной аккурат в то время, когда я пересекал Черный континент то под матрасами, то под циновками. Однако место директора пустовало довольно долго, поскольку Василий Федорович с певуньей-женой умудрился довести хозяйство до ручки в считаные месяцы. Вот почему все и отказывались, пока не нашли инородца.
Альберт Ким прибыл в Глухомань после окончания сельхозакадемии сразу на должность директора совхоза «Полуденный», припадающего на обе ноги со дня назначения предшественника. Выпускника Кима сунули на этот пост с категорической установкой «Поднять!» совсем не потому, что он закончил сельхозакадемию с золотой медалью, а исключительно потому, что – кореец: своего бы пощадили. Но он не унывал – он никогда не унывал! – не мечтал о говорящей щуке в проруби, а…
Нет, надо сделать абзац, перекурить с толком и неторопливостью, а уж потом – продолжить рассказ, где и как я познакомился с Кимом.
Грешен: люблю попариться в нормальной русской баньке. С веничком, с парком по желанию, с ледяной водичкой из полной шайки на распаренное тело. В моем жилье есть ванна, но ванна – индивидуальное омовение, а русская банька – мужской клуб. Единственный, который почему-то до сей поры так и не прикрыли. Там – откровение под стаканчик с пивком, там – выяснение проблем, там – полигон мужских мечтаний, когда душа твоя – нараспашку и вроде как ты уже ничего почти что не боишься. Что-то взамен личной свободы, заботливо выданная нам предками отдушина, чтобы окончательно не испарилась наша душа и вместе с ней хоть какая ни есть, а – перспектива личной свободы. Скажем, половить завтра рыбку или сходить за грибками, даже если их нет и не может быть в принципе. Недаром просвещенные жены называют эти наши мужские развлечения пьянкой в резиновых сапогах. Поэтому мы в своей Глухомани и собираемся в парной клуб по пятницам, поскольку всегда имеется шанс договориться о субботе. А прежние мои приятели, с которыми меня познакомила Тамарочка то ли через зубного техника, то ли через своего куафера, в пятницу и не совались, поскольку здесь собирались люди серьезные и даже ответственные не только перед женами.
Стоп, абзац. Что-то я здесь напутал.
Короче, еще до появления Кима в нашей глухоманской округе меня по возвращении из внезапно посетила супруга глухоманских «Канцтоваров» Лялечка. Всегда аппетитно розовенькая, как ветчина со слезинкой, почему я и испытывал чисто физиологическую тоску. Съесть мне ее хотелось, иначе моих чувств просто не объяснишь. Да и не было их у меня, этих самых чувств, о которых так любили курлыкать наши дамы в первой глухоманской компании.
– Как ты себя чувствуешь? Я слышала, что ты участвовал в боях, что опасно ранен. Ты скрылся от всех нас из-за секретов, да?
– Точно, – буркнул я, ощущая внутри нечто вроде голодного спазма. – Кстати, ранение у меня – тоже секретное. Учти.
– Я понимаю, понимаю, – заколготилась она, разбирая принесенную с собою сумку. – Вот. Это – для поправки.
Я ожидал увидеть связку скрепок или, скажем, пачку папок – что еще может прихватить супруга хозяина глухоманских «Канцтоваров». А она поставила на стол натуральный армянский коньяк. Пять звезд снаружи и ноль-семь внутри.
Ну, выпили за мое здоровье, за ее здоровье, за интернациональные долги наши тяжкие. Лялечка пила не так, как в компаниях: заглатывала, как отощавшая щука. И тараторила без умолку:
– Знаешь, меня возмутило поведение Тамары. Конечно, официальная бумага и все такое… Но надо же ждать и верить. Женщина всегда должна верить и ждать!
Женщина – возможно, но я ждать уже не мог. И сграбастал ее прямо за столом. И поволок на ближайшее ложе, как паук Муху-цокотуху.
– Что ты!.. Что ты… Милый…
Н-да. Неприятный абзац, но абзацев из рукописи, именуемой жизнью, уже не исключишь. Как бы ни тужился.
Но все это – как бы между прочим, хотя потом отозвалось. Всякое взрывное действие порождает отдачу. Это я утверждаю как знаток стреляющей продукции.
Дело в том, что Лялечка при всей своей ветчинности со слезой была наивна до опасной грани идиотизма, доверчива и чудовищно общительна. И этот довольно хмельной для мужиков коктейль сыграл со мной в подкидного, оставив, естественно, в дураках.
Впрочем, будем честными, не перегружая Лялечкин интеллект заранее разработанными интригами. Во всем была виновата ее почти гениальная простота.
Впервые она, эта самая простота, обернулась для меня весомой, но не губительной историей одного Лялиного знакомства.
Знакомство завязалось в Москве, куда на экскурсию Лялечку отправил супруг, кажется, уже что-то почувствовавший. Ляля вернулась из столицы в радостном перевозбуждении и при первой же нашей обеденной встрече вывалила на меня… Нет, не репертуар театров, не красоты Москвы и даже не богатство ее магазинов. А – восторг по поводу внезапного московского знакомства.
– Она – чудо, чудо! А матери-одиночки – ужас, ужас! Она показывала их письма с мольбой о помощи и фотографии. Впрочем, ты сам с нею вскоре познакомишься, я пригласила ее в нашу Глухомань. У нас ведь нисколько не меньше матерей-одиночек, чем в столице, ведь правда?
Таинственная «ОНА» и вправду вскоре пожаловала.
– Ольга. Очень приятно.
Крепкое рукопожатие, умный взгляд с чуть заметной искринкой иронии, хороша собой настолько… насколько все это, вместе взятое, не соответствовало ее дружбе с глупышкой Лялей. Здравая мысль об этом вспыхнула у меня вдруг, при первом знакомстве. Но, вспыхнув, столь же внезапно и погасла, и я не успел обратить внимания на красный сигнал «Стоп».
Выяснилось, что она, то бишь Ольга, и впрямь невероятно озабочена судьбой всеми позабытых матерей-одиночек и их полунадзорных – в лучшем случае – скороспелых детей. Она писала статьи в газеты, привлекая общественное внимание, трижды обращалась с письмами в правительство и в конце концов получила согласие на создание некоего общественного фонда в помощь этим самым легкомысленным матерям. Ей даже предоставили помещение – знаю о статьях, письмах, разрешении власть предержащих из копий всех этих письменных следов борьбы за справедливость. Она притащила толстую папку и показывала ее всем, кому надо показывать в нашей Глухомани. А показывать надо было тем, кто имеет доступ к внутренним социальным фондам предприятий, каковых в нашей Глухомани оказалось достаточно. Вызвав острое желание помочь несчастным – а это она умела делать, уж поверьте! – Ольга просила наличными, ссылаясь на долги, которые успела наделать, затеяв ремонт в полученном помещении.
– Представляете, мне дали полную развалюху. А где и как принимать людей с просьбами и жалобами? А юридическая служба? А зарплата аппарату, который уже четыре месяца работает в долг?
Не знаю, сколько выделяли директора глухоманских предприятий, а я отвалил пять тысяч. В то время это были серьезные деньги, поверьте. Весь мой годовой фонд социальной помощи. Отдал, естественно, под расписку, Ольга трогательно благодарила, обещала через недельку-другую приехать и отчитаться и – исчезла. И запросы, которые затеял мой главный бухгалтер, ни к чему не привели. Москва из всех инстанций отвечала под копирку, что такого фонда нет, разрешения на его создание никто не давал и никаких строений за ним не числится.
– Дураки вы все, – сказал Ким.
Я еще не был с ним в приятелях, до первого дружеского рукопожатия и тумака в спину было далеко, но он привлек мое внимание еще на этой стадии. Привлек потому, что оказался единственным, кто не дал на святое дело помощи матерям-одиночкам ни копейки, и на него уже начали косо поглядывать в нашей Глухомани.
Ну, о второй истории, в которую я попал благодаря все той же аппетитной наивнице, я поведаю в своем месте. А теперь самое время вернуться к Альберту Киму, внезапно возникшему на моем к тому времени уже порядком суженном горизонте.
3
Я впервые увидел Альберта Кима на районном партийно-хозяйственном активе, так как к тому времени дозрел до высокой должности. Не по макаронам, разумеется, а по приложению к ним в цинковых и деревянных ящиках. Это уже было зимой, и в пятницу сразу после партхозактива и случилась эта свиданная банька.
Альберт Ким был уже немолод: старший сын служил в армии, дочь училась в школе, младший по утрам самостоятельно топал в детский сад. Супруга его Лидия Филипповна трудилась на школьном поприще, преподавая литературу и английский язык подрастающим глухоманцам, и я был с нею знаком по встречам на каких-то там общественных начинаниях. А сам Альберт отличался тем, что говорил всем «ты» при первом же свидании, невзирая на должности и звания.
– Грубишь? – помнится, спросил я его, когда мы друг к другу уже достаточно притерлись.
– Позицию определяю, – сказал он. – После того как начальник в ответ на мою вежливость меня же преспокойно тыкнет, позиция моя заведомо окажется проигрышной. А при таком варианте – извините, мы как бы на равных.
– Брови не хмурят?
– Хмурят. Но я им нежно объясняю, что в корейском языке нет обращения на «вы».
– Как в английском?
– А кто их знает, – улыбнулся он. – Я только двумя языками владею: русским и мужским.
– А почему ты так поздно пошел в академию?
– Я не пошел. Я прорвался.
– Что значит прорвался?
– Да кто же корейца в сельхозакадемию пустит? Корейцам положен сельхозтехникум по месту жительства, и это – максимум. Пришлось прорываться самостоятельно.
– Каким же образом?
– С помощью тарана. А тараном у нас служит трудовой орден. Я сначала его на целине выпахал, а уж с ним – право на академию.
Ким постоянно носил на своей корейской физиономии хитровато-русский взгляд, подсвеченный ироническим прищуром. Прищур он порой прятал, широко распахивая узкие глаза, но хитроватость при этом оставалась, что всегда нравилось начальству. Вы, наверно, и сами знаете, что начальники наши терпеть не могут иронии, нутром чуя ее интеллигентские корни, и прямо-таки обожают хитрованство, полагая его зеркалом русской простоты, которая, как известно, хуже воровства. «С лукавинкой мужик, не гляди, что кореец. Такой все, что обещал, сделает!» Так это начальство рассуждало, и Ким – делал. Но всегда по-своему. За это его дружески корили, однако главным все же оказывалось то, что он – делал. Для нас результат всегда важнее способов его достижения, что в конце концов частенько срабатывает назад, как затворная пружина. Но начальство искренне рассчитывает, что подобный сбой произойдет в то расчетное время, когда это начальство уже успеет перебраться в иное руководящее кресло. Помягче и повыше. И, представьте себе, очень редко при этом ошибается в своих расчетах.
А в тот банный вечер, который случился существенно позже описываемых выше событий, Ким явился с иным выражением глаз. Вздыхал, пыхтел, вяло шутил и вяло отвечал – даже парился, кажется, без всякого удовольствия. Это было совсем уж на него не похоже, почему я и спросил за кружкой пива, не стряслось ли чего.
– Письмо от сына получил, – нехотя сказал он. – По всему судить, так бьют в армии смертным боем.
– Его бьют? – туповато переспросил я.
– Ну, вряд ли. Во-первых, он сдачи даст, а во-вторых, про себя он из гордости писать бы не стал.
Отхлебнул пивка и добавил неожиданно:
– Лучше бы его.
– Это почему же?
– Потому что тогда я бы право получил поинтересоваться. А так – непонятно, что делать. С ним еще один парнишка из нашего совхоза служит. Один сын у матери.
– Его бьют?