Другой Путь Чхартишвили Григорий
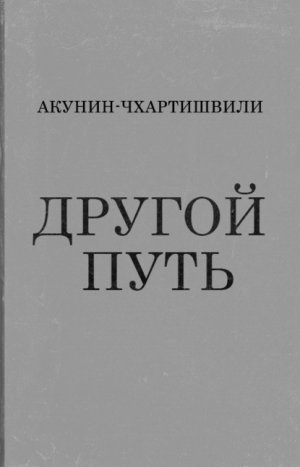
НЛ и ННЛ
Ситуация, в которой я сейчас оказался, не только выбила меня из наезженной и по-своему комфортной жизненной колеи, но и вызвала потребность частично пересмотреть систему взглядов, изложенную в предшествующих разделах.
Во вступлении к трактату, говоря о том, что, по глубокому моему убеждению, в каждом без исключения человеке заложен некий уникальный Дар и что главной целью всякой жизни следует считать обнаружение в себе и всемерное развитие этого природного ресурса, я написал: «Счастливой можно назвать жизнь, если она была полностью реализована, если человек сумел раскрыть свой Дар и поделился им с миром». Там же, в сноске, правда, оговорено: «Я признаю, что счастье бывает и другого происхождения – дарованное счастливой любовью, этим волшебным заменителем самореализации. Если бы не свет и тепло любви, жизнь большинства людей, до самой смерти не нашедших себя, была бы невыносима. Предполагаю, впрочем, что способность любви – тоже Дар, которым обладают не все и не в равной мере. Однако я не могу углубляться в этот особый аспект, поскольку никак не являюсь в нем экспертом. Мне почему-то кажется, что в природе любви способна лучше разобраться женщина. Во всяком случае, я бы прочитал такой трактат с интересом». Иными словами, я уклонился от изучения этой темы, с одной стороны, ощущая свою некомпетентность, а с другой, если уж быть до конца честным, боясь ворошить болезненные воспоминания.
В нынешнем же моем положении, хочу я того или нет, мне все-таки приходится заняться этой проблематикой, поскольку никто так и не написал трактата о любви, который давал бы удовлетворительный ответ на занимающие меня вопросы. Я по-прежнему чувствую свою удручающую бездарность в сфере, касающейся сложных, по большей части нерациональных движений души – будто я дальтоник, которому предстоит рассуждать о колористических гаммах, или глухой, решивший стать музыкальным критиком. Но, как говорится, нужда заставила. Та часть жизни, которую я полагал давно похороненной, вдруг воскресла и чуть не сшибла меня с ног своим внезапным натиском. Я остановился, растерянный, испуганный, сбившийся с пути. Мне нужно собраться с мыслями, восстановить ориентацию в экзистенциальном пространстве. И сделать это я смогу единственным знакомым мне образом: проанализировав возникшие новые обстоятельства.
Мой личный опыт психоэмоциональной эволюции, именуемой «любовью», не только скуден, но и травматичен. Не потому что я любил безответно или несчастливо, о нет, а потому что после резекции образовалась рана, которая заживала долго и мучительно. Теперь же приходится ее бередить, сдирать наросшее за годы «дикое мясо». В то же время рационализация может сыграть роль анестезии, облегчающей болевые ощущения, которыми будет сопровождаться эта операция.
Я, конечно же, попробую обойтись без автобиографических подробностей. Не из опасения, что мою рукопись прочтут чужие глаза (я пишу в трактате вещи несравненно более рискованные), а потому что в теоретическом исследовании личный опыт может оказаться вреден и увести в сторону – от общего к частному, от универсального к феноменологическому.
Я буду писать не про свою любовь, а про любовь как явление, частным случаем которой были выпавшие на мою долю переживания. (Заодно, может быть, пойму, до какой степени они типичны и что я делал неправильно.)
Научный подход к такой теме, как любовь, – отдаю себе в этом отчет – постороннему взгляду может показаться комичным. Но я ведь пишу не для посторонних, а для себя. И потом, так уж я устроен: я способен по-настоящему воспринимать реальность, только если разложил ее по полочкам.
Мне хорошо знакома методика, с помощью которой полагается исследовать область, где чувствуешь себя полным профаном.
Сначала нужно определить цель изысканий: сформулировать вопрос или вопросы, на которые хочешь найти ответ. Затем – составить список литературы, включив туда труды авторов, которые считаются знатоками темы. По ходу чтения будут непременно возникать собственные суждения, ремарки и мысли. Потом обозначатся и первые выводы: поначалу робкие, но к концу всё более определенные. Точно таким же способом в разное время я изучил множество разных дисциплин и раскрыл некоторое количество научных загадок. Отчего же не применить проверенный метод и для анализа загадки, именуемой «любовью»?
В конце концов, я далеко не первый зануда, кто пытается подвергнуть эту эфемерную субстанцию анатомическому препарированию. Существует целое направление философской науки, которое только этим и занимается. Оно называется «философия любви».
Но я назвал вставную главу моего трактата об аристономии иначе: «Другой Путь». «Путь» – с большой буквы, ибо я имею в виду жизненный алгоритм, способный полноценно заменить «Закон Лучшего» (номос + аристос), в следовании которому мне видится истинное назначение человеческого существования.
В главе, посвященной выведению формулы аристономии, я пришел к выводу, что настоящим аристономом человек может считаться, если он 1) стремится к развитию; 2) обладает самоуважением; 3) ответственен; 4) выдержан; 5) мужественен; 6) уважителен к окружающим; 7) сострадателен – причем дефицит любой из этих семи характеристик приводит к дисквалификации. Это весьма строгий кодекс, условиям которого соответствуют очень немногие. (Например, сам я к числу аристономов причислить себя не могу, так как в недостаточной степени наделен четвертым качеством и тем более пятым.) Очевидно, что на свете гораздо больше тех, кто обретает жизненный смысл и счастье благодаря любви. Уже потому этот Путь заслуживает не менее скрупулезного изучения, чем аристономический.
Многие скажут: «Не усложняй, умник. Просто люби, как можешь, и старайся, чтобы тебя тоже любили. Вот вся премудрость». Однако же я вслед за Сократом считаю, что, если человек не попытается осмыслить свою жизнь во всех ее проявлениях, она так и останется бессмысленной. А кроме того, ничего простого в любви нет. И, за исключением очень немногих, кто от рождения наделен даром мудро любить (а это такой же талант, как другие, если только не самый драгоценный из всех), люди любить не умеют или любят неправильно и настоящего счастья, равно как и самораскрытия, на этом пути не достигают. Более того: любовь, как мощный инструмент, может способствовать не только созиданию, но и разрушению, в том числе саморазрушению. Примеров тому множество и в литературе, и в повседневной жизни.
Углубившись в тему, я обнаружил, что, хоть любят или пытаются любить почти все, мало кому удается найти «настоящую любовь», а уж тех, кто обрел «настоящую настоящую любовь» (я потом объясню значение этого странного термина), и вовсе единицы. Такие счастливцы, кажется, встречаются ненамного чаще, чем аристономы, и я вполне мог бы, подобно Стендалю в романе «Пармская обитель», закончить эту вводную главу цитатой-посвящением из Гольдсмита: «То the happy few»[1].
В мировой культуре тема любви занимает больше места, чем даже религия. Любовь, собственно, и является культом, которому человечество служит с не меньшим пылом, чем Иисусу, Аллаху или Будде. В современном мире она безусловно значит больше, чем Вера. Но и у Павла в «Первом послании к Коринфянам» говорится: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Можно было бы подумать, что апостол имеет в виду любовь к Богу, однако ниже сказано: «пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». И как бы теологи ни пытались интерпретировать это речение, оно недвусмысленно. Впрочем, на конфликте между Любовью и Верой я подробно остановлюсь позднее.
Сейчас же пришло время обозначить задачи, решение которых я надеюсь найти, приступая к своему исследованию.
Их две.
Задача-минимум может быть изложена в следующем виде:
«Каковы параметры любви, которая могла бы стать Другим Путем, то есть полноценным субститутом аристономии, позволяющим личности достичь самораскрытия и счастья?»
Такую любовь я буду обозначать аббревиатурой «НЛ», «Настоящая Любовь».
Задача-максимум несравненно сложнее. Не уверен, что она вообще имеет решение. Прежде чем ее сформулировать, придется сделать небольшое отступление.
Я начинал писать трактат об аристономии, исходя из бытийных обстоятельств, в которых находился в тот момент. Это был мир одиночества, выстроенный и обжитый мной ценой долгих, тяжелых усилий, но по-своему комфортный и неплохо защищенный.
Аристономический Путь, конечно же, предназначен именно для такой системы координат. Человек, облагодетельствованный (но и обремененный) эмоциональной связью с другими людьми – семьей или возлюбленной, – живет в условиях несвободы. Принимая выбор в некоей трудной, принципиальной ситуации, он часто оказывается перед неразрешимой дилеммой, когда приходится жертвовать или своими принципами – или благом, а то и самое жизнью близких людей. В двадцатом веке, в моей стране, в моем поколении через подобную душераздирающую альтернативу прошли очень и очень многие. В том числе и я. Достойного выхода из этой ужасной коллизии не существует. Ты в любом случае получаешься предателем и достоин осуждения. Те, кто из любви или жалости к родным изменил Идее, отказываются от аристономического Пути и теряют самоуважение. Это разрушительно для личности. Но те, кто не поступился своими убеждениями, заплатив за это любовью и любимыми, вызывают содрогание. Их-то, я полагаю, и имел в виду Павел, говоря об отдающих тело свое на сожжение в ущерб любви.
Как же быть? Неужели для человека, стремящегося к аристономии, любовь – непозволительная роскошь? Неужели нужно выбирать между двумя этими видами счастья?
И снова – человек более мудрый, чем я, сказал бы: «Не морочь себе голову. Живи и радуйся счастью, пока оно есть. Не отравляй его пустыми страхами. На трудном повороте судьбы внутренний камертон подскажет тебе, как должно поступить». Но мудрецы трактатов не пишут, ибо слишком мудры для этого. Трактаты пишут умники, к числу которых принадлежу и я. Нам, умникам, необходимо заранее все предусмотреть и спланировать, повсюду подстелить соломы.
Вот вторая задача, несравненно более сложная, чем первая. Признаюсь честно, что она повергает меня в трепет своей трудноразрешимостью:
«Бывает ли такая любовь, которая позволяет человеку не отказываться от аристономического принципа существования?
Я буду называть такую любовь, если она вообще возможна, «ННЛ», то есть «настоящей Настоящей Любовью».
Что ж, вопросы сформулированы. Приступаю к поиску ответов.
Слова «любовь», «любить» используются столь широко и в столь разных смыслах, что, если уж придерживаться научного метода, необходимо вначале как можно точнее определить, какую именно любовь я выбрал в качестве предмета исследования, и во избежание путаницы отделить ее терминологически от всех других «любовей».
На свете немало людей (гораздо больше, чем может показаться завсегдатаям кинотеатров и читателям романов), которые по своей натуре либо вообще не способны испытывать любовь, либо любят только самих себя. С их точки зрения, поведение любящего выглядит иррациональным и даже абсурдным, вызывает непонимание и раздражение. Я и сам так долго жил вне любви, что стал забывать, как это специфическое состояние влияет на психику и поступки. Сколько раз я назидательно, а то и сердито поучал какую-нибудь аспирантку или медицинскую сестру, которая от любовных терзаний начинала проявлять нерадивость: «Любить, барышня, надо свое дело, и никогда этой любви не изменять» – или что-то подобное. (На днях, погруженный в эти терминологические размышления, я был вынужден вспомнить свою присказку и покраснел. Видел в общепитовской столовой, как бабушка кормила ложкой внука, тот отворачивался, хныкал, что не любит пшенку, и старушка ему говорила:
«Любить надо родину, партию, Ленина-Сталина, бабулю. А кашу надо кушать»).
«Любовь к своему делу», «любовь к каше», «любовь к Ленину-Сталину» и «любовь к бабуле» – совершенно отдельные классы любви. Кроме общего смысла сердечной привязанности их ничто между собой не объединяет. И все они не имеют отношения к предмету моего исследования.
Древние греки называли сущностно несходные сердечные привязанности разными словами.
Одно дело – филос, нечувственная и не обусловленная родством любовь к друзьям, к определенным занятиям или к системе взглядов. То есть любовь добровольная, рациональная и, если угодно, необязательная, хотя она может стать и главным смыслом жизни. Такова, например, «любовь к своему делу».
Сторхе, любовь к родным («к бабуле»), напротив, является долгом всякого нравственного человека.
Одухотворенная, всепоглощающая любовь к богам почиталась как высшая из форм любви и называлась агапе. Позднее, в христианскую эпоху, она трансформируется в любовь к Единому Богу и долгое время будет считаться единственной похвальной формой любви. «Любовь к Ленину-Сталину», пожалуй, тоже из этой области.
Та любовь, которую исследую я, разумеется, ведет свою генеалогию от античного эроса. Изначально это слово употреблялось в весьма широком значении – как всякое страстное желание (оно буквально и значит «желание»), однако со временем, будучи привязано к культу бога Эрота, стало использоваться главным образом для обозначения чувственных устремлений. И если бы кто-то сказал, что испытывает эрос по отношению к каше, бабуле или диктатору, для греческого уха это прозвучало бы странно или даже непристойно.
Впоследствии я подробно опишу историческую эволюцию эроса. Сейчас же ограничусь замечанием, что душевное состояние, которому посвящена моя вводная глава, относится именно к эротическому изводу любви и обозначает комплекс эмоциональных, физиологических, мировоззренческих и психических отношений, возникающих между мужчиной и женщиной[2].
Для того чтобы отличить свою любовь от всех других, в том числе самых прекрасных, я не буду придумывать особого слова, как мне пришлось поступить с «аристономией». Я просто во имя ясности введу заглавную букву: Любовь, Любить, Любимый.
Поразительно, но ответить на элементарный вопрос «что такое Любовь?» довольно трудно. Это напоминает ситуацию со сложной болезнью, которая хорошо известна по симптоматике, анамнезу, осложнениям и последствиям, но причина и возбудитель наукой не выявлены, и потому эффективной терапии медицина предложить не может. Честные врачи движутся наощупь, признавая свое бессилие; шарлатаны самоуверенно заявляют, будто владеют тайной лечения, – и лгут.
Эта ситуация не претерпела никаких изменений с тех пор, как философы и поэты впервые принялись рассуждать о Любви.
В «Филологическом словаре» так и написано: «Л. – не имеющий чёткого научного определения термин, используемый в разных значениях».
В процессе подготовки я выписал несколько десятков дефиниций как любви, так и Любви.
Есть совсем простые: «Движение сердца, влекущее нас к живому существу, предмету или универсальной ценности».
Встречаются и сложные: «Принцип консубстанциальности бытия, через который раскрывается все его содержание», а то и очень сложные: «Универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая в своем содержании глубокое индивидуально-избирательное интимное чувство, векторно направленное на свой предмет и объективирующееся в самодостаточном стремлении к нему. Л. называют также субъект-субъектное отношение, посредством которого реализуется данное чувство».
Возможно, честнее всех поступил «Оксфордский словарь», написав: «Психологи, возможно, поступили бы мудро, если бы отказались от ответственности за анализ этого термина и предоставили это поэтам».
Всё же приведу несколько определений, за каждым из которых стоит своя традиция, школа или даже целое мировоззрение.
«Индивидуализация и экзальтация полового инстинкта».
«Неистовое влечение к тому, что убегает от нас».
«Страстное влечение к другому человеку с намерением создать семью, образовать пару, или испытать сексуально-романтические переживания».
«Комплексное аффективное состояние и переживание, связанное с первичным либидинозным катексисом[3] объекта. Чувство характеризуется приподнятым настроением и эйфорией, иногда экстазом, временами болью».
«Высокая степень эмоционально положительного отношения, выделяющего его объект среди других и помещающего его в центр жизненных потребностей и интересов субъекта».
«Фиксация на другом человеке как на части своего „я“ и смысле своего существования».
«Отношение к кому-либо или чему-либо как безусловно ценному, объединение и соединенность с кем (чем) воспринимается как благо, т. е. одна из высших ценностей».
«Влечение одушевленного существа к другому для соединения с ним и взаимного восполнения жизни».
Я расположил эти дефиниции в определенном порядке: от «холодного» к «теплому» – по моей субъективной оценке. Теплее, теплее, совсем тепло. Последняя формулировка кажется мне уже очень близкой к искомому. Она принадлежит Владимиру Соловьеву.
В своей замечательной работе «Смысл любви» этот философ пишет: «Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет нас действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное значение, которое, в силу эгоизма, мы ощущаем только в самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой любви, но половой любви по преимуществу; она отличается от других родов любви и большей интенсивностью, более захватывающим характером, и возможностью более полной и всесторонней взаимности; только эта любовь может вести к действительному и неразрывному соединению двух жизней в одну, только про нее и в слове Божьем сказано: будут два в плоть едину, т. е. станут одним реальным существом».
Я, в отличие от Соловьева, нерелигиозен и, наверное, был бы склонен считать выражение «два в едину плоть» не более чем красивой метафорой, если б не имел перед глазами примера моих родителей, которые, раз соединившись, уже не расстались – буквально – до самого последнего мига своей жизни.
Настоящей Любовью (НЛ) я буду называть возникающую между двумя людьми связь, которая обусловлена неодолимой потребностью расширить рамки своего «Я» и превратить его в «Мы», то есть создать некое новое качество, новую общность.
Все виды любовных отношений, не стремящиеся к образованию такого союза или не выдерживающие испытаний, в это понятие я не включаю – пусть остаются просто «Любовями».
Сначала я попытаюсь разобраться в истории, философии и практике Настоящей Любви, отделив ее от всевозможных разновидностей Любви ненастоящей. Эта задача кажется мне относительно несложной, поскольку в литературе случаи НЛ многократно описаны, да и в окружающей жизни они хоть нечасто, но все же встречаются.
Куда труднее мне придется, когда нужно будет перейти к дескрипции ННЛ, правила которой мне пока непонятны и, может быть, окажутся нереализуемыми.
Существует множество теорий, пытающихся дать объяснение тому, что такое Любовь; в чем состоит ее предназначение; что следует ею считать, что не следует, и так далее.
Каждая из наук, занимающихся исследованием человека во всех его жизненных проявлениях, трактует Любовь со своей колокольни.
С точки зрения эволюционной биологии, это усложненное (по сравнению с животными) проявление инстинкта продолжения рода и инструмент естественного отбора, заставляющий особь выбирать оптимального партнера для производства потомства.
С точки зрения теологии, Любовь – дар, ниспосланный Господом. Как все теории мистического происхождения, эта очень удобна, поскольку в труднообъяснимых случаях всегда можно сослаться на непостижимость Божьего Промысла и ограниченность человеческого рассудка.
Есть целый ряд теорий психологического направления, исследующих только эмоционально-поведенческий механизм Любви.
Есть теории социологические, которые рассматривают Любовь как явление идеологическое и исторически обусловленное. Например, в радикально-феминистских кругах возникла версия, будто Любовь выдумана и культивируется мужчинами в качестве убаюкивающего средства и наркотика, дабы навязать женщине подчиненную роль в семье и обществе.
Предметом особенного интереса Любовь является для философии – вероятно, самой главной из наук, ибо она берет на себя очень трудную и важную миссию: предложить нам такую версию бытия, которая сделала бы человеческую жизнь осмысленной и плодотворной, избавила бы нас от экзистенциального страха и прибавила нам мужества – ведь объяснённое и понятное пугает меньше, чем неизведанное и иррациональное. Поскольку люди устроены по-разному, единой философской теории быть не должно и не может. Каждый, у кого вообще есть потребность в рефлексии, выбирает ту из концепций жизненного смысла, которая лучше подходит данному типу личности и более всего помогает нести груз существования.
Философия любви давно выделилась в своего рода субдисциплину, изобилующую самыми разными толкованиями, от грубо-материалистических до весьма затейливых. Я посвящу обзору этих версий всю следующую главу.
Как уже было сказано, для моей цели, каковой является поиск той Любви, которая способна стать альтернативой аристономическому развитию (либо же, в идеале, совместиться с ним), более всего подходит взгляд на Любовь как на взаимообогащающий и взаимостимулирующий союз, когда Любящие перемоделируют свою личность во имя создания новой общности, меняясь в лучшую сторону. К этой идее, восходящей своими корнями еще к Аристотелю и Платону, сделал существенное дополнение Владимир Соловьев, выделивший три вида отношений такого типа.
Это, во-первых, Любовь нисходящая (amor descendens), которая отдает больше, чем берет; Любовь восходящая (amor ascendens) – преимущественно берущая, а не дающая; и наконец Любовь равная (amor aequalis) – при которой каждый дает и получает в равной мере.
К категории НЛ, Настоящей Любви, на мой взгляд, можно отнести лишь третий вид – с оговоркой, что речь идет не об арифметически-симметричном равенстве, а о сочетании Любви нисходящей с Любовью восходящей, когда в зависимости от ситуации роли дающего и берущего чередуются и гармонично переплетаются, поскольку каждый из партнеров в чем-то сильнее, а в чем-то слабее другого.
Итак, с моей точки зрения, Настоящая Любовь – это федерация двух равноправных автономий, которые не поглощают, а дополняют и развивают друг друга.
Однако этот взгляд не является единственным или преобладающим. Его придется обосновывать и доказывать, а для этого нужно сначала пройти по всему историческому маршруту «Любовеведения» от его истоков до сегодняшнего дня.
(Фотоальбом)
– Это ничего не меняет, – сказала Вера, откидываясь на подушку. Тронула раскрасневшуюся щеку, не глядя потянулась к тумбочке, безошибочно точным движением вытянула из пачки папиросу. У нее все движения были безошибочными и точными. – Ты ведь понимаешь, Рогачов, что это ничего не меняет?
– Понимаю. – Он поднес ей спичку. Сам тоже закурил. – Я тебя люблю. Ты меня любишь. Но это ничего не меняет.
Комната была просторная – что называется, с остатками былой роскоши. Раньше здание принадлежало банку, здесь находился кабинет управляющего. От тех времен осталась мясистая лепнина на потолке и хрустальная люстра с дюжиной пузатых плафонов. Но всю мебель, краснодеревную чепуху, Рогачов велел отдать в наркоматовский клуб, оставил только сейф для документов и канцелярский шкаф, в котором хранил одежду и личное имущество, при необходимости без труда помещавшееся в небольшой чемодан. Посередине комнаты стояла железная кровать, около нее стул, исполнявший функцию тумбочки. Всё.
Рогачов здесь жил, вернее спал. В соседнем помещении, за двойной дверью, находился рабочий кабинет, бывшая секретарская. Это рационально и удобно. Не нужно терять время, ездя на службу, со службы. Если валишься с ног, клюешь носом – зашел, рухнул на кровать, поспал час-другой. Или, допустим, надо переодеться.
Когда приходила Вера – это случалось нечасто, потому что у нее тоже дел невпроворот, – никуда ехать не нужно. Вошли, заперлись, а личный помощник, верный человек, держит оборону. Если что срочное – постучит.
Но сегодня Вера пришла в последний раз. И то – чудо.
– Я не хотела приходить, – сказала она, видимо, думая о том же. – Но мы с тобой плохо расстались. После всего, что у нас было, – плохо. Я решила, что нужно расстаться по-хорошему.
Вера глядела в потолок, тугой серой струйкой выпускала дым. Она красиво курила. Она всё делала красиво. Рогачов смотрел на нее, и в груди у него похрипывало, будто назревал и все не мог прорваться кашель.
– Я… кх… рад, что ты… кх… пришла. Вчера на съезде после голосования я тебе кивнул, а ты меня полоснула взглядом, будто я помесь Колчака с Юденичем.
– Ты хуже, – сказала Вера, не приняв шутливого тона. Серые прекрасные глаза были прищурены. Голос враждебен. Будто это не она пять минут назад обнимала его, стонала через стиснутые зубы. – Колчак с Юденичем хотели убить революцию. А вы с вашим Сталиным ее предали. Предательство хуже убийства. Вы променяли мировую революцию на чечевичную похлебку жалкой власти над жалким куском суши. «Социализм в одной отдельно взятой стране», «мирное сосуществование двух систем» – чушь, и ты отлично это знаешь. У революции нет границ. Она захватывает весь мир. Или погибает. Твой Сталин – преступник. И вы все вместе с ним.
– Послушай, Бармина, ты же умная. – Рогачов тоже начал злиться. – Мы, большевики, – реалисты, только поэтому мы победили. И твой Троцкий во время Гражданской был реалистом. Воевал он хорошо, но восстанавливать и строить ему скучно. Вообразил себя новым Бонапартом, подавай ему всю Европу. Какая Европа? Мы и о Польшу-то несчастную в двадцатом году зубы сломали. Мы пока слабы, Бармина. Воевать нечем, жрать нечего! Будто ты не знаешь! Троцкий оторвался от реальности. Реалист теперь Сталин, и поэтому я – за Сталина. Мы должны показать мировому пролетариату, как замечательно умеет трудовой люд жить без буржуев. Когда мир увидит преимущества социализма, революции вспыхнут повсеместно! Сами собой!
– Какие преимущества? – Она села на кровати и теперь смотрела на него сверху вниз – так же яростно, как после голосования, определившего судьбу оппозиции. – Вы разлагаете и развращаете страну, которая без того разложена и развращена! Маните пряником мелкобуржуазности и нэпмановского уютца, щелкаете кнутом своего ГПУ, которое хуже царской Охранки. Опомнись, Рогачов! Вот за это мы с тобой погибали и убивали? Чтоб жены партработников форсили в мехах и ездили по магазинам на авто с шофером? Когда ты упал раненый – там, под Кронштадтом, – я тебя волокла по льду и плакала, а ты все повторял: «не жалко, не жалко» – помнишь? – ты вот ради этого хотел отдать свою жизнь? Чтоб членам ЦК выписывали матобеспечение по первому разряду, а членам Политбюро – по высшему? Чтоб люди шептались по углам и боялись пикнуть, потому что всюду шныряют филеры Дзержинского? Что за общество вы строите, Рогачов? Наверху – чинуши, внизу – трясущиеся от страха рабы? Всё снова-здорово, как при царе Горохе? У вас это называется социализмом?
Верин голос поднимался выше, наливался звоном, но не срывался. Так она говорила на митингах. Однажды на Дальнем Востоке она вернула на фронт краснопартизанский полк, взбунтовавшийся и перебивший политработников.
Когда Вера заводилась, надо было не кричать в ответ, а наоборот понижать голос. Тогда она умолкала.
– Победить в Гражданской войне было трудно, – тихо сказал Рогачов, – но в десять раз труднее будет победить косность сознания, шкурничество, хапужничество. Порядок новый, а люди-то прежние. Эту темную, дремучую страну можно вытащить на свет только за шиворот, только пинками. Да, через страх – если через ум не получается. Нет пока ума. Его еще нажить надо. Как минимум – научиться грамоте, мыть руки перед едой, жить общественным интересом. Я за линию Сталина, потому что в Политбюро он яснее всех понимает эту грубую правду, готов впрячься в телегу и протащить ее через грязь.
– Твой Сталин – мерзавец. Единственное, что его интересует, – власть. Ради нее он пройдет по трупам.
– Мы все идем по трупам. Сколько их было – оглянись назад.
– Это были трупы врагов. А Сталин пройдет по трупам своих товарищей!
Они сидели в нескольких вершках друг от друга, нагие – и непримиримые.
– Если понадобится, он и собственную семью не пощадит, – жестко произнес Рогачов. – Если придется выбирать – не дрогнет. Сталин – он из стали. Это человек ледяного пламени, оно пылает в его желтых глазах.
– Да ты в него влюблен, Рогачов. Ишь, про глаза заговорил… – Злая усмешка искривила ее распухшие от поцелуев губы. – Вот что, Рогачов. Для ясности. Мы с тобой враги. Однажды я увижу тебя на мушке прицела. И моя рука не дрогнет.
– Даже так? – Комната была плохо протоплена, он вдруг ощутил это и поежился. – Ты считаешь, дойдет до этого?
– Не будь ребенком, Рогачов. Если вы нас не перебьете, то мы перебьем вас. Не в пятнашки играем. Ваш это понимает, наш – пока еще нет. Поэтому скорее всего стрелять в меня будешь ты. – Она дернула красивым голым плечом. – Ну, или подпишешь приговор, это все равно. Стрелять будет ваше ГПУ.
– Чушь. – Он смотрел на ее плечо и опять не чувствовал холода. – Никогда этого не будет. И насчет твоей руки, которая не дрогнет…
Взял ее кисть – узкую, с длинными тонкими пальцами, которых не портили даже обрезанные под корень ногти. Прижал к губам.
– …Она дрогнет. И ты промахнешься.
Пальцы действительно задрожали, но Вера их выдернула.
Отбросив одеяло, она рывком поднялась на ноги. Фигура у Веры была узкобедрая, почти мальчишеская. На спине и ягодицах длинные белые полоски – следы от казачьей нагайки. В девятьсот седьмом начальник знаменитой Усть-Зелейской пересылки приказал строптивую каторжанку «выдрать как Сидорову козу». Подвергать женщин телесным наказаниям запрещалось, но Усть-Зелей в девятьсот седьмом жил по своим законам. Начальник пересыльной тюрьмы был мерзавец. Знал, что политические после позорного наказания обычно накладывают на себя руки в знак протеста. Только не на ту напал. Вера не отравилась и не повесилась, а бежала из тюремного лазарета. Одна, тайгой и дикими реками добралась до Тихого океана и ушла с японскими рыбаками. Другой такой женщины на свете не было.
Рогачов спустил ноги с кровати. Провел рукой по ложбинке на Вериной спине.
– Я тебя люблю, – сказал он и снова закхекал.
Вера отпрянула. На пол упал ремень, звякнул пряжкой.
Двое, тихо шептавшиеся в соседнем помещении, испуганно оглянулись на звук. Они стояли у длинного стола для заседаний. На другом столе, заваленном бумагами, чернели четыре телефонных аппарата: один обычный, один совнаркомовского коммутатора, один цековского коммутатора и еще прямой, с выходом к единственному абоненту.
– Встают! – шепнул помощник Рогачова, аккуратный блондин в коричневом френче, отодвигая льнущую к нему барышню. Она была не «товарищ» и даже не «гражданка», а именно что барышня: лицо сердечком, сама белокожая, с перекинутой через плечо черной косой. – Иди, нельзя тебе тут! Говорил же, никогда сюда не приходи!
– Как же было не прийти, Филечка! – пролепетала милая барышня и шмыгнула носиком. Ее глаза были влажны от слез, но не горестных, а наоборот, радостных. – Счастье-то какое!
Помощник коротко взглянул на нее (он всё смотрел на дверь), чмокнул в щеку.
– Иди, Софа, иди, дома отпразднуем.
Черноволосая Софа кивнула, взяла со стола сумочку – настоящую французскую, «Лориган Коти», из таможенного конфиската, Филин подарок на октябрьские.
– Погодь, – сказал он. – А это точно? Что понесла-то? Без ошибки?
Она прыснула.
– Дурачок. В женском деле ошибок не бывает.
– А рожать когда?
– Господь дозволит, к лету.
– «Господь», – передразнил он, поправляя ей славный завиток на лбу. – Всё, катись колбаской.
Девка была хорошая, послушная. Сразу и покатилась – шажочки мелкие, плавные, будто коромысло с полными ведрами несет.
У блондина от нежности затуманился взгляд. Но сказал вслед строго:
– Обстриги ты свою косу, сколько раз говорено. Перед людьми показаться стыдно. Ты мне теперь не какая-нибудь там, а жена будешь, законная.
Обернулась, личико засветилось.
– Ой, Филя… Филечка… – И слезы – прозрачные, что хрустальные бусинки.
– Про церковь даже не мечтай. – Он погрозил кулаком. – А насчет расписаться, это да. Чтобы дитё росло при отце, а не байстрючонком, как я. – Оглянулся на шум из-за двери. – Всё, беги!
– Слушай. Давай поговорим еще…
Вера молчала, притоптывала об пол, загоняя ногу в сапог. Она одевалась так же, как в Гражданскую, по-военному.
– Мы с тобой большевики, – быстро заговорил Рогачов, понимая: сейчас уйдет. Навсегда. – Мы диалектики, а не схоласты от марксизма. Как ты не видишь очевидных вещей?
– Брось, Рогачов. – Она оправила гимнастерку. – Все слова сказаны, мы друг друга не переубедим.
Сняла со спинки стула кожан – тот же, в котором Рогачов впервые увидел ее почти пять лет назад, на Десятом съезде.
– Вы проиграете. Даже если Троцкий с Зиновьевым объединятся, вы проиграете. Вы уже проиграли. Вы обречены, – сказал он, как будто этот довод мог на нее подействовать. – Сейчас в тебе говорит просто упрямство…
Стук каблуков по паркету. Хлопнула дверь. За ней вторая.
Голый человек, сидящий на железной кровати, остался один.
Рогачов сломал четыре спички, пытаясь зажечь потухшую папиросу. Закрыл ладонями лицо, замычал.
Вот так заканчивается жизнь.
– Не ври, – сказал он вслух, тряхнул пальцами, будто что-то смахивал, и усмехнулся. – Заканчивается только счастье. А жизнь, она продолжается.
Быстро, по-солдатски, оделся.
На внутренней дверце шкафа, приколотая кнопкой, висела Верина фотография. Это он нарочно так повесил, чтобы посторонние – помощник или уборщица – не пялились. Утром, одеваясь, задерживался на карточке взглядом.
Снимок этот Рогачову ужасно нравился. Вера тут была на себя не похожа: в шляпке, с модной стрижкой, с накрашенными губами. Фотографировалась в позапрошлом году, перед конспиративной поездкой в Германию.
Сдернул карточку, разорвал пополам, швырнул на пол. Будут подметать – выкинут. Кончено.
Скрипнула дверь.
Рогачов резко обернулся.
Это был Филя Бляхин.
– Товарищ Рогачов, вы велели без пятнадцати про Уральский металлургический напомнить…
Мигнул светлыми ресницами, скользнув по разобранной постели. Рогачова это не смутило. Чего Бляхина смущаться? Свой человек, который год вместе. Парень смышленый, но деликатный. Лишнего не скажет, куда не просят – не сунется.
– Да-да. Вызывай директора Микитенку.
– Уже вызвал. Ждет на проводе… – И, поколебавшись. – Чего это товарищ Бармина такая бледная вышли? Не заболели?
Рогачов, не отвечая, прошел в кабинет – Бляхин посторонился, пропуская.
Увидел на полу разорванную карточку. Поцокал языком, подобрал.
Милые бранятся – только тешатся. Хватится потом товарищ Рогачов, пожалеет, что фотку выкинул. А она – вот она, Бляхин сберег. Сзади ее калечкой проложить, да на клеёк.
– Здорово, Микитенко! – несся из соседней комнаты бодро-рыкастый голос. – Ты с каких это пор очковтирателем сделался? Я, Микитенко, очков не ношу, у меня глаз острый. Знаю, какая у тебя в литейном буза. Ну-ка, выкладывай начистоту, не по-директорски, а по-большевистски…
(Из клетчатой тетради)
Краткая история Любви
Кажется, самой ранней из дошедших до нашего времени концепций любви была космогония Парменида, созданная в начале пятого века до нашей эры. Философ считал Эрос, силу любви, регулятором всего сущего, ибо под воздействием этой энергии оба вселенских начала, Свет и Тьма, связываются между собою, растут или ослабевают. Впрочем, воззрения Парменида сохранились лишь во фрагментах. Несколько подробнее известна теория другого мыслителя, Эмпедокла (490–430 гг. до н. э.). Он предполагал, что мир состоит из четырех первоосновных элементов: огня, воздуха, воды и земли. Эти стихии неизменны и вечны, однако находятся в постоянном взаимодействии под влиянием двух начал: любви и ненависти, причем любовь (Эмпедокл называет ее не «эросом», а «филосом») обладает физическими свойствами влаги, будучи текучей и липкой, и олицетворяет добро, единство, взаимопритяжение, а ненависть подобна сухому, обжигающему огню и знаменует зло, разъединение, взаимотталкивание.
Примечательно, что первые философские трактаты, посвященные чувству, которое люди испытывали и желали как-то себе объяснить, по форме были поэмами. В последующие века философия и поэзия будут рассуждать о любви (вернее о Любви), применяя два разных, даже противоположных подхода – рационально-логический и эмоционально-образный.
Основополагающим текстом, от которого ведут свою генеалогию большинство позднейших теорий любви (во всяком случае, в западной традиции), является Платонов «Пир» (385–380 гг. до н. э.). В этом произведении описана застольная беседа («симпозиум»), происходящая в гостеприимном доме драматурга Агафона, где пирующие один за другим произносят похвальное слово богу любви Эроту, причем всякий излагает собственный взгляд. Не столь важно, что, согласно обыкновениям афинского просвещенного сословия, на пиру главным образом обсуждают любовь педерастическую, почитая ее более духовной и возвышенной, нежели гетеросексуальные отношения, ставящие перед собой «низменную» цель деторождения. Существенно другое: устами двух ораторов, Сократа и Аристофана, Платон излагает концепции, на которых так или иначе будут базироваться главные направления любовной философии, которые я бы определил как эгоцентрическое и симбиотическое.
Сократ (превосходство которого над прочими участниками беседы всячески подчеркивается автором) произносит блестящую и, с точки зрения Платона, логически безупречную речь, суть которой сводится к тому, что основа любви – стремление к прекрасному, которого человек не обнаруживает в себе и предполагает обрести в партнере. Оратор приводит аллегорию, по которой Эрот стал плодом соития богини нищеты Пении с богом предприимчивости Пором, когда тот напился пьян на дне рождения Афродиты. От матери Эрот унаследовал неутолимый голод, от отца – настойчивость, а поскольку был зачат в день Афродиты – влюбленность в красоту. Сам он нищ, некрасив и бездомен, но бесстрашен и одержим жаждой Красоты. Влияние этого бога на людей благотворно, ибо Красота – благо, а тот, кто стремится к благу, достигает счастья.
Аристофан, как и подобает драматургу, говорит ярче и образнее остальных. Он рассказывает легенду об андрогинах – древних существах с четырьмя руками и ногами, объединявших в себе оба пола и оттого обладавших огромной мощью, опасной для богов. Зевс рассек андрогинов надвое, чтобы сделать их слабыми. С тех пор две половинки некогда единой плоти бессознательно ищут друг друга, желая вновь воссоединиться. Этим инстинктом и объясняется любовное чувство, толкающее людей в объятья друг друга: не окажется ли возлюбленный той самой утраченной половиной? Аристофан утверждает, что человечество «достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим Эрота и каждый найдет соответствующий себе предмет любви, чтобы вернуться к своей первоначальной природе».
Таким образом, по Сократу Любовь – это голод души по Красоте; по Аристофану – стремление к созданию новой сущности.
Я называю «сократические» теории Любви эгоцентрическими, поскольку они сосредоточены на субъекте и его потребностях, ведь голод – ощущение сугубо индивидуальное. Оговорюсь здесь, что душа может голодать вовсе не обязательно по красоте и чему-то похвальному. В любовных отношениях можно найти сколько угодно примеров того, как людей притягивает страшное, порочное или безобразное. В сократовской смысловой паре «голод» и «красота» определяющим является первый компонент. (На этой теме я намереваюсь детально остановиться в дальнейшем.)
В то же время «аристофанический» взгляд на природу Любви предполагает симбиоз двух стремящихся друг к другу личностей и не фиксируется только на одной из них.
Впоследствии каждая из этих концепций обросла множеством разветвлений, некоторые из которых не имеют ничего общего с Любовью. Так, ранняя христианская теология, почитавшая за единственно прекрасную сущность Бога, признавала приемлемой только любовь к Всевышнему, Любовь же полагала грехом или необходимым злом. Неслучайно в средневековой этике наилучшим образом жизни почитался монашеский.
Античные мыслители, продолжатели сократовской линии возвышающей любви, так далеко не заходили. Они не отвергали физиологической стороны любовных отношений, относясь к ней безо всякого осуждения, однако ставили «филос» выше «эроса».
В обиходной речи часто используют выражение «платоническая любовь», имея в виду отношения, лишенные чувственности и телесности. На самом деле, развивая сократовскую линию, Платон вовсе не возводил в идеал асексуальность. Он призывал подчинить голос плоти, равно как и другие «низменные» вожделения, разуму и воле – во имя освобождения и духовного роста. Как любая программа индивидуального и автономного самоусовершенствования (в том числе и моя аристономия), эта позиция безусловно относится к категории эгоцентрических. Вообще нужно заметить, что именно такое отношение к любви и Любви являлось преобладающим на протяжении всей античности и еще долгое время по окончании этого исторического периода.
Теория любви, созданная учеником Платона великим Аристотелем, относится к той же школе, хоть и содержит ряд важных уточнений. Этот философ менее строг к человеческой телесности, почитая чувственность органичной частью души, однако же признает лишь спокойную и разумную привязанность «филос», осуждая самозабвенный и обсессионный «эрос».
Осторожный Эпикур, апологет душевной защищенности, которой можно достичь, лишь возведя вокруг себя прочную стену из минимальных потребностей и эмоциональной самодостаточности, тоже видел в Любви одну только опасность. Он советовал влюбленным поскорее жениться, ибо повседневность, деторождение и хозяйственные заботы быстро избавляют отношения от страсти, заменяя ее эмоцией более надежной и здоровой – дружеским расположением (то есть опять-таки «филосом»). Если вернуться к определению, которое я дал несколько выше, такой союз является не федерацией, а конфедерацией двух автономий, каждая из которых, в случае смерти партнера, сможет без разрушительных для себя последствий пережить утрату.
Для философов, каковыми были Сократ, Платон, Аристотель или Эпикур, подобное отношение к жизни естественно. Философ – существо головного устройства, привыкшее всё рационализировать и, как правило, успешно справляющееся с грузом бытия в одиночку. Рассуждения философа о Любви – теоретизирования о голоде из уст человека, который довольно смутно представляет себе, что это такое. Это расположение духа мне хорошо знакомо по собственному опыту.
Но примечательно то, что в эпоху античности и поэты, которым, казалось бы, по складу ума и темпераменту следовало бы возвеличивать Любовь, относились к ней с изрядной настороженностью – гораздо приземленней и, я бы сказал, циничней, чем философы.
У Лукреция и Овидия, и поныне считающихся большими авторитетами в вопросах Любви, это чувство рассматривается как опасный недуг, который нельзя запускать, поскольку он может привести к безумству и гибели. По мнению Лукреция, сердечная привязанность – лишь помеха физическому удовольствию. С одобрением и аппетитом описывая прелесть любовных утех, поэт предостерегает читателя от того, что я называю Настоящей Любовью:
- Но избегать должно нам сих химер, истребляя
- Корни подобной любви, устремляя свой разум к иному;
- Соки свои извергай в любое пригодное тело,
- Не береги их во имя единственной страсти,
- Это чревато несчастьем и тяжким страданьем…
Еще легкомысленней на Любовь смотрит Овидий, видя в ней увлекательную игру и формулируя правила этой чудесной забавы – вплоть до того, что дает женщинам точные инструкции, как следует себя вести во время соития.
Такое отношение к Любви, являющееся нисходящей ветвью эгоцентрической линии, я бы определил как «скептическое». Со временем у него, помимо легкомысленных поэтов, отыщутся сторонники и среди философов, которые теоретически обоснуют и аргументируют отрицание НЛ.
Большую часть Средневековья, все так называемые» темные века», из краткого обзора философии любви можно вычеркнуть, поскольку в трудах отцов церкви, от Блаженного Августина до Фомы Аквинского, речь шла только о любви божественной. Собственно Любовь на время будто исчезла. Насколько можно судить, браки в ту эпоху заключались не по сердечному влечению, а из практических соображений и во имя продолжения рода. Был повсеместно распространен обычай женить по сговору, а в аристократических домах считалось нормальным даже заочное бракосочетание, когда жених присылал вместо себя на венчание своего представителя. Любовь (с большой буквы), вероятно, возникала и в таких семьях, однако была счастливой случайностью, и люди твердых этических взглядов должны были считать ее чем-то греховным, обкрадывающим Господа.
Можно сказать, что первая инкарнация Любви в западной эйкумене продолжалась примерно тысячу лет и закончилась вместе с античностью. На следующие полтысячелетия Любовь умерла или, по крайней мере, впала в глубокую и длительную гибернацию.
Этот померкший было свет засочился вновь, едва лишь оксидентальная цивилизация начала выходить из самой суровой поры варварства. С тех пор он больше не угасал, сияя все ярче и ярче. Поскольку это уже не древняя история, а нынешняя жизнь Любви, имеет смысл рассмотреть ее эволюцию поэтапно, в подробностях.
Реинкарнация Любви произошла в Окситании (современной южной Франции), наиболее зажиточном и культурно развитом регионе средневековой Европы, где в XI–XII веках возникла мода на «куртуазную Любовь», которая на провансальском языке называлась fin’amor, то есть красивая или утонченная Любовь.
Это явление было вызвано целым рядом естественных факторов. Прежде всего – смягчением условий существования вследствие хозяйственного развития и относительной политической стабильности. Человек так устроен, что когда борьба за выживание оставляет хоть какую-то часть внимания и сил незадействованными, этот ресурс начинает немедленно работать на усложнение жизненно-бытийных запросов. Пресловутый поиск Красоты, о котором так много писали еще античные авторы, в своей основе строится именно на этом – на движении от простого и необходимого к сложному и избыточному.
В материальном отношении общественный прогресс выразился в изобретении новых удобств, диверсификации пищевого рациона, улучшении качества построек. В области культурной – в тяге к украшательству и развитии искусств (что в конце концов приведет к Ренессансу). Ну а в сфере эмоциональной главные бенефициары всех этих благ, представители высшего сословия, начали ощущать потребность в более тонких чувствах. После долгих веков крайне сурового прозябания европейская жизнь начала смягчаться, и это обстоятельство нашло свое отражение в отношениях между полами. Как ни цинично это прозвучит, но воскресение Любви было явлением того же порядка, что возрождение пришедшей в упадок кулинарии, усовершенствование ювелирного ремесла или бум производства дорогих тканей.
Несомненно сыграло роль и культурное влияние соседствующей испано-арабской культуры, в которой к тому времени уже существовала традиция романтизированного отношения к Любви. Европейские дворяне попадали в плен к маврам, ездили к ним с посольствами и видели, как придворные поэты халифов и эмиров воспевают очень странные вещи: муку сердечной любви и преклонение перед женщиной[4.
С точки зрения тогдашнего рыцаря-христианина, женщина была «сосудом греха», недочеловеком, средством для детопроизводства и заключения выгодных союзов. Следует учитывать и то, что у мужчины-дворянина существовало довольно туманное представление о женском мире. Мальчика в очень раннем возрасте разлучали с матерью, сестрами, няньками и отдавали на воспитание в воинскую среду. Да и потом, повзрослев, рыцарь почти не общался с равными по статусу представительницами противоположного пола. Вообразить их некими особенными и таинственными созданиями, поступки которых удивительны, а мотивы неподвластны пониманию, было очень просто.
С социальной точки зрения, расцвету «куртуазной Любви» способствовала сложившаяся к тому времени майоратная система, при которой, во избежание бесконечного дробления феодов, наследником считался только старший сын, а прочие оставались безземельными и, стало быть, практически не имели шансов обзавестись собственной семьей. С дочерьми эта проблема решалась проще: бесприданниц обычно отдавали в монастырь и они выпадали из матримониально-любовного «оборота». Но кадеты (младшие сыновья) по большей части оставались в миру и имели достаточно досуга для того, чтобы воздыхать по чужим женам или заведомо недоступным невестам.
При дворе герцогов Аквитанских, графов Прованских и Шампанских, постепенно распространяясь на сопредельные области Западной Европы, начал формироваться новый тип отношений между мужчинами и женщинами – разумеется, только аристократического сословия, а вслед за революцией в этикете возникло и новое, модное чувство: Любовь.
При этом оно не распространялось – во всяком случае не должно было распространяться – на брачные отношения. В двенадцатом столетии возник обычай проводить «Любовные суды», на которых заседали знатные дамы, вынося свои вердикты по поводу трудных Любовных случаев. Самый знаменитый из таких «трибуналов», проведенный графиней Шампанской в 1174 году, провозгласил: «Мы объявляем и постановляем, что Любовь не может иметь полной власти над женатой парой, ибо возлюбленные – это те, кто дарит Любовь по своей свободной воле, а не по необходимости и не по принуждению, в то время как муж и жена исполняют желания друг друга и не могут один другому ни в чем отказать из супружеского долга».
Брак считался скучной прозой, Любовь же должна была существовать по законам высокой поэзии. Неслучайно ее глашатаями, пропагандистами, законотворцами были трубадуры, среди которых попадаются очень важные сеньоры и даже монархи.
Куртуазную Любовь можно разделить на две категории: «земную» и «идеальную».
Первая представляла собой всего лишь метод ухаживания. Чтобы добиться благосклонности дамы, рыцарь должен был проявлять галантность, демонстрировать самоотверженность и доблесть – с целью добиться взаимности и насладиться плодами победы. Фактически это было не более чем усложнением эротического ритуала ради того, чтобы продлить наслаждение и сделать его изысканнее. Опасности, которыми сопровождалось подобное приключение, добавляли остроты и пикантности. Безумства поощрялись, они считались проявлением высокого вкуса, но в сущности разница с «практическим любовеведением» Лукреция или Овидия тут невелика.
Однако возникла и другая разновидность куртуазной Любви, которую скорее можно возвести к сократовско-платоновскому служению возвышенной Красоте. Обыкновенно такая влюбленность (служение даме) связывала вассала с владетельной или высокопоставленной женщиной, которая по своему положению была совершенно недоступна. Рыцарь поклонялся ей издалека, не надеясь на взаимность. Совершал в ее честь подвиги, сражался на турнирах, если умел – сочинял стихи. В данном случае предмет Любви словно бы переставал быть живой женщиной и превращался в символ всего прекрасного и возвышенного.
Конечно же, и «земная», и «идеальная» разновидности fin’amor целиком относились к «эгоцентрическому» направлению Любви, поскольку реальная женщина с ее чувствами и мыслями трубадуров занимала очень мало; в центре действий и переживаний всегда мужчина. Никому не приходило в голову спросить, хочет ли женщина, чтобы ее считали Прекрасной Дамой и пламенно обожали издалека. Собственно, куртуазная Любовь адресовалась не живому человеку, а некоему умозрительному образу.
Исследователю, который изучает историю, чтобы найти ответ на важные философские вопросы, куртуазность, этот младенческий возраст Любви, может показаться комичным манерничаньем, не заслуживающим особенного внимания. Но это заблуждение. Веяния, проявившиеся как дань придворной моде, обозначили серьезный сдвиг в сознании европейцев и повлекли за собой далеко идущие последствия.
Если раньше вся жизнь духа концентрировалась исключительно на религиозно-божественном поиске, то с этих пор стало считаться нормальным, если значительная часть душевных сил будет расходоваться на попытки установить эмоционально-психическую связь между мужчиной и женщиной. Это был первый шаг по преодолению экзистенциального одиночества, в котором обречен существовать человек, без использования инструментария религии; первый шаг к сближению половинок аристофанова андрогина.
Разумеется, даже в самых культурных кругах феодальной Европы нравы оставались весьма грубыми. Куртуазность по отношению к дамам была не более чем проформой и аффектацией, демонстрацией принадлежности к высшему сословию. Однако, как известно, даже сугубо декоративные поведенческие нормы вроде придворного этикета или правил учтивости оказывают огромное влияние на изменение личного и массового сознания, поскольку создают модель «правильного» и «неправильного» существования, определяя, к какому образу мыслей надлежит стремиться и какие чувства следует испытывать. Эти представления постепенно распространяются от верхушки социальной пирамиды вниз. Более же всего на умы и обычаи воздействует литература, жизнь которой гораздо долговечнее преходящей моды.
Если нудный латинский «Трактат о любви» (ок. 1200 г.), в котором парижский клирик Андре Капеллан изложил свод законов куртуазной Любви, так и не стал популярным чтением, то многочисленные рыцарские романы, описывающие служение Прекрасной Даме, а также баллады и сказания трубадуров, бардов, миннезингеров на протяжении нескольких веков являлись чуть ли не единственным культурным развлечением всех мало-мальски образованных сословий.
Читая повести или слушая песни о том, как сэр Ланселот поклонялся королеве Гвиневре или как Тристан с Изольдой во имя страсти преодолевали тысячу препятствий, европейцы позднего Средневековья привыкали к идее, что, оказывается, возвышенную любовь можно испытывать не только к Господу.
Любви была выдана лицензия на почетное существование. Она стала считаться могущественной силой. Один из самых прославленных провансальских трубадуров, аквитанский герцог Гийом IX, сформулировал это так:
- Ее восторги исцелят больного,
- Но гнев ее здорового сразит;
- Мудрец лишится от нее рассудка,
- Красавец в безобразие впадет.
Важным открытием для мужчин было то, что женщина, оказывается, не только средство для удовлетворения полового инстинкта и что вообще-то неплохо бы для начала завоевать ее сердце, а потом уже насладиться радостями Любви.
Иначе стали ощущать себя и женщины, впервые почувствовавшие себя вправе – пускай не в социальном и не в юридическом, но хотя бы в этическом смысле – распоряжаться своими чувствами по собственному усмотрению.
Идея того, что в идеале Любовь должна быть взаимной, произвела настоящую революцию в сознании.
После того как провансальский очаг культуры, слишком контрастировавший с общим уровнем развития континента, был в XIII веке разорен войсками крестоносцев, авангард культуры переместился в Италию, где произошло Возрождение западной цивилизации, то есть восстановилась нить, которая тысячелетие назад была оборвана нашествием варваров.
Идеологическим сопровождением Ренессанса, осмыслением происходящих в обществе процессов, был гуманизм – учение, суть которого сводится к тому, что человек достоин уважения и любви таким, каков он есть, не только в духовной, но и в физической своей ипостаси. Человек не безобразен и не низмен, ему незачем стыдиться своего естества. Применительно к эволюции Любви этот поворот мысли означал, что можно Любить, не стыдясь физиологичности и не терзаясь, что крадешь частицу любви у Бога.






