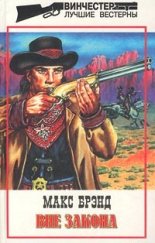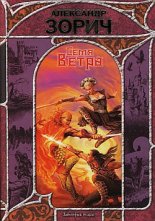Игра Бондарев Юрий

– Я предлагал.
– Тих-хо, гангстеры! Где мои пистолеты с инкрустированными рукоятками? Гриша, читай Гумилева!
– Я хочу вам сказать, молодые люди! Гумилев после.
– Опять вы, дядя? Ну давайте, давайте говорите! Дайте сказать ему, банда! Слушать тост человека, который познал все страдания мира!
С угрюмым, уже вконец хмельным, малиново-сизым лицом, кося глазом, снова по-медвежьи поднялся рыхлый мужчина, сосед Крымова, и он внезапно вспомнил: его знакомили с ним лет десять назад, на каком-то вечере в Доме актера как с сыном известного писателя, погибшего на Севере в тридцатых годах.
Тот всосался ртом в рюмку, выпил с жадностью.
– Древние говорили: торопись, но медленно! Это касается всех нас! А вы? Кто вы? Что вы знаете?…
– Мысль о смерти – страх перед смертью.
– Потребители жизни. Что вы знаете? Труднее всех на свете живется талантливому и честному человеку.
– Все твои уважаемые классики – сентиментальные вруны!
– Натан, как ты ко мне относишься?
– Я романтик, и это спасает меня от реальной оценки вещей. Я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак. Прав тот, у кого больше прав.
– Циник.
– Откройте окно, пусть ворвется свежий ветер в эту накуренную комнату! Прекратите курить все!
– Диас продал пейзаж за пятьсот. Оформляет сейчас спектакль, кажется, на Таганке.
– Если работа – жизнь, то она наполнена до краев. Не хватает времени.
– Так что же – значит ложь огромна, богата, сильна, а правда мала, ничтожна, бедна?
– Чепуха! Искусство – всегда метафора действительности.
– Самая лживая ложь охраняет и поддерживает жизнь всех правд человеческих!
– А бездарность всегда лжет!
– Не бесполезное ли это умствование?
– У нас шестнадцать процентов всех мировых запасов леса, двадцать процентов всей мировой воды, а бумаги не хватает!
– А что такое ложь – самозащита?
– А если ложь есть правда? А правда есть ложь? Не корчь рожу, сам умею!
– Тихо! Слушайте сюда! Я прочту вам стихи Ахматовой! Божественные строки!
– Роза, как насчет твиста? Учти, я не способен. Диас! Гений! Изобрази губами что-нибудь про твист или шейк!
– А Всеволод на сцене умеет здорово хлопотать мордой. И голосом. Орет, как иерихонская труба!
– Знаешь, что такое критика? Автограф под собственным невежеством.
– А ты вот ушами хлопаешь, как дверьми! Подай бутылку, родной! Зафилософствовался!
– О ком говоришь? Кто бездарность? Ерунду заявляешь и даже не бледнеешь. О художнике надо судить по лучшей его работе! А не по худшей. Злые мы стали, завистливые до ненависти.
– Ты – о ком? Или уже вдребодан? О ком ты?
– О тебе. Тиркушка ты.
– Что за тиркушка? Офонарел?
– Птица такая. Малю-у-сенькая. Уживается с крокодилом. Разевает пасть, а она чистит ему зубы. Клювиком – раз-раз! После того как он сожрал кого-нибудь.
– О, как интересно – зло уживается с добром?
– В каком смысле это тебя интересует, Светланочка? В житейском или философском? Когда ты мне говоришь «нет» – это зло по отношению ко мне. Но ты считаешь это добром по отношению к себе. Не так? Вот сейчас я хочу уйти с тобой в ванную…
– Прекрати глупить, Натан. Я серьезно.
– Зло, девочка, это то, что разъединяет людей, как бы злые люди ни были объединены. Это в философском смысле.
– А Бог? Есть ли тогда Бог? Куда он смотрит?
– Он смотрит на направление главного пути, а не на извивы человечества. Ты хочешь меня углубить, девочка?
– А может быть, истина и есть в этих извивах? Спроси у Бога, Натан, где теперь любовь?
– Хочешь в философском смысле? Пожалуйста…
– В любом. Ты все затуманил. Говори так, чтобы тебя понимали.
– Изволь, дорогуша моя. В американском журнале «Плейбой» помню рисунок: ошарашенный вожделением карикатурный папаша сидит в кресле с сигаретой в зубах, а возле него три обнаженные девицы. Подпись: разделение труда. Одна девица зажигает спичку, дает ему прикурить, другая возбуждает этого толстого хряка, а третья лежит в постели, ждет его. Здесь я способен понять и позавидовать. Ха-ха! Что касается правды или истины, то, пожалуй, лучше всего, чтобы тебя не понимали. Я хочу тебя – это понятно?…
– Ты смеешься?
– Света, пошли к дьяволу этого циника от философии! Я за свободу дискуссий! Поэтому не обижайся: чуши он тебе нагородил – лошадь не перепрыгнет. Наоборот: человек только тогда человек, когда боится умереть, только тогда он может познать свою ценность и ценность других. В этой слабости его величие. Не боится смерти только нуль, пустота, ничто!
– Троекратное ура мудрецу…
– Тихо, банда! Слушать сюда, когда говорят взрослые! Кто сказал «ценность других»? Архитектура? Позорище века! Стыдоба! Кривая дорога ослов! Не слушай их обоих, Светка. Единственное, что еще стоит чего-то… что еще объединяет людей, это любовь. Все остальное – полкопейки!
– Какая любовь? Любовь – талант, а я, возможно, бездарен в этом отношении.
– Н-да, господа, глупость нельзя отделить от нашего Всеволода, как причину от следствия. Гип-гип, я пью за причину и следствие.
– Погромче, Диас. Бормочешь чего-то…
– Говорю: все в живописи соцреализма идет от идеи, старик, цвет – лишь средство. Считай, что я рисую для себя, потому что уважаю идею самого цвета.
– И колорита?
– Я уважаю серебристый колорит.
– Кто – Всеволод талант? Или Натан? Не-ет, это планеты, а не звезды. Звезды – редкость, родной мой.
– Почему планеты?
– Отраженное… не свой свет. Кто мог быть, пожалуй, звездой из всех нас, так это Ирина. Но не стала, не повезло. Знаешь, как в жизни – все вдруг. Вдруг разрыв связок, и на год врачи запретили танцевать. Подожди, дай-ка я скажу тост. Всеволод, наведи порядок! Все галдят как сумасшедшие, не прорвешься.
– Тихо, банда, стрелять из бутылок шампанского буду! Тост! Химическая тишина, когда говорят великие журналисты, не разбойники пера, а борцы за правду!
– Дорогая Ирина, прелестнейшая и талантливейшая женщина нашего времени, мы все влюблены в тебя, и я хочу от всех нас, твоих друзей, сказать, что ты могла быть замечательной балериной…
Крымов, никого из гостей не знавший, оглушенный толчеей вокруг стола, криком, хохотом, спорами этой нестеснительной молодой компании, сидел на диване, в тени, ничего не ел, не прикасался к рюмке, понимая, что здесь он чужой, курил, наблюдал украдкой за безмолвной Ириной, за переменчивостью ее лица, которое в зависимости от направления спора становилось то веселым, то виновато-растерянным, потом, когда сухопарый длинный парень в очках, «великий журналист и не разбойник пера», стал произносить тост, лицо ее выразило страдание. Она вытянула из пачки Крымова сигарету, прикурила от его зажигалки, тотчас загасила сигарету в пепельнице и, подняв глаза на парня в очках, проговорила грустно:
– Милый, о чем ты говоришь? Все это неправда, все это слова, слова, от которых мне стыдно… И тебе потом будет стыдно. – Уголки ее губ тронула полупечальная улыбка. – Вообще все, что вы говорите, так далеко… и это, наверно, все не нужно, все лишнее. А мы лжем самим себе и уже не помним… мы забыли, кто мы есть. Мы – частички земли, крохотные частички и больше ничего. А мы перестали ее любить, потому что любим самих себя. Друзья мои, вы ведь любите только себя… Я не лучше вас, я такая же, но я не хочу лжи, не хочу обмана, не хочу слов, я хочу любить землю…
– Кого любить, дьявол-передьявол? – загремел иерихонский баритон актера. – Ты предала нас, Ира! Ты обманула нас, неверная!
Ирина сказала дрогнувшим голосом:
– Я никого не обманула, я хочу любить небо, землю… а, может быть, потом – всех вас. Небо, землю и, конечно, горизонт, – повторила она с той страстной наивностью, которая делала ее и независимой перед всеми, и обезоруженной. – Да, я люблю горизонт.
– Где ты видишь горизонт, Ириночка? Чем ближе к горизонту, тем он дальше. Даже в любви его не догонишь! Каким образом, дьявол-передьявол, ты хочешь любить горизонт? Аномалия! Причуды амазонки! Патология!
– Пусть. Я так хочу, – кивнула она со своей неуловимой полуулыбкой и вдруг поднялась за столом, сказала внятно и по-прежнему независимо: – До свидания. Мой день рождения окончился. Я никого не предала. Через неделю можете приходить ко мне в любой час дня и ночи.
А после того как гости разошлись, затихли голоса на улице, она в раздумье подождала в передней, погасила свет и, слабо темнея силуэтом, остановилась у окна, раздернула занавеску – там, за стеклом, в ветреной тьме над Замоскворечьем в ледяном холоде пылали зимние созвездия.
– Какие они все чужие, – сказала она. – Подойдите и посмотрите, – добавила она шепотом. – Как блестят изумительно!
Крымов подошел к ней и, по-новому чувствуя и ее беззащитность, и упрямую пружину сопротивления, не предполагавшуюся им раньше, подумал о том, что она умеет держаться на людях с какой-то спокойной, не обижающей твердостью.
– Я не понял, Ирина, кто – чужие? Ваши друзья?
Она, не отвечая на вопрос, проговорила тихо:
– Неужели все мы будем в прошлом? Были, надеялись, ждали… И Сократ, и Чехов в прошлом. И Сафо, и Анна Павлова. И миллиарды людей, что когда-то жили. И мы с вами будем в прошлом. Скажите, Вячеслав Андреевич, почему тогда люди делают не то что надо? Они не чувствуют это?
– Когда вам разрешат танцевать, Ирина? – спросил он, не желая поддерживать ее настроение. – И могу ли я вам в чем-либо помочь? Простите меня за этот навязчивый вопрос, но мне хотелось бы…
– Я потерплю, – сказала она строго. – И мне не надо ни в чем помогать. Если вы еще раз скажете о какой-то помощи, то я рассержусь… Хотя я совсем не хочу на вас сердиться…
– Спасибо.
– Знаете что? Ваша жена – очаровательная женщина, и ее нельзя не любить, и я не хочу говорить вам лживые слова. А я не смогу быть женой и никогда не буду ничьей любовницей. Гадкое слово, противное… Пока вам или мне не надоест, мы с вами останемся друзьями. Вы согласны?
– Согласен, – ответил он с преувеличенной покорностью и спросил: – А если не секрет, чего хотят ваши молодые друзья? У них все хорошо? Или все плохо?
– У них, пожалуй, все хорошо. Но что значит хорошо? Они зарабатывают деньги. Но все они считают себя неудачниками, так как мечтали о мировой славе. Вы не замечаете, что в последние годы стало много самонадеянных неудачников? У них как будто все так, как надо. И какое-то несовмещение…
– С чем?
– Ну, с жизнью… Вернее, как бы вам сказать… Желаний с жизнью. Мы слишком многого ждали…
– И у вас тоже… несовмещение?
– Я разве сказала? И вам нравится жалеть меня?
Она повернулась к нему, на ее волосах чуть заметно проступал звездный свет, глаза были опущены, и в изгибе рта чудилось ему нечто упрямое, своевольное, детское. И он, осуждая себя за назойливость любопытства к этой упрямой девочке, проговорил:
– Знаю свою слабость – нетактичен, невежлив, как оглобля.
– Все имеет свое начало и свой конец, не правда ли? – сказала она. – Но мне никто не может помочь.
– Никто?
– Да. И вы не можете. Только я сама. Я должна постоянно говорить себе: «Ничего, мы еще повоюем…»
Она отошла от окна и села на диван, еле различимая в потемках.
Слово «повоюем» никак не соответствовало ее слабой улыбке, слабой тонкости ее рук и шеи, порой возбуждавшей у него безотчетное чувство опасности, которая, мнилось, угрожала ей поздними московскими вечерами, когда она одна возвращалась на Ордынку, – его воображение рисовало мрачные подъезды и на углах поджидающие темные фигуры с жестким взглядом убийц, ее лицо, запрокинутое, мертвое, ее окровавленное тело, брошенное на цементный пол в закопченном, сыром подвале. Он так отчетливо чувствовал ее хрупкость и беззащитность рядом с грубой силой, что эти картонно-зловещие театральные картины возможной беды порой заставляли его звонить ей по вечерам, оправдывая звонки привычной иронией: «Я хотел проверить, соблюдаете ли вы режим».
– Верно, мы еще повоюем, – сказал он и сел возле нее на диван. – А если уж так, Ирина, делаю вам официальное предложение: я хотел бы, чтобы вы снялись у меня в фильме. Съемки начнутся летом. Признаюсь: год назад я видел вас в «Жизели» и сдедал выбор, от которого трудно отказаться. Давайте попробуем, а?
– Нет, – прошептала она. – Никогда. Я не хочу разучиться танцевать.
Ранней весной она согласилась. Это было за два месяца до ее гибели.
Глава четвертая
А тот летний день под Москвой был не совсем раскрытой тайной и для него.
Перед старым, сделанным из шатких жердей мостиком, не способным выдержать «Волгу», шофер остановил машину, и отсюда, с берега, стали видны вдали низкие купола и белые стены Старого Спаса. Сначала они пошли тропкой мимо зарослей орешника, потом через зеленеющее кукурузное поле до опушки рощи, куда подымался горячий на взгорке древний проселок, должно быть помнивший лапти калик перехожих, покорную поступь молчаливых монахов, прикосновения босых ног разувшихся в дальнем пути богомольцев, хозяйственную припечатку купеческих сапог, и танец сапожек деревенских красавиц, и смиренную притомленность разного сана грешниц, ходивших сюда из Москвы спасать душу. И Крымов, подходя к монастырю, вообразил пекущий июньский день, потные под платками белые лбы столичных грешниц, скромно опущенные ресницы, серо-запыленные в покаянной дороге юбки, увидел до того реально, точно вчера сидел вот здесь, в тени придорожного вяза, на пахнущей влагой земле, слушая сонный плеск ручья под бугорком.
Проселок через рощу привел к невысокому храму, окруженному полуразрушенной стеной. Над разросшимися липами жарко горел в голубой синеве золотой крест, и вместе с теплым воздухом, настоянным цветочной горьковатостью пересушенного сена, наносило сыровато-березовой плесенью дров, уложенных штабелем в бывшем монастырском дворе.
Да, во всем был разгар лета, ослепительность, синева, зелень, радостная густота листвы, и Крымов особенно чувствовал молодой блеск глаз Ирины, ее особенно живую, необычную отзывчивость и позднее, восстанавливая этот день в памяти, почему-то хотел подробно вспомнить и ту минуту около церкви, когда она задержалась подле паперти, где стояла под навесом липы кем-то оставленная тут детская коляска со спящими младенцами-близнецами, распаренными зноем (кажется, тогда она сказала: «Какие у них чудесные носики, какие смешные рожицы!»), а он спустился по ступенькам из слепящего полдня в холодноватый полумрак церкви, где две старухи в темных платках шептались на лавке, клоня головы, молясь и время от времени по-деревенски опрятно утирая края губ.
В церкви Старого Спаса веяло студеностью каменного пола, тускло отблескивали фрески на стенах, под куполом, и было слышно, как в тишине летнего светоносного блаженства на заросшем монастырском дворике ворковали голуби. Крымов задержался у иконы Богоматери, в озарении свечей взирающей неземными глазами на дела мирские, но, заслышав стук каблуков по гулким ступеням, обернулся. Проем входа был ярко залит солнцем полного июньского дня, как-то сладостно ощутимого из каменного подвала церкви, и он увидел в проеме неистового солнечного сияния ее фигуру, ее легкую юбку, пронизанную сзади золотистым светом, и древние гранитные ступени, по которым гибко ступала она, чуть покачиваясь. Он заметил, что старухи перестали шептаться, осуждающе повернули в ее сторону головы, а она приблизилась к иконостасу, приветливым взглядом здороваясь с ними. И Крымову стало весело оттого, что старухи осуждали ее молодость, приветливую невинную свободу, открытую этому дню, и взору святых, и скорбящей Богоматери, и огонькам свечей. Он увидел поднятые глаза Ирины, как бы отделенные от лица, сияющие в полутемноте влажным блеском, и, сдерживая легкомысленное в храме желание улыбнуться ей, сказал, указывая кивком на икону слева:
– Посмотрите, как по-современному написан лик святого Александра Невского.
– Да, да, удивительно, – отозвалась она шепотом.
Все было нерушимо и тихо, вверху, под куполом, стонали в любовной истоме голуби, в веерном солнечном свете отсверкивал кафельной плиткой недавно вымытый пол (в углу мирно стояло ведро, на нем сушилась тряпка), благолепные лики святых и раздвинутые царские врата под расписными сводами не угрожали напоминаниями о потерянной вере, о тяжких грехах, о земной тщете, не давили печалью, и по-прежнему было чисто на душе Крымова, и было необыкновенно хорошо чувствовать ясную молодость Ирины в этом старом храме, наполненном воркованием голубей и полевой тишиной.
Минут двадцать спустя вышли из церкви на зеленый холм (остатки городища), где внизу, в широкой впадине текла река, заставляя представить, какие улицы, какие стены русского города были когда-то тут, на острове, замкнутом водой, вблизи монастыря.
– Ну вот, пожалуйста, полевая гвоздика, – сказала она и легла на траву, ласково погладила ладонью цветы, затем повернулась на спину, мечтательно говоря: – Вот так бы лежать все время и смотреть в небо. Неужели оно было таким всегда? И когда нас не было, и в пятом веке, и в десятом? Какая все-таки благодать: солнце, тишина, стрижи над колокольней…
– Где-то я читал: поблизости с полевой гвоздикой должна быть и ягода… – сказал Крымов и, засмеявшись, отвел глаза, чтобы не видеть ее колен.
Он снял пиджак, кинул его на землю, лег рядом и, как по заказу, нашел вблизи землянику, крупную, перемлевшую на припеке, сорвал две ягоды со стебельком и протянул их Ирине. «Благодарю, поделим поровну», – сказала она и, продолжая глядеть в небо, рассеянно отъединила губами одну ягоду, а другую вернула ему. Он хотел увидеть и не увидел сок на ее губах, ибо по неподвластным памяти путям вспомнил неприкасаемую возлюбленную Мартина Идена, которая показалась герою доступной в тот миг, когда по-земному был замечен им красный сок черешни на ее губах.
– Скажите, есть ли на свете человек, свободный, как ветер? – спросила она низким голосом, будто повторяя слова роли, но этих слов не было у его героини.
– Человек счастлив тогда, когда время не имеет для него значения, – ответил Крымов ленивым тоном самовлюбленного героя из сценария и оперся на локоть, видя ее отрешенное от земного лицо, ее выгнутую юную шею, раскинутые на траве руки.
– Значит, мы с вами несчастливы, – сказала она разочарованно. – Раньше уходили спасать душу в монастыри и скиты. Счастливцы…
– Почему несчастливы? И почему счастливцы?
– Я не о том, – поправилась она и нахмурила брови. – Я не смогу сыграть женщину, которая проклинает слабого человека. Не так это надо. Он трус, ее муж, он обманул, но не предал ее и ушел. Она должна жалеть его, современного неудачника и эгоцентриста. Но скажите – есть Бог? Я спрашиваю серьезно.
– Есть мировая гармония, по-видимому.
– Тогда почему существует зло? Объясните.
– Дерево растет в высоту – чего оно хочет? Молнии?
– Конечно, нет…
– Тогда, значит, красоты, – продолжал он с шутливой доказательностью. – Красота помогает подыматься в небо, к недостижимому. Или вернее – она является лестницей, соединяющей землю с небом. А зло врастает в землю.
– Нет.
– Почему?
– Вы говорите – красота. Но что это такое, в конце концов? Совершенная красота греческих статуй – скука невероятная. Скучища, тоска. Идеальная классичность – боже, какая мертвечина! Нет, это небезупречность, нет! – договорила она страстно. – Красота – в пластике движения. Вот смотрите… – И она сделала плавный жест кистью и уронила руку на траву.
– Красота – это западня, – сказал он по-прежнему шутливо. – Прикоснулся – и она захлопнулась, и нет выхода.
– Чепуха, неправда. Всегда есть выход.
– Из этой западни нет ни у кого. Но я обобщаю рискованно. Здесь спасает чувство реальности и самоирония. И боязнь быть гостем на чужом пиру.
Она задумчиво посмотрела на него, заговорила с грустным непониманием:
– У вас загорелое лицо, светлые морщинки возле глаз. Я по сравнению с вами дурнушка, а вы действительно можете нравиться женщинам. Но почему вы видите во мне глупую девчонку и говорите со мной, как со школьницей, с ученицей девятого класса? По-моему, вот уже полгода вы меня тщательно изучаете как режиссер. Скажите искренне – я действительно бездарная?
– Ирина, отчего вы вдруг?
– Тогда скажите, почему люди так жестоки и недоброжелательны друг к другу?
– Ради чего вы задаете эти вопросы, Ирина?
– Не важно. Почему скромность стала уже как порок?
– Да в чем дело? Я озадачен…
– Почему доброе, сокровенное вызывает насмешливую улыбку? И в то же время поклоняются пошлейшей моде, дурацким джинсам, жуткой музыке, какой-нибудь сиюминутной заграничной звезде…
– С вами что-то случилось?
– Вы ответьте, Вячеслав Андреевич, если не считаете меня глупенькой танцовщицей. Многие считают, что балерины, или танцовщицы, почти все глупенькие…
– Не все, ясно же, – сказал Крымов, несколько встревоженный переменой ее настроения. – Хотите знать, что я думаю? Мы, Ирина, часто идеализируем человека, а он еще сознанием до многого не дорос. Однажды я был очень удивлен, когда узнал, что только два с половиной миллиметра серого мыслящего вещества в наших головах… жалких два миллиметра отделяют нас от животного. А все остальные – пять миллиметров – инстинкты, инстинкты.
– Вы снова говорите со мной, как с ребенком, а не серьезно, как я хочу.
– А если совсем серьезно, Ирина, то современному гомо сапиенсу часто не хватает поступка, потому что делать добро всегда трудновато и хлопотно. Говорить друг другу правду – иногда выглядит близко к глупости, иногда даже небезопасно. Поэтому вместо поступка мы привыкли очень легко судить людей. А надо уметь прощать. Ни черта не умеем…
Ирина сорвала травинку, прикусила ее зубами.
– Меня сегодня судили… и очень жестоко, – тихо и, казалось, равнодушно сказала она после молчания. – Утром на студии я услышала разговор около гримерной. Там были актеры, и они…
– Кто?
– Если вы будете спрашивать «кто», я замолчу.
– Простите, Ирина. Так что было около гримерной?
– Я случайно услышала: одна актриса сказала обо мне: «Ее взяли на главную роль, потому что она любовница Крымова. У него губа не дура. Но какая из неудавшейся балерины драматическая актриса?» Я не понимаю, за что они так не любят меня. Что я им сделала плохого?…
– О, завистливые страусихи, черт бы их взял! – выругался Крымов, не сдержавшись. – Самые грубые комплименты расточают только бесталанному гению, который не способен соперничать с ними!
– Вы не любите актеров?
Он давно привык к неожиданностям взаимоотношений в актерской среде, к изменчивости симпатий, к холодной вежливости, к приторной доброжелательности соперников, к беззлобному коварству, к едкой ухмылке скепсиса, к преувеличенным крикам хвалы и толчее на премьерах, умиленному восторгу, высказываемому счастливо преуспевающему, прославленному коллеге, новоиспеченному кумиру, которого непонятно почему суетливо торопятся поздравить, в упоении толкаясь локтями («Великий! Талантище!»). Он привык к манерной речи наскучивших знаменитостей, к превеселой наглости и изысканной предупредительности его и ее, презирающих и едва терпящих друг друга, но вынужденных по воле режиссера изображать на съемочной площадке влюбленную пару, – привык ко всему тому, что составляло быт, работу актера и его связь с ними, в общем-то людьми незлобными, терпеливыми, покорными, порой наивно-доверчивыми, готовыми в минуты аплодисментов на премьере облиться перед экраном слезами над своей и чужой игрой. Крымов знал и то, как губительно разит их яд кулуарных упредительных репутаций, созданных завистливыми языками бывших, теперь обойденных кумиров или непризнанных талантов. Он знал и то, что приглашение и утверждение Ирины на главную роль заварит это язвительное зелье, ибо видел, что в дни кинопроб за ней следили каким-то всасывающим взором и ассистенты, и осветители, и актеры из других групп, словно бы по ошибке заходившие в павильон. Ее бледное лицо, полувиноватая, полупечальная улыбка, ее стеснительность наталкивались в эти дни либо на неестественную приятность, либо на великолепно сыгранное бесстрастное хладнокровие киноизвестностей, назойливых претенденток на роль главной героини («Возьмите меня, Вячеслав Андреевич, героиня-то моя!»). Но все это, без труда замечаемое Крымовым, нисколько не беспокоило его, уже познавшего среду неустанного соперничества и постоянной возни вокруг эфемерной и тем не менее жаждаемой славы: такова, по его мнению, была профессия актера. Однако профессия эта все же не позволяла перешагивать хоть и зыбкие, но определенные рамки, и отрава ревности переставала изливаться на счастливца, едва он был утвержден на роль, и тут наступало выжидательное молчание, говорившее о том, что время – неподкупный судья и оно раскроет истину, обнажит и выявит всему миру постыдную ошибку постановщика картины, сделавшего капризный выбор, «обеспечившего» неуспех фильму. Обычно Крымов посмеивался над этой невинной мечтой о возмездии, что обязано настигнуть заблудшего режиссера, но ядовитый разговор актрис у гримерной, намеренно начатый почти в присутствии Ирины, удивил и разозлил его неуемной женской мстительностью.
– Пожалуй, вы должны были знать, что в искусстве властвуют в определенную пору две царицы, – сказал Крымов с досадой. – Это зависть к чужому успеху и ревность к чужим возможностям. И никакие нравственные революции не лишат этих цариц трона. В конце концов побеждает тот, кто умеет работать. Вот и все.
– Работать? Я согласна. Только работать. Но, пожалуйста, посмотрите, как работают эти страшные люди. И все в одни сутки. Письмо получила вчера. Сначала не хотела говорить вам… Но кто-то на студии, или даже все, меня терпеть не может. А я добра со всеми. Я не умею ссориться. За что же они? Ведь у меня горе. Я же восемь месяцев не танцую…
Она села, зубами покусывая травинку, прислонилась лбом к коленям, посидела так в задумчивости, потом, взглянув на Крымова вопросительно, достала из сумочки помятый конверт, сказала ломким голосом:
– Вот это. Я была бы не права, если бы не показала. Мне стыдно, что письмо касается и вас.
В конверте лежала записка, состоящая из нечетких и неровных машинописных строк (видимо, автор их нечасто печатал на машинке), и Крымов прочитал:
«Многоуважаемая Ирина!
Извиняюсь перед Вами, не знаю, как по отчеству.
Ваша доброжелательница хочет предупредить Вас о том, что Вы поступаете, то есть ведете себя, неосторожно, можно сказать, заносчиво и вызывающе. Мало того, что вся студия знает о Вашей бесчестной связи с режиссером Крымовым (он Вам, милая девочка, в отцы годится!), но Вы использовали свои женские чары молодости и заставили его дать Вам главную роль в фильме, к чему у Вас нет ни способности, ни призвания. Ведь Вы уже показали свою несостоятельность в балете. Поверьте, не Ваше это дело искусство, а Ваше дело хорошо выйти замуж и быть красавицей для мужа.
Ирина! Умоляю Вас, будьте милосердны и разумны, оставьте в покое всеми уважаемого человека и не убивайте его жену, достойную женщину, которую Вы можете довести до гибели.
Умоляю, умоляю, опомнитесь!
Ваша доброжелательница, любящая Вас».
– Конечно, без подписи, – сказал Крымов сухо. – Скромный памятник зависти в эпистолярном жанре. Спаси меня, милосердный, от доброжелателей моих, а с врагами я как-нибудь и сам справлюсь. Послание почтенной корреспондентки весьма трогательно и требует самого искреннего и короткого ответа: к чертовой матери!..
Он решительно разорвал письмо, отбросил клочки в сторону, но тон фальшивого соучастия, похожего на мучительство, исходивший от неумело напечатанных на машинке фраз, и эта лицемерная защита его семейной чести пакостно царапнули в душе.
«Так кто же они, друзья беспощадные, которые ничего не прощают: ни молодости, ни чужой радости?» – подумал он, уже не удерживаясь в том блаженном летнем настроении, какое появилось в монастырском храме, когда Ирина из льющегося солнечного потока сходила по ступеням.
– Как же они меня ненавидят, – проговорила Ирина. – И вас из-за меня.
– Я режиссер и привык ко всему.
– А я не хочу, чтобы ваши несчастья шли от меня.
– В кино, чтобы победить, надо пройти через девять кругов Дантова ада, – заговорил он спокойно. – Представьте, что я ваш Вергилий и проведу вас по этим кругам сравнительно безопасно. И стены Иерихона падут. Я верю в вас. Признаюсь, я долго присматривался. Вы все сумеете.
– Нет, – сказала она. – Стены Иерихона не падут.
– Почему?
Она обхватила колени руками, положила на них подбородок, наблюдая горообразное облако с пепельными, точно подпаленными краями, заходившее из-за леса на том берегу, где за огнистыми вспышками реки везде тоже жгуче сверкало, струилось в жару пестротой зелени, бликов, густой тенью орешника, дремотным покоем перегретых лугов.
– Нет, – проговорила она, и строгая морщинка пролегла у нее на лбу. – Вы мне ни разу не говорили – ваша жена знает, что я есть на свете?
– О вас она ничего не знает.
– Все в этом мире связано, Вячеслав Андреевич?
– Все. Или почти все.
– Хорошо. – Она протянула руку. – Помогите мне встать.
«Она боится неловко встать, – вспомнила о травме связок? Именно сейчас она вспомнила об этом?»
И он стиснул ее хрупкие пальцы, аккуратно поднял ее с земли, она выпрямилась, задела его юбкой по ногам, но тотчас вслед за тем отступила на шаг, вскинула, страдальчески дрожа бровями, незнакомо улыбающиеся глаза.
– Что, Ирина?
– Простите меня… Я не буду играть в фильме, – сказала она. – Простите за то, что я подвожу вас и нарушаю планы. Я знала, что со мной плохо кончится. Я виновата, виновата. Перед вашей святой женой. Перед этими дурами – актрисами. Перед вами. Перед фильмом. Я уеду в Ригу к отцу. И так будет лучше. Для всех. Нет, пожалуйста, ничего не говорите! – заторопилась она и тут же, видя, что он готов прервать ее, и почему-то с улыбкой, кокетливо делая ему большие умоляющие глаза, в которых стояли слезы, повторила: – Я знаю, что вы скажете! Но я не передумаю. Так надо! Простите меня…
Порой чьи-то вскользь брошенные слова заставляли его бессонно ворочаться в постели, плохо спать ночью – он называл это сверхмнительностью, неврозом двадцатого века. Но то, что говорила она, не могло быть смягчено ни иронией, ни шуткой, этим утешающим оружием, с которым было легче жить. Он смотрел в ее кокетливо («Зачем?») расширенные, полные слез глаза, и его охватывало такой давно не испытанной растерянностью, такой новой болью перед ее покорным отступлением, беззащитной наивностью, которых он совсем не встречал последние годы, что ее насильственная сейчас и жалкая кокетливость, ее невыплаканные слезы показались ему мученическими. И Крымов, окончательно утратив недавнее благостное настроение, понял, что все планы со съемками на август полетели в тартарары. Он представил ее отъезд в Ригу как состояние еще не законченного действия, но выхода уже не было, и он произнес наконец единственную и вряд ли что спасающую фразу:
– Не делайте этого, Ирина.
– Спасибо. Я сделаю это. Я уже решила, – сказала она, глядя исподлобья с виноватой осторожностью, и пошла вниз по тропке к реке, чуть покачиваясь в талии, неразгаданное и непознанное им существо.
Позднее, вспоминая, что произошло потом, он в бессилии думал, что был в тот день непростительно и эгоистически расчетлив, глуп, туп, а в это время безумие настигало их черным крылом на том холме неподалеку от монастыря Старого Спаса.
И ему чудилось, что когда они спустились к расплавленной зноем реке, некое бесцельное безумие было и в самом солнце, которое остро, паляще давило, угнетало, поднявшись в высоту, а туча, сгущенная до черноты, заходила и заходила из-за леса, стремительно расширялась, клубилась краями, тянулась в зенит, совершенно черно сбоку загораживая солнце, отчего монастырь на вершине холма разительно вспыхнул какой-то девичьей белизной. Крымову стало душно, на берегу тянуло жарким, парным, затем пошли, побежали темные полосы по воде, резко потянуло свежестью, и Крымов даже задохнулся от орудийного раската в поднебесье, от застучавших по лицу крупных капель и неясно увидел, как тот берег, река, небо слились в мелькающий ливневый мрак.
– Ох, как хлещет, как он хлещет! – услышал Крымов сквозь шум дождя ее голос. – А как хорошо, как хорошо купаться сейчас!
Они стояли под мостом, окатываемым струями дождя, звеневшего над головой по железу пролетов, его удивило это «хлещет», слово, явно пришедшее к ней в тот миг из детства, но более удивило другое, тоже бессмысленное, ненужное, безумное. Она говорила быстро: «Отвернитесь, не смотрите», – и торопливо снимала с себя насквозь промокшую потемневшую кофточку, юбку и, вышагнув из туфель, побежала по откосу вверх, на мост, оглядываясь с уже спутанными на щеках волосами и маня его рукой: «За мной, за мной, за мной!»
Почему он не сообразил, не понял тогда, зачем она подымается к мосту, и почему не остановил ее? («Да так вот и не смог предупредить и остановить ее…»). Раскаяние было запоздалым, бесполезным, отравляло его ожигающим душу ядом, но оправдываться было не перед кем и изменить нельзя было ничего.
И все-таки последние ее минуты на земле, минуты ее отчаяния или радости перед тем неистовым дождем, когда она подымалась к мосту, никак ясно не представлялись его сознанию.
Ее беспомощно качающаяся от толчков машины голова лежала на его плече, и от каждого толчка ее влажные, по-детски слипшиеся волосы касались его щеки. И так близко было ее лицо, уже источавшее земляной холод, уже неземное, с потеками краски под полуприкрытыми ресницами, и он так явственно сознавал, что никуда не уйти от всего этого ужаса, от всего этого немыслимого, час назад случившегося с ней, что, казалось ему, в беспамятстве умолял кого-то пощадить, спасти ее, но после не помнил ни слова, лишь смутно видел, как оборачивался шофер – вдруг впереди него появлялись высосанные страхом глаза, по-рыбьи онемело раскрывающийся рот и струйки крови, текущие из ноздрей. И тенью проскальзывали те леденящие минуты, когда, вытащив Ирину из воды, он кинулся к оставленной за мостком машине и не нашел ее там. В бессознании она еще дышала в те секунды, а он метался по берегу, кричал, звал, ругался сумасшедшими ругательствами с единственной надеждой, что шофер не мог уехать надолго. Но машина вернулась минут через сорок, и он, готовый к невозможному, увидев сытое, распаренное лицо шофера, не владея собой, не сдержал бешенства.
А больница была в районном городке, и пятьдесят километров проехали по тряскому проселку в предгибельном адском бреду: вероятно, гроза проходила над дорогой, что-то горячее, намокшее в ливне, неприятно зеленое проносилось в шуме, в гудении за стеклами, он стонал, стискивал зубы и снова чувствовал неживое, беспомощное прикосновение ее головы у себя на плече, безнадежное молчание Ирины…
Долго искали в городе больницу, вернее проезды в больницу, дороги повсюду были перекопаны газовыми траншеями, наконец и вся эта мука кончилась, они остановились под тополями парка, у самого подъезда. Как он вылез из машины, оставив ее одну на заднем сиденье, вошел в подъезд, в сумеречный провал, где замельтешили незнакомые лица, как поднялся на второй этаж, пропитанный нечистым человеческим запахом, заставленный по всему коридору койками, как раскрыл дверь в кабинет хирурга, он помнил туманно. В те минуты перед глазами повторялось одно, застрявшее в его сознании, вероятно, навсегда: вот она встала на перила моста, видимая сквозь дождь, сложила руки над головой и, крикнув что-то ему, плавно изогнулась, прыгнула в воду.
Потом он ожидал, пока его позовут, стоял на крыльце, курил и не докуривал сигарету за сигаретой и тер сжимающееся горло, плохо понимая, для чего солнце с летней радостью горело в лужах, освеженно и радужно переливалось на отяжелевших листьях в мокром парке, на мокрых лопухах, на омытой чистой траве, почему тяжелые капли звучно падали с крыши в полное до краев цинковое ведро, отчего зеркальные блики зыбко колебались, прыгали по навесу крыльца, а она была там, на втором этаже, лежала на каталке, закинув голову с влажными светлыми волосами, с неподвижно полуприкрытыми ресницами, под которыми все не просыхали потеки туши, лежала в палате, стерильно белевшей кафелем, где не было надежды.
Глава пятая
В комнатах съемочной группы, куда заглянул Крымов, было безлюдно, предобеденное солнце накалило паркет, и пахло, как в музее, пыльной обивкой старых кресел. Из кабинета директора картины доносилось торопливое постукивание, и едва он открыл дверь, оглушило очередями пишущей машинки, понесло сквознячком, всколыхнулись листки на столе против раскрытого окна, где молоденькая машинистка зашлепала ладошками по кипам бумаг, оглядываясь на Крымова в замешательстве.
– Один? – спросил Крымов и толкнул дверь в смежную комнату, откуда ручейком пробивался журчащий голос.
Директор картины Терентий Семенович Молочков, маленький, сухощавый, с непременно бодрым и приятным лицом, распространяющим уважительное внимание ко всем, заканчивал деловой разговор по телефону, любезно договаривая: «Взаимно, взаимно», – и, положив трубку, проворно вскочил и бросился к Крымову, выражая озабоченность и немедленную готовность к действию.
– Вячеслав Андреевич, как я рад вас видеть! С приездом, с победой, а мы вас так ждали! Поздравляем, поздравляем от всей души!..
И говоря это, Молочков снизу ткнулся губами куда-то возле подбородка Крымова; его яркие леденцовые глаза засветились преданностью и счастьем поклонника и киномана, которому повезло прислониться к славе кумира.
– Привет, Терентий, – сказал невнимательно Крымов, подходя к тумбочке и наливая из сифона газированной воды, зашипевшей, застрелявшей пузырьками в стакане. – О льстец, запомни, прошу не в первый раз: страшны не те стервятники, которые пожирают трупы, а те, которые лестью пожирают заживо. Не сожрешь ты меня, Терентий, не клюю я на восклицательные знаки, черт тебя дери! Здравствуй, успокойся и рассказывай, как дела в съемочной группе.
– Господи Иисусе, да кто это может вас сожрать, Вячеслав Андреевич! – И Молочков с восторженным возмущением воздел руки к потолку, отчего рукава его чесучовой куртки сползли до локтей. – Кто может вас пошатнуть, такую глыбу! Вас!.. Ах, Вячеслав Андреевич, плохо вы себя любите и цените!..
– Умерь пыл, пожалей слова, – прервал Крымов и отпил из стакана, брызжущего пузырьками, охлаждающими горло льдистыми иголочками. – Думаю, ты в курсе дела. Не так ли? По-видимому, не я буду снимать эту картину…
– Как? На каком основании? Как так? – изумленно вскричал Молочков и забегал по комнате, мотая полами широкой на его плечах куртки, мелькая узкими помятыми брюками. – Откуда вы принесли такую новость? Из самого Парижа? Вы меня режете без ножа!
– Сядь, Терентий, прекрати свою страусиную беготню. Это раздражает. Давай поговорим.
Молочков с послушным ожиданием опустился на диван и, заранее пугаясь, заморгал круглыми желтыми глазами.
– Без ножа убиваете. По первому разряду убиваете.
– Так вот, Терентий, – сказал Крымов и медленными глотками допил воду. – Снимать фильм я не буду. Впрочем, скажу тебе откровенно, – добавил он сдавленным от холода газировки голосом. – Я вообще не должен был браться за эту картину. Просто я не понимаю, Терентий, что такое современная молодежь и что такое их современная любовь.