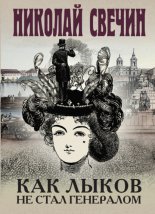Чагин Водолазкин Евгений
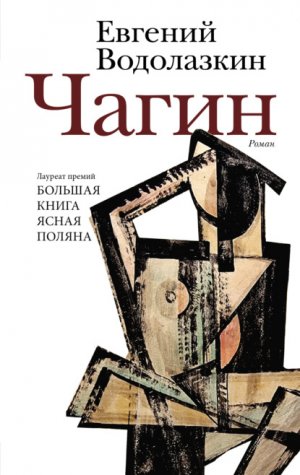
В центре комнаты помещался круглый обеденный стол, половина которого тоже была завалена книгами. Следуя жесту Спицына, Исидор сел в одно из двух кресел, стоявших по разные стороны стола. В другом кресле разместился хозяин.
Ко всему случившемуся профессор отнесся философски. Свою беседу с ним Исидор не пересказывает. Он облекает ее в форму диалога и приводит полностью. С точки зрения литературной техники, решение, без преувеличения, убийственное. В этот диалог включены все повторы, междометия и слова-паразиты. Но Чагин – не писатель, он – мнемонист, и в данном случае мало чем отличается от диктофона. Что важно: Исидор был способен запоминать не только письменную речь, но и устную.
Слушая Спицына, он думал, что профессор, в сущности, гораздо интереснее своей книги. Занятия буржуазными теориями особого философствования не предполагали. О том, что излишняя самостоятельность в этой сфере подозрительна, Спицын, подобно декану, догадывался. В какой-то момент он даже заметил, что в покинутом им университете надежность глупости всегда предпочтут блеску ума. Чтобы фраза не звучала слишком патетически, тут же добавил, что глупость (здесь следовала фамилия нового ректора) тоже бывает блистательной. Было очевидно, что нелюбовь двух философов взаимна. При этом возможности увольнять были у них, конечно, разными.
Когда Исидор попросил у Спицына прощения за плагиат, тот равнодушно махнул рукой. По большому счету, его собственная книга тоже была плагиатом. Пережевыванием того, что и без него десятки лет жевала советская философия.
– Значит, теперь существует две очень похожие работы, – сказал Исидор.
– Самое печальное, – Спицын закурил, – что обе не имеют научного значения.
– Будучи продуктом сознания, они отражают нынешнее, пардон, бытие.
Эту фразу Чагин произносил уже не в первый раз и, как ему казалось, не без успеха. Во взгляде Спицына он увидел лишь удивление.
– А вы, получается, считаете, что бытие определяет сознание? – Профессор раздавил папиросу в тарелке, служившей пепельницей. – Кто вам сказал такую глупость?
Исидор смутился.
– Вы… На лекции.
– Правда? – Спицын криво улыбнулся. – Значит, из университета меня выгнали за дело.
В конце пятого курса Чагина пригласили к ректору на чай. О мероприятии ему сообщили накануне, и весь вечер он думал об этом приглашении. Исидор прежде не слышал, чтобы кого-то из студентов ректор приглашал на чай. Да, это казалось Чагину удивительным, но что, в конце концов, он знал о жизни ректоров?
Помимо ректора и Исидора в чаепитии участвовали два Николая – Николай Петрович и Николай Иванович. Верный традициям школьных сочинений, Исидор дает их сопоставительную характеристику. Одного Николая от другого отличали отчество и цвет волос (Николай Петрович был чуть светлее), в то время как объединял их цвет глаз – по определению Чагина, грязно-коричневый. Если верить Дневнику, такими же были их плащи и папки. Какой цвет стоит за этим обозначением, сказать затрудняюсь. Может быть, и не цвет даже, а общее негативное отношение мемуариста.
Николай Петрович говорил негромким бархатным голосом, голос же Николая Ивановича был значительно сильнее и как бы брутальнее. Материал для его описания Чагин подыскивает с трудом. О бархате, по его мнению, здесь не могло быть и речи. В конце концов он останавливается на звуке распиливаемой фанеры, хотя и помещает в скобках знак вопроса.
Что и говорить, фанера в комплекте с брутальностью, да еще и грязно-коричневым цветом – всё это свидетельствует о неблагоприятном впечатлении, произведенном Николаями на Исидора. Но свидетельствует, кажется, и о другом: начинающий мемуарист стремится к яркости. Он не привык жалеть ни красок, ни звуков.
Вообще, Исидор довольно многословен. Словно камера видеонаблюдения, он фиксирует всё, что происходит на его глазах. Так, он описывает очередную просьбу ректора пересказать его, ректора, доклад, восхищение слушателей, затем их попытку остановить пересказ и многократные заверения в том, что сверхъестественные способности студента очевидны. По настоянию ректора его доклад (он не хотел лишить гостей этого удовольствия) был все-таки воспроизведен до конца.
Главным в этой встрече был, однако, не доклад и даже не сходство и различие Николаев. Кульминацией чаепития стал вопрос ректора:
– Исидор, друг мой, куда вас распределили?
– В Иркутск.
Его собеседники покачали головами: далековато…
И тогда Николай Петрович (было ясно, что из двух Николаев он – главный) бархатным своим голосом спросил:
– А вы бы хотели остаться в Ленинграде?
Хотел ли Исидор остаться? Хотел ли?..
– Очень! – выдохнул Чагин. – А что, разве это возможно?
– По слову поэта, – произнес Николай Петрович, – «и невозможное – возможно».
Николай Иванович строго откашлялся и сказал:
– Но это, как говорится, уже отдельный разговор.
Отдельный разговор состоялся на следующий день в номере гостиницы «Европейская». На этот раз чая не было. Когда Исидор и оба Николая сели за стол, официант принес бутылку «Советского шампанского» и бутерброды с краковской колбасой. Он хотел было открыть бутылку, но Николай Петрович сказал, что этого не требуется.
– Сами умеем, – подтвердил Николай Иванович со значением. – И имейте в виду: мы умеем не только это.
Официант посмотрел на него не без испуга и попросил разрешения удалиться.
– Вы, Николай Иванович, заставили его трепетать, – засмеялся Николай Петрович. – Я бы даже сказал – трепещать.
– Люди должны трепещать. – Николай Иванович поднял правую руку и сжал кулак. – Трепетать и пищать.
– А бутерброды слегка заветрились, – сказал Николай Петрович, меняя тему. – Факт не в пользу заведения.
– Вы – работники общепита? – спросил у Николаев Исидор.
Николаи взглянули друг на друга и рассмеялись.
– Мы – сотрудники Центральной городской библиотеки, – ответил Николай Петрович. – Я представляю в ней Отдел внутренней безопасности, а Николай Иванович отвечает за гражданскую оборону. Сокращенно – ГрОб.
Николай Петрович улыбнулся, но Николай Иванович был уже опять серьезен.
– Николаю Петровичу со всем, как говорится, не справиться. Так что немного помогаю ему и по части безопасности.
– Хобби такое? – уточнил Исидор. – В свободное время?
Николай Петрович потянулся за бутылкой.
– Просто Николай Иванович понимает гражданскую оборону в широком смысле.
– Обороняем граждан от всяких гадов.
Николай Иванович рубанул рукой по столу, и Чагин понял, что библиотека – куда более тревожное место, чем можно было бы ожидать.
Николай Петрович освободил пробку от проволоки и, как бы удушая, обхватил ее ладонью. Пробка несколько мгновений билась в его руке, издавая едва слышное шипение. Когда она затихла, Николай Петрович молча положил ее на скатерть. Над горлышком показалось и растаяло легкое облачко.
– Без хлопка, – констатировал Исидор.
– Хлопки нам не нужны, – пояснил Николай Иванович. – Это дешевый спецэффект.
Исидор вспомнил новогодние ночи в Иркутске. Он рассказал Николаям, как прекрасны летающие пробки, вслед за которыми извергается струя пены. Николай Петрович предложил не путать шампанское с огнетушителем, и на этот раз засмеялись все.
Николай Петрович разлил шампанское по бокалам:
– За наше сотрудничество!
Чокнувшись с Николаями, Исидор выпил бокал до дна и взял бутерброд. Во рту его таяли тонкие ломтики колбасы. Чагин хотел было уточнить характер сотрудничества, но ему было жаль отвлекаться от сказочного колбасного вкуса, и он взял второй бутерброд.
– Вам о чем-то говорит фамилия Шлиман? – спросил Николай Иванович.
– Шпион? – Чагин потянулся за третьим бутербродом. – Звучит по-шпионски.
– Все они, блин горелый, шпионы… – Николай Иванович нахмурился. – Шлиман откопал Трою. Но нас, товарищ, интересует не Шлиман, а Шлимановский кружок.
Николай Петрович взял пробку двумя пальцами и некоторое время рассматривал, как бы сожалея, что ей не удалось полетать.
– Мы внедрим вас в этот кружок, – в голосе его сквозила беззаботность.
Николай Петрович метнул пробку в стоявшую на подоконнике хрустальную вазу. Пробка влетела в нее, не коснувшись краев.
– Согласны?
Исидор, возможно, еще бы подумал о том, стоит ли ему внедряться, но точно брошенная пробка развеяла все сомнения. Дробясь в хрустальных гранях, она лежала на дне вазы решающим аргументом. Чагина убедили элегантность и точность броска: вероятно, именно так его и собирались внедрять.
Ответил:
– Согласен.
В безопасности библиотек он не видел ничего предосудительного.
Видимо, согласие Чагина и было целью этой встречи, потому что ничего существенного больше сказано не было.
На следующий день Исидор гулял по городу хозяйской походкой, ощущая себя владельцем Петропавловской крепости и Эрмитажа. Это было сладкое чувство, и он знал, что сейчас не в силах с ним расстаться – чего бы от него ни потребовали Николаи. Да, собственно, ничего особенного они и не требовали, утешал себя Чагин. И всё же произнесенное согласен родило у него сомнения, которых поначалу не было.
Согласен ли? И если да, то с чем? Исидор почувствовал смутное беспокойство рыбы, заглотившей наживку, в тот краткий миг, когда крючок еще неощутим. Николай Петрович оставил номер своего телефона. Исидор по этому номеру позвонил.
Он подробно описывает телефонную будку у ворот, ведущих к Двенадцати коллегиям. Обилие деталей отражает, так сказать, разлад в душе автора. Это состояние передается посредством рассказа о бездушном телефоне-автомате, который противопоставлен человеку чувствующему. Не то что бы Исидор использовал деталь в качестве художественного приема – он всё так описывает, потому что так запоминает.
Сквозь немытые стёкла телефонной будки Чагин видит, как дружно двигаются машины на зеленый свет. Он слушает короткие гудки, и ритм гудков совпадает с ударами его сердца. Дважды выходит из будки, уступая место другим, пока Николай Петрович наконец не откликается.
– Я тут дал согласие на внедрение… – начал было Чагин.
– Помню, – перебил его Николай Петрович. – Давайте обсудим это при личной встрече.
Исидор помолчал.
– Я хотел узнать, с какой целью меня внедряют.
– Хороший вопрос. Главное – своевременный.
Чагин хотел еще что-то спросить, но Николай Петрович строго сказал:
– Встретимся дня через три.
– Где? – спросил Исидор.
– Мы вас сами найдем, – ответил Николай Петрович и повесил трубку.
Через три дня, выходя из университета на набережную, Чагин увидел обоих библиотекарей. Поздоровавшись, они поздравили его с принятием в штат университета. Исидор хотел было спросить, откуда им это известно, но Николай Петрович с улыбкой показал на телефонную будку:
– Из нее звонили?
Исидор кивнул. Такая проницательность его уже не удивляла.
На этот раз они не поехали в «Европейскую». Чагину была предложена прогулка. Когда Исидор повторил свой вопрос о цели внедрения, Николай Иванович неожиданно взорвался:
– Только не надо строить из себя целку! Вы что, в самом деле ничего не понимаете? Не понимаете, что у библиотек много врагов?
Он посмотрел на Чагина злым продолжительным взглядом и вдруг спросил:
– «Илиаду» Гомера – читали?
Опешив, Исидор ответил, что не читал. Николай Иванович закатил глаза как человек, который мог вынести многое, но не это. Николай Петрович похлопал тезку по плечу. Затем обернулся к Исидору:
– Прежде всего я хотел бы попросить вас ничего не обсуждать по телефону. Телефон – это для экстренных случаев.
– А какие могут быть экстренные случаи? – спросил Чагин.
– Да в том-то и дело, что никаких.
Николай Петрович объяснил, что Исидора просят посещать заседания совершенно безвредного Шлимановского кружка, где речь идет преимущественно о Трое и о том, кто ее раскопал. В целом у Николаев была информация об этих заседаниях, но, пользуясь удивительным даром Чагина, они хотели бы обладать исчерпывающей информацией. Только и всего.
Подойдя к сфинксам, они спустились по лестнице к Неве. Когтистые лапы сфинксов рождали у Исидора неприятные ассоциации. Он спросил:
– Если этот кружок безвредный, тогда зачем за ним следить?
– А чтобы не стал вредным, – сказал Николай Иванович уже спокойно.
Николай Петрович положил Чагину руку на плечо:
– А то ведь, знаете, как бывает: доброкачественная опухоль превращается в злокачественную.
Вверх по течению Невы шел прогулочный катер. Разрезая воду, поднимал такую волну, что было неясно, как вообще он держится на поверхности. Эту картинку автор Дневника также не оставляет без толкования. Он пишет, что чувствовал себя таким же суденышком: его тоже захлестывали волны. Двигаясь за пенным следом катера, взгляд Чагина столкнулся со взглядом Медного всадника. За несколько прошедших дней он уже привык считать его земляком.
– Вы можете загадать желание, – сказал Николай Иванович. – Стоите между двумя, как говорится, Николаями.
Николай Петрович достал из кармана ключи.
– Я знаю, какое желание вы загадали. Так вот, оно уже исполнилось.
Николаи загадочно перемигнулись и немедленно превратились в сфинксов.
Сфинкс Николай Петрович:
– Как молодому специалисту вам выделена квартира на улице Пушкинской.
Сфинкс Николай Иванович:
– Два шага от Невского.
Он произнес это как-то даже обиженно. Чагин молчал. Николай Петрович надел кольцо брелока на палец, и ключи начали тихое вращение. Раскрутив ключи до нужной скорости, Николай Петрович пропел:
– Послушайте, Исидор Пантелеевич. Мы ценим свободный выбор человека. Не хотите помогать библиотеке – мы прямо сейчас и расстанемся. Была без радостей любовь, разлука будет без печали…
– Мы найдем, кому вручить эти ключи. – Взгляд Николая Ивановича опять стал злым. – Короче, вы хотите нам помогать?
– Или вы не хотите нам помогать? – эхом отозвался Николай Петрович.
Исидору казалось, что ключи готовы были сорваться с его пальца и навеки кануть в Неву. А с ними – та ленинградская жизнь, которая его так манила.
– Хочу, – тихо ответил Чагин.
Николай Петрович перестал крутить ключи. Позвонил ими на манер колокольчика и передал Исидору. Вручил также папку:
– Ваше жизнеописание. Выучить назубок.
Исидор хотел сказать, что всё прочитанное им знает назубок, но решил, что это было бы хвастовством. А еще ему было непонятно, зачем нужно учить собственное жизнеописание, но он промолчал и здесь. Папку положил в портфель.
Когда уже прощались, Николай Иванович протянул ему две книги для лучшего понимания оперативного материала. Первая из них – биография Шлимана из серии «Жизнь замечательных людей». Вторая – «Илиада».
Расставшись с Николаями, Исидор перешел набережную. Стоял у Академии художеств и наблюдал, как сотрудники библиотеки повернули на мост Лейтенанта Шмидта. Николай Иванович двигался тяжело и косолапо, словно уравновешивая собой подпрыгивающего Николая Петровича. Руки Николая Ивановича были прижаты к телу, в то время как Николай Петрович увлеченно жестикулировал. Какими все-таки разными могут быть Николаи.
Когда они растворились в толпе, Исидор пошел по набережной. Кто-то невидимый вел его, как после бешеной скачки всадник ведет под уздцы лошадь. Чагин чувствовал себя такой лошадью и удивлялся тому, как быстро эти двое сумели натянуть поводья. Шлимановский кружок… Он не очень понимал, на что дал согласие. А может, и понимал, но не хотел себе в этом признаться.
Через день Чагин въехал в квартиру на Пушкинской. В ней он только ночевал. Не находил в себе сил покинуть улицы города – так велика была его любовь к ним. Удивляясь своей ненасытности, Исидор утюжил проспект за проспектом, линию за линией. Даже занятия, рассчитанные на домашнюю обстановку, старался перенести в ленинградские скверы. Там, например, он читал врученные ему материалы, которые постоянно носил в портфеле.
Машинописные страницы из папки «Биография» Чагин читал в Румянцевском саду. С первых же строк этого сочинения чувствовалась его необычность. Принимая папку из бестрепетной руки Николая Петровича, Исидор предполагал, что речь идет о его собственной биографии. Дело, однако, обстояло иначе. В этом удивительном тексте чагинскими были только имя и год рождения. Всё остальное напоминало его жизнь в очень небольшой степени.
Это не была биография в строгом смысле слова. Скорее уж фантастический рассказ, героем которого был какой-то человек – условно, Чагин-2, родившийся на окраине Иркутска в семье ссыльного. Он ходил в другой детский сад, другую школу и окончил только семь классов. Рано лишившись отца, устроился учеником токаря на завод. Когда описание школьных лет закончилось, Исидору стало ясно, что в жизни этого человека не было Лены Царевой. Он осознал, что это совершенно другая жизнь.
Биография подробно рассказывала о нищенской обстановке его дома, что в целом соответствовало реальности. А вот самодельных книжных полок в действительности не существовало. У Чагиных-дублеров была хорошая библиотека. Текст умалчивал о том, как все эти книги достались бывшему заключенному, зато прилагался их список. Он включал по преимуществу поэзию и философию Серебряного века, а также русские эмигрантские издания двадцатых – тридцатых годов. Подразумевалось, очевидно, что книги были подарены его отцу другими ссыльными.
Исидор-2 рос пытливым ребенком и, несмотря на запрет матери, время от времени листал стоявшие на полках книги. Влюбившись в поэзию начала века, понемногу начал писать стихи и сам. После смерти матери отправился в Ленинград, где поступил на философский факультет университета. Интерес к философии был также рожден книжными полками отца.
Отложив машинопись, Исидор задумался. Подобно своему двойнику, он рос без отца. Был ли его отец когда-либо в заключении? Ответить на этот вопрос он не мог, потому что отца никогда не видел. Видел его Леонтий, сводный брат Исидора – сын его матери от первого брака. Мать изредка упоминала о Пантелее Чагине, лице полумифическом, поскольку о судьбе его было мало что известно.
Маленькому Исидору мать говорила об ответственном задании, которое Пантелей будто бы выполняет где-то в европейской части страны. Там, по ее словам, очень не хватало настоящих сибиряков, закаленных и несгибаемых. Имя и фамилия отца звучали эпически и рисовали мальчику богатыря, раздвигающего алтайские горы.
Действительность, однако, оказалась сложнее. Первым в героической жизни Пантелея усомнился Леонтий, который был старше Исидора на шесть лет. Воспоминания Леонтия о Пантелее были хотя и смутными, но в целом негативными: отчима Леонтий определял коротким словом говно. Он был уверен, что ответственных заданий в европейской части СССР такому бы никто не дал.
По мере взросления Исидора об отцовских подвигах упоминалось всё реже. В конце концов под нажимом сына мать в слезах призналась, что никакого задания не было и что Пантелей бросил ее еще до рождения ребенка. Накануне своего внезапного ухода он произнес загадочную фразу: «Если родится мальчик, имя ему будет Исидор». Стиль высказывания был почти библейским и придавал таинственность небиблейскому, в общем, поступку Пантелея. Мать назвала сына Исидором, хотя имя ей не нравилось: тогда она еще надеялась на возвращение мужа. Когда же стало ясно, что он не вернется, к имени успели привыкнуть.
В дальнейшем о Пантелее Чагине мать и сын не говорили. Лишь однажды она упомянула о хорошей Пантелеевой памяти, которая, впрочем, не помешала ему забыть жену, ребенка и (мать промокнула фартуком глаза) дорогу к родному дому.
Замечу кратко, что эпизодическое упоминание о хорошей памяти Пантелея Чагина позволяет дать феномену Исидора генетическое объяснение. Неясно, правда, в чем заключались особенности памяти Пантелея, но то, что они упоминаются, кажется мне важным.
Да, биография Чагина отличалась от той, которую ему предоставили. Выучить текст проблемы не составляло – он уже его знал. Вопрос был в другом: зачем? Только для того, чтобы он происходил из семьи репрессированного? Так, спрашивая и отвечая, Исидор дошел до угла 7-й линии Васильевского острова. Аптека № 13. Он осознал, что это дом Спицына. Почему он здесь оказался?
Первым движением Чагина было войти, но он медлил. Он, владелец собственной квартиры и двух биографий. То, что произошло между ним и Николаями, каким-то образом оказывалось связано и со Спицыным. Эта связь была труднообъяснимой, но очевидной.
Сейчас, когда ноги сами несли Чагина к спицынскому парадному, он чувствовал себя обиженным ребенком. Войдя в парадное, взлетел по лестнице. Словно не к Спицыну бежал, а к Пантелею Чагину – пожаловаться по-сыновнему на обстоятельства. Только вот незадача: Пантелей сам бежал, и притом довольно давно. Как ему пожалуешься?
На лестничной площадке профессора Исидор перевел дыхание. Ну, во-первых: Спицын мало похож на отца. Во-вторых: ничего такого, собственно, не произошло. Такого в Дневнике жирно подчеркнуто.
Среди множества звонков у двери Исидор отыскал нужный и позвонил. Извинился за приход без предупреждения. Спицын был явно веселее обычного и как-то опрятнее. В комнате профессора больше не было пустых бутылок, и вообще, как показалось Исидору, в ней прибавилось света.
Он сел в предложенное Спицыным кресло. Осмотревшись, заметил, что в лежащей на полу пирамиде книг появились новые издания. В свойственной ему манере Исидор перечисляет эти книги. Связаны они по преимуществу с психологией памяти.
Чагин показал на новые книги:
– Как хорошо, что вы не пали духом.
– Напротив, духом я вознесся. – Спицын сел в кресло против Исидора. – Можно сказать, летаю.
Профессор смешно взмахнул крылами, и пружины кресла заскрипели.
– А меня вот оставили в университете, – сказал Чагин почти вызывающе. Не отрывая взгляда от книг. – И я пришел сообщить об этом вам.
– Сообщить? – Спицын встал и направился куда-то в глубь комнаты. – Да об этом нужно петь! Подождите, я вам тоже кое-что сообщу.
Исидору почему-то показалось, что профессор всё уже знает. Может, так оно и лучше. Быстрее… Он сжал подлокотники кресла и взглянул на Спицына:
– Вам, Никита Глебович, наверное, кажется…
– Мне кажется, – в руках у Никиты Глебовича была бутылка водки, – что это событие нужно отметить.
На столе появилась трехлитровая банка квашеной капусты. Открыв ее, Спицын подмигнул Исидору и наполнил рюмки. Они чокнулись, и, не донеся рюмку до рта, Чагин спросил:
– Вас не удивляет, что меня оставили на кафедре?
Спицын опрокинул рюмку одним махом.
– Нисколько. Было бы странно, если бы вас с вашей памятью не оставили. – Он зацепил вилкой капусту. – Плохо только одно.
Исидор вопросительно посмотрел на Спицына.
– Что?
– Что кроме капусты у меня ничего нет. А ведь сегодня великий день. Я вам сейчас всё объясню.
То, с чем Исидор пришел к профессору, дымом спицынской папиросы приблизилось к окну и, вытянувшись в синюю змейку, выскользнуло наружу. Спицын меньше всего ждал покаяний, а Исидор больше не собирался каяться. Желание – прошло.
Профессор, оказывается, устроился на работу. Служил он теперь в Первом медицинском институте и занимался проблемами памяти. Взяли Спицына в Первый мед вроде бы читать философию, но изучаемая им тема счастливо соединилась с исследованиями психологов и физиологов.
Первым, о ком вспомнил профессор в Первом меде, был Исидор, чья волшебная память впоследствии явилась миру посредством спицынской книги. В поисках Чагина профессор уже намеревался связываться с Иркутском, как вдруг Исидор (звон рюмок, шлепанье капусты на тарелку) пришел к нему сам. Чагин явился во благовремении: так определил это профессор. Его опьянение сказывалось на движениях, но не на стройности мысли. Готов ли Исидор сотрудничать с ним? Этот вопрос Чагину ставили сегодня уже во второй раз.
Он поднял глаза на Спицына:
– Готов. Без всяких сомнений.
Это было чистой правдой.
Звон рюмок.
Теперь Чагин смотрел в глаза профессору без боязни. Он чувствовал облегчение. Разговор со Спицыным как бы снимал вопрос о законности его попадания в университет и получения квартиры на Пушкинской. Спицын еще продолжал говорить, но слова его больше не достигали ушей Исидора. Кружась осенними листьями, они опускались на книги, стулья и застилали ковром щербатый паркет.
– Листья падают во благовремении. – Исидор вдруг понял, что думает вслух.
– Июнь – время листопада, – глухо отозвался Спицын.
Теперь он сидел, откинувшись на спинку стула, и лицо его было закрыто руками.
– И я пришел во благовремении, – поразился совпадению Исидор.
– Вы могли бы считать себя осенним листом, если бы не ваши мнемонические способности. – Спицын устроил локти на столе и положил на них голову. – Ведь листья ничего не помнят. Ничего.
Перед ним стояли две пустые бутылки. Когда появилась вторая, Исидор не заметил.
– Иногда мне хотелось бы быть листом.
Исидор думал, что говорит это профессору, но перед ним стоял моряк. Он представился Исидору как кавторанг Матвеев. Чагин не знал, что это значит, но слово ему понравилось. Кавторанга покачивало. Оглядевшись, Исидор понял, что находится на Стрелке Васильевского острова. В руке он держал портфель. Стрелка была освещена тем странным светом, который не имеет отношения к дню, но еще менее связан с ночью.
Чагин почувствовал неловкость, как человек, случайно выдавший сокровенное.
– Просто листья не обладают памятью, – пояснил он кавторангу. – Это открытие профессора Спицына.
Во взгляде кавторанга отразилась гордость за советскую науку. Отвечая откровенностью на откровенность, он рассказал Исидору, что в белые ночи на западном берегу Крестовского острова можно встретить закат, а потом, перейдя на восточный берег, через полчаса встретить рассвет. С этой целью он как раз направлялся на западный берег и предложил Чагину составить ему компанию. Они двинулись на Крестовский вдвоем.
Кивнув на портфель Исидора, кавторанг спросил, не водка ли там. Чагин ответил, что книги. Например, «Илиада». Кавторанг тут же вспомнил, что в этом произведении есть список кораблей, который он смог дочитать только до половины. Исидор признался, что даже половины не прочел. Вообще ни строчки. После часа оживленной беседы Чагин заметил, что они идут не туда, но ничего не сказал. Еще через полчаса обнаружилось, что кавторанг исчез.
В конце концов Исидор набрел на станцию «Площадь Ленина» и встретил рассвет в метро. Около полудня Чагин проснулся в своей квартире. Не отказав себе в удовольствии еще раз произнести слово своей, он обратил внимание на то, что перед сном успел снять только туфли.
Книгу о Шлимане из серии «Жизнь замечательных людей» Исидор начал читать в Юсуповском саду. Временами поднимал глаза и смотрел на мамаш с колясками. Дети постарше бегали по гранитному парапету вдоль пруда. Вообще-то Чагин переносил детские крики с трудом, но, читая сейчас о рождении Шлимана в многодетной семье, находил их уместной иллюстрацией к тексту.
Шлиман, Иоганн Людвиг Генрих Юлий, 1822 года рождения. Сын мекленбургского пастора, раздражительного, крикливого и мало, в общем, напоминающего улыбчивых пасторов с рождественских открыток.
Минна Мейнке, детская любовь Генриха. Он проводит с ней всё свободное время и, как хочется верить биографам, рассказывает ей о Трое. Тогда же мечтательный ребенок делает Минне предложение: по достижении нескорого еще совершеннолетия он собирается на ней жениться. Добрая и тихая Минна согласна.
Это обстоятельство производит сильное впечатление на Исидора. «Согласна!» – отмечает он в скобках. Не сомневаюсь, что в этот момент ему вспоминается Лена Царева. История с Минной Исидором излагается, вообще говоря, довольно подробно. Судьба этой пары трагическим образом определяется судьбами других пар.
Жена пастора Шлимана умирает, и он воспитывает детей один. Отец семейства безуспешно борется с нищетой, и как-то так получается, что исчезает крупная сумма казенных денег. К богатым деньги идут, а у бедных исчезают – и свои, и чужие: обычное дело. Скандал развивается медленно, но неуклонно.
В центре внимания оказывается служанка Шлиманов фройляйн Фикхен, кокетка и модница. Роль ее в этом скандале ясна не до конца. Проблемы, судя по всему, порождены тем, что в гардеробе фройляйн Фикхен неожиданно появляются бархатные платья. Чуткая общественность бьет тревогу, поскольку стоимость платьев не соответствует доходам девицы. А параллельно, ну да, эта странная история с казенными деньгами.
Семейство Шлиманов становится, как сказали бы сейчас, токсичным. Родители Минны запрещают ей общаться с Генрихом. Для него это время глубокой печали и непрестанных слез. Десятилетнего мальчика отсылают в дом дяди Фридриха.
В следующем году Шлиман-младший поступает в гимназию и переезжает в соседний городок, где живет в семье музыканта Лауэ на полном пансионе. Пансион, однако, оказывается не таким полным, как мечталось: семейство Лауэ очень экономно. Из всех чувств у Шлимана в ту пору главное – чувство голода.
В конце концов пастора публично обвиняют в растрате и отстраняют от службы. Потрясенная фройляйн Фикхен покидает пасторский дом. Для учебы Генриха в гимназии больше нет средств, и мальчика переводят в недорогое реальное училище, где ему удается проучиться два года.
Когда отцовские деньги исчерпываются окончательно, Шлиман оставляет учебу и устраивается на работу в семью деревенского лавочника Гольца. Примерно в это время он случайно встречает Минну, но успевает лишь обнять ее и сквозь слёзы обменяться несколькими словами. Эта краткая встреча помогала ему в дальнейшем переносить все невзгоды. Он увидел, что Минна всё еще любит его.
У лавочника Гольца Генрих работает по восемнадцать часов в сутки. Об учебе больше нет и речи, потому что все оставшиеся от работы часы мальчик спит. Собственно, и сама жизнь Генриха похожа теперь на дурной сон, в котором он проводит пять лет.
Шлиману девятнадцать. На борту брига «Доротея» он отправляется в Венесуэлу, но у берегов Голландии судно, по рассказам героя, терпит крушение. Шлиману чудом удается спастись. Он остается в Амстердаме, где устраивается посыльным. Свое скудное жалование Генрих тратит самым причудливым образом: он учит языки, причем на каждый тратит в среднем по три месяца. Исидор перечислил их в соответствии с порядком изучения: голландский, английский, французский, испанский, португальский, итальянский и (привычка к трудностям) русский. Русский Шлиман изучает по «Телемахиде» Василия Тредиаковского.
В 1846 году Генрих Шлиман отправляется в Петербург торговым представителем фирмы «Шредер и Ко». В русской столице немец осваивается довольно быстро и вскоре открывает там собственное дело. К двадцати четырем годам (!) он становится купцом первой гильдии. Ощутив себя триумфатором, Генрих готовится сложить доставшиеся ему лавры к ногам Минны Мейнке. Но… Здесь Исидор использует выражение солдата срочной службы: она его не дождалась. Незадолго до предложения Генриха Минна вышла замуж за неведомого господина Рихерса. Купец первой гильдии сражен наповал.
В подробном описании шлимановской юности Исидора больше всего интересуют две вещи. Первая – это, конечно же, отношения с Минной. Исидор пишет о ранних влюбленностях вообще и о своей любви к Лене Царевой в частности. Сравнивая две любовные истории (это сделано не прямо, но сопоставление читается), Чагин как бы завершает давний диалог с самим собой. Он говорит себе, что в расставании со школьной любовью не было, оказывается, большой беды. Очевидным образом он отвечал на важный для него вопрос: не стоило ли ему позднее попытаться сблизиться с Леной Царевой? Нет, не стоило – об этом говорил опыт Шлимана. Она его не дождалась.
Едва ли не больший интерес у Чагина, как мне показалось, вызвали страницы, посвященные изучению языков. В этом словосочетании акцент стоял на изучении. Очевидно, Исидор рассматривал этот сюжет как одну из дорожек к пониманию своей удивительной памяти.
Чагин подробно останавливается на диковинном шлимановском методе изучения. Гениальный самоучка Шлиман в этом, как, впрочем, и во многом другом, ни на кого не похож. Он никогда не заучивал отдельных слов – запоминал их в составе высказываний. Потом эти высказывания расширял, ходя вокруг первоначального зерна концентрическими кругами. Наматывал на него новые смыслы и слова.
Примечательно, что Шлиман не занимался с профессиональными преподавателями, и это ощутимо удешевляло занятия. Для перевода слов ему было достаточно общаться с носителем языка. Кстати говоря, носителя русского он не нашел и изучал язык самостоятельно. Повторю: по «Телемахиде». Много бы я дал, чтобы услышать его русский.
Что меня по-настоящему удивило – это сентиментальные строки, посвященные Исидором Шлиману. Речь в них шла о том, что в чудаковатом немце Чагин нашел родственную душу. Да, они были очень разные, но ведь и сам Шлиман был разным – просто какими-то гранями своей личности и биографией напоминал Чагина.
Оба обладали особенной памятью, и опыт первой любви у обоих был печальным. В этих словах мне послышалось что-то из Вертера. Который – так мне всегда казалось – всю свою трагедию придумал сам. Наконец, у обоих было трудное детство. Мысль о трудном детстве заставила Исидора вспомнить о врученной ему биографии.
Ложась в один из вечеров спать, я подумал о том, как странно устроена жизнь. Мог ли я еще пару месяцев назад предположить, что буду так живо интересоваться биографиями Чагина и Шлимана? Не мог, ответил себе, засыпая. Конечно, не мог.
Проснулся от звука шагов по крыше. В темноте Исидоровой квартиры светлел прямоугольник окна. Всё повторилось: шаги, фигура в окне. Я знал, что снаружи меня не видно. В детстве любил быть невидимым. Представлял себе, как, невидимый, слежу за кем-то – эти картинки предшествовали той загадочной минуте, когда бодрствование переходило в сон. Глаза мои снова закрылись.
Раму легонько дернули. Оставаться невидимым не было больше никакой возможности. Стараясь как можно меньше скрипеть, я спустил ноги на пол, но эта кровать не была создана для беззвучных движений – может быть, и к лучшему. Ее раздраженный скрип выражал возмущение ночными похождениями и не поощрял дальнейших (в буквальном смысле) шагов незнакомца.
– Исидор Пантелеевич…
Раздался легкий стук в стекло.
Я пытался рассмотреть того, кто стоял в окне. Незнакомец оказался незнакомкой.
– Исидор Пантелеевич…
Да, голос был женский. Я приоткрыл окно:
– Я, видите ли, умер.
Произнес это глухо. Думаю, что подобные вещи иначе не произносятся.
– Что? – раздалось из-за окна. – Как – умер?
Я промолчал. Как умирают?
Она сделала шаг – и поскользнулась на покатой крыше. Я успел поймать ее холодную руку. Понятно, что после такого скольжения я не мог оставить гостью на крыше. Отодвинув стол, помог ей спуститься в комнату. Зажег свет.