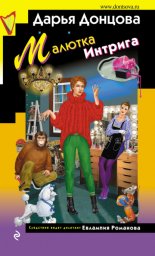Собачья смерть Чхартишвили Григорий
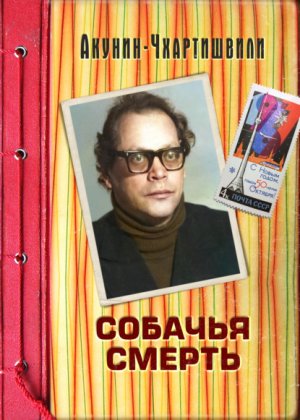
– Это так только называлось. Всей артиллерии была одна пушка, и ту бросили, когда драпали от турок.
Иных подробностей не последовало.
– Еще рассказывают, что вы участвовали в знаменитом Беневентском походе?
– Послушайте, мне было двадцать пять лет, я тогда считал истинной верой анархизм, а пророком Магометом мсье Бакунина. Мог ли я остаться в стороне, когда ревнители свободы затеяли разжечь в Италии пламя анархистской революции? Только знаете, анархисты, да еще итальянские – это бардак в квадрате. Мы захватили городок, произнесли перед ошеломленными крестьянами тыщу зажигательных речей, разрешили им никого не слушаться и не платить налоги, сожгли королевский портрет, а потом нагрянули карабинеры, и мы долго бегали по горам, прежде чем нас всех не переловили. Мы даже не отстреливались, потому что от чрезмерной любви к свободе и красному вину впопыхах забыли в городке шомполы. Так они и остались в ведерке с ружейным маслом. Нечем было заряды в стволы забивать. Тогда-то я и понял, что на анархистском угле паровоз революции далеко не уедет.
– Вы рассказываете об этом как о фарсе, но ведь вас приговорили к смертной казни?
– Только собирались. А потом на трон сел новый король, и мы попали под праздничную амнистию. У итальянцев и революционеры, и сатрапы не особенно свирепые. Посидел я полгодика в тюрьме, в хорошей компании. Выучил итальянский.
– А также, говорят, научились владеть итальянским stiletto? И это искусство по возвращении на родину вам пригодилось. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы убили начальника всей царской тайной полиции.
Здесь Степняк помрачнел, насупил кустистые брови.
– А вот ро это я ни вспоминать, ни тем более рассказывать не люблю.
– Что возвращает нас к теме давешнего спора, – не стал настаивать хозяин. – О неэффективности и даже вредности террора. Это подростковая болезнь революционного движения, она не должна становиться хронической. Необходимо ее перерасти. Вы не согласились, обещали изложить ваши доводы в статье. В свертке – это она? Давайте, прочту.
Гость зашуршал газетой, в которую была завернута рукопись.
– Знаете, я долго думал после нашего разговора. И существенно скорректировал свою позицию. Конечно, вы правы. Мы, русские, пустились в террор от нетерпения и безысходности. Видели, что никак по-другому расшевелить инертную народную массу не получается. Ну и ненависти за погубленных товарищей тоже накопилось много… И еще одно на меня подействовало, когда я писал статью. Из России пришла весть, которая меня очень взволновала.
– Какая? – живо спросил Энгельс.
– Помните дело Александра Ульянова? О покушении на Александра Третьего?
– Конечно. Восемь лет назад. Заговорщиков схватили и повесили.
– По нашим каналам сообщают, что брат Александра, Владимир Ульянов, молодой юрист, пошел иным путем, марксистским. Он и его товарищи отвергают террор. Они сосредоточились на агитации среди столичного пролетариата. У них подпольная организация, которая ставит своей целью создание рабочей партии.
– Вот это дело настоящее! Небыстрое, зато надежное. Идеи – оружие намного более действенное, чем кинжал или револьвер. А главное, идею не отправишь на виселицу…
– Но террор тоже необходим! – перебил Степняк, загораясь. Всегда очень вежливый, возбуждаясь, он становился нетерпелив. – Об этом и моя статья! О том, что цареубийство само по себе ничего не решает, но, если нанести удар в решающий момент, когда революция назрела, этот акт способен совершенно парализовать власть! Да, тысячу раз да – идеи, агитация, пропаганда, кропотливое партийное строительство! Но понадобится искра, от которой грянет взрыв! И понадобятся герои, готовые взорвать себя ради святого дела!
– А не жалко губить героев ради какого-то коронованного ничтожества? – возразил Энгельс.
Спорили до глубокой ночи.
«Воскресник»
После тестя, знаменитого кинорежиссера, Гривасу досталась квартира в высотке на площади Восстания – огромная, четырехкомнатная. По сравнению с ней Маратова тридцатиметровая, когда-то в послевоенной скудости казавшаяся роскошной, была просто позорищем. Жена говорила: стыдно позвать приличного гостя. Они и не звали. У них, на Щипке, было две комнаты, «маленькая» и «большая». А у Гриваса – столовая, гостиная, спальня и кабинет, который торжественно назывался «операционная». Хозяин любил цитировать профессора Преображенского из самиздатской повести Булгакова: «Я не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной». Столь же привольно существовали и остальные завсегдатаи «воскресников» – хорошо зарабатывающие, с отдельными квартирами, машинами, дачами. Достаток был заслуженный. Все они были люди известные. Но это-то не штука – среди прежних Маратовых знакомых имелись персонажи познаменитей и побогаче. Однако в Союзе совписов знаменитость и зажиточность обычно обременялись хреновой репутацией. За кем-то тянулся шлейф стукачества или разгромного витийства в «трудные годы», кто-то считался «казенным соловьем соцреализма», а кто-то послушно «колебался вместе с линией партии». У Гриваса всю эту братию презрительно называли «молчалками» – соединение «мочалки» с грибоедовским Молчалиным – и в свою среду не допускали. На «воскресниках» никто не морализаторствовал, на котурны не вставал, здесь хватало субъектов вздорных, малоприятных, скандальных (тот же Джек спьяну делался дурным), но Молчалиных и Петров Петровичей Лужиных не водилось.
В просторной квартире на площади Восстания по-западному разбредались кто куда, с рюмками и бокалами в руках. Да все за одним столом и не поместились бы, тут обычно набиралась компания человек в тридцать, а бывало, что и больше. Гривас гордился тем, что он «стратег социальных коммуникаций», наследник Анны Павловны Шерер. «Залог успеха светского салона – разнесение солнечных систем, – балагурил он. – Во всяком сообществе есть светило и есть притягиваемые к нему планеты. Надо располагать гостей такими группами, чтобы два светила не затмевали друг друга». Поэтому обычно в каждой из комнат кучковались отдельные группки и велись автономные беседы. Хозяин перемещался от одной к другой, всюду блистая, при необходимости подкидывал тему. Иногда спор переходил в крик и ссору, все были молодые, а многие нетрезвые – Гривас немедленно появлялся на шум, но не растаскивал сцепившихся, а с удовольствием наблюдал за корридой, любил «силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе». Посмеивался в усы, потряхивал львиной гривой. (Он получил кличку еще и из-за нее, а не только потому что «Григорий Васильев».)
Марат был не из «светил», а из «планет». Слушал и наблюдал, рот раскрывал редко – только если с кем-то один на один. На публике тушевался. Оказавшись на «воскреснике», он обычно переходил из комнаты в комнату, прислушиваясь к беседам, и застревал там, где обсуждали или рассказывали что-то важное. Компания была хороша тем, что кроме хохмачества и сплетен, до которых Марат был не охотник, где-нибудь обязательно разговаривали и о серьезном.
Сегодня, кажется, народу собралось больше обычного. Человек пять или шесть оккупировали даже прихожую – которая размером превосходила «большую комнату» на Щипке. В центре размахивал руками Гога, постановщик картины, которая недавно вышла на экраны и вызывала жаркие споры. Публика поделилась на тех, кто пришел от новой киностилистики в восторг и кто на нее морщился. Первых было намного больше.
Возрожденский относился к числу вторых. Едва войдя, он сразу накинулся на Гогу, сюсюкающим голосом передразнивая главную героиню:
– «Ты меня любишь? А я тебя люблю!» Ты где таких баб видал, жеманник? У тебя любовники в постели лежат, будто не трахались, а в кубики играли. И целомудренное затемнение вокруг, одни носы видно.
Здороваться на «воскресниках» было не принято. Даже коротко, как в модной песенке: «Уходишь – счастливо, приходишь – привет». Хорошим тоном считалось вести себя так, словно и не расставались.
– О, любимец советской молодежи пожаловал. Ну поучи нас, поучи секс изображать, – парировал Гога. Он за словом в карман не лез. – Как там у тебя в бессмертных строках? «Сидишь беременная, бледная. Я пошутил, а ты надулась». Или вот это: «Постель была расстелена, а ты была растеряна и говорила шепотом: «Куда же ты, ведь жопа там?».
Оставаться в прихожей Марат не стал. Во-первых, не выносил похабщины. Во-вторых, фильм про импозантную любовь представителей двух остромодных профессий, физика-ядерщика и стюардессы, был «не пыльца».
Отношение к художественным продуктам – кинокартинам, спектаклям, литературе – у Марата было писательское, то есть сугубо потребительское. Все произведения он делил на «пыльцу» и «не пыльцу». Воображал себя пчелой, которая на одни цветки садится, а на другие нет. Потому что пчела чувствует, что ей пригодится для производства меда, а что не пригодится или даже повредит. Поскольку никакого другого смысла кроме выработки меда в существовании пчелы нет, она должна слушаться своего инстинкта.
Бывало, начнет он читать новый роман, и вроде бы не к чему придраться: стиль неплох, сюжет не буксует, тема не высосана из пальца – а мертвая вода, никакой искры. Прочтет десять, двадцать страниц – откладывает. То же и с кино. Редко когда высиживал больше четверти часа – уходил. Не потому что плохо, а потому что «не пыльца».
Он и к людям относился так же. За одними хотелось наблюдать, запоминать жесты, интонации, мелкие детали, от других делалось скучно. Уродская профессия писатель, инвалидная.
В коридоре состязались фельетонист Вика из «Литгазеты» и актер Ширхан, прозванный так за тигриную вкрадчивость и острозубие. Это было их всегдашнее развлечение: Ширхан, у которого была фантастическая память, цитировал всякую советскую чепуху, а эрудит Вика угадывал, откуда это.
– «Иногда мы – кстати, совершенно незаслуженно – говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью, – передразнивал Ширхан чей-то бойкий, развязный говорок. – Свинья – все люди, которые имеют дело с этими животными, знают особенности свиньи, – она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит».
– Элементарно. Семичастный про Пастернака, доклад на сорокалетии ВЛКСМ, – пожал плечами Вика. – Ну, в третий раз, Лаэрт, и не шутите. Деритесь с полной силой; я боюсь, вы неженкой считаете меня.
Ширхан перешел на грузинский акцент:
– «В последнее время во многих литературных произведениях отчетливо просматриваются опасные тенденции, навеянные тлетворным влиянием разлагающегося Запада, а также вызванные к жизни подрывной деятельностью иностранных разведок. Все чаще на страницах советских литературных журналов появляются произведения, в которых советские люди – строители коммунизма изображаются в жалкой карикатурной форме. Высмеивается положительный герой, пропагандируется низкопоклонство перед иностранщиной, восхваляется космополитизм, присущий политическим отбросам общества».
– Кто – понятно, – задумчиво произнес Вика, глядя в потолок. – Когда и где? …Хм. Низкопоклонство, космополитизм… Встреча с творческой интеллигенцией, сорок шестой год. «В ваших рассуждениях, товарищ Фадеев, нет главного – марксистско-ленинского анализа». Так?
– Туше, – развел руками Ширхан. – А это? – И старческим дребезжащим фальцетом: – «Долг всякого советского писателя – верно служить Родине, партии, народу. Партия дала советским писателям все права, кроме одного – права писать плохо».
Но Вику было не победить.
– Леонид Соболев. Выступление на Четвертом съезде Союза писателей. Я там тоже был, мед-пиво в буфете пил.
И Марат там был, но даже в буфет не наведался, сразу сбежал. «Пыльцой» на нудном сборище не пахло.
Ушел он и из коридора. Фрондерское зубоскальство над «совреалиями» (это слово здесь произносили морщась) его не забавляло. Чем-то это напоминало хихиканье над барином в людской. В глаза «ваше сиятельство» и поклон, за спиной – гримасы и верчение пальцем у виска. Уж или одно, или другое. Марату больше импонировал стиль покойного Кондратия Григорьевича, который предпочитал держаться от «барина» на отдалении, но и вольнодумством не бравировал.
В столовой было очень много народу. Там читала новые стихи Белочка. Нервная, трепетная, с пушистым хвостом рыжих волос, качавшимся, когда она встряхивала головой, поэтесса была действительно очень похожа на белку, да не какую-нибудь лесную, а ту самую, пушкинскую. Гривас говорил, что всё совпадает: лучшие ее стихи – чистый изумруд, не лучшие – скорлупки золотые, и Белочку тоже «слуги стерегут», поскольку она всегда окружена преданными поклонниками.
– Следующая работа назвала себя «Мой день», – сказала Белочка вялым сонным голосом. Она именовала стихи «работами» и утверждала, что они сами объявляют ей свое имя.
Прозой Белочка всегда говорила сонно, оживала только декламируя стихи. Вот и сейчас она встрепенулась, подалась вперед и ввысь, хвост метнулся вправо и влево, голос завибрировал.
- О как прозрачно и лучисто,
- Младенец мой, мое растенье,
- Стартует день, простой и чистый,
- Мой первый снег, мой дождь весенний.
- Ах утро, утро, ты – подснежник!
- Сквозь наст лежалый пробиваясь,
- Ты знаешь только слово «нежность»,
- Тебе неведома усталость.
Марат перестал слушать. Было у него такое полезное умение, которое часто уберегало от «не пыльцы» на обязательных собраниях, при скучных беседах или на спектакле, с которого нельзя сбежать. Просто убавлял звук до минимального, и слова сливались в безобидный рокот.
Белочкины стихи Марату не нравились. Как и их авторесса. Белочка требовала, чтобы про нее говорили или «поэт» или «авторесса», ни в коем случае не «поэтесса» или «автор». Она объясняла почему, но Марат забыл. Он органически не выносил аффектации – ни в жизни, ни в творчестве. Белочка же была сплошной излом. Ни словечка, ни жеста в простоте.
Тонкая рука авторессы взлетала к потолку, трепетала. Марат смотрел на руку с неудовольствием – она была неискренняя, утлая, предательственная.
Марат знал про себя, что он «ручной фетишист». Это была своего рода обсессия. При всяком знакомстве он сразу смотрел на руки – и узнавал про нового человека больше, чем из разговора или визуального впечатления. У него сложилась целая внутренняя наука, «маногномия», выработанная за годы жизни.
В свое время Марат влюбился в будущую жену, потому что в своей убогой уральской юности ни у кого не видел таких ухоженных ногтей. Собственные руки он терпеть немог – какие-то коряги с кочерыжками.
Из столовой Марат ушел бы сразу, не дожидаясь Белочкиных завываний, но рядом с дверью у стены стояла Дада, хозяйка дома. Слушала декламацию со своей прославленной полуулыбкой, держала в длинных пальцах дымящуюся сигарету. Вот у кого были прекрасные руки – глаз не отвести!
Дада с Гривасом являли собой совершенно ослепительную пару. Он – мастер тонкой, минималистской новеллы, она – советская Анни Жирардо. Никогда не участвовала в разговорах, только полу-улыбалась, но очень умно и многомерно. Она и на экране ничего другого, кажется, не умела, но этого хватало, чтобы считаться (цитата из журнала «Советский экран») «самой интеллигентной красавицей отечественного кинематографа».
Тем временем Белочка уже дошла до конца своего минорного дня, полного несбывшихся надежд и горьких разочарований.
- Моя цикута, черный кофе.
- Я на Луну по-волчьи вою.
- Люстрина блеск на черной кофте —
- Ночное небо над Москвою.
Кто-то негромко сказал: «Сильно». Все захлопали, а Марат вышел, чтобы вернуться попозже – заметил в дальнем углу, на стульчике, Алюминия, который сидел, опершись подбородком на гитару, рядом на столике магнитофон «Яуза». Значит, будет петь. Алюминий был звезда «магнитиздата», его песни слушала и пела если не вся страна, то вся интеллигенция. Вот они Марату нравились. Никакого «люстрина на черной кофте», стихи по форме очень простые, а по содержанию – зависит от слушающего. Они были легкие и светлые, но в то же время с каким-то металлическим звоном, отсюда и прозвище, очень точное. Алюминий обычно пел в самом конце, когда все наговорятся и нашутятся.
В гостиной, очень странной комнате, где мебель была дореволюционная, а картины ультрасовременные, по большей части абстрактные, царствовал Гривас.
Он по-приятельски подмигнул вошедшему Марату, не прерывая рассказа.
Говорил про интересное – про недавнюю поездку в Америку. Совсем не то, что было напечатано в его путевых очерках. Там, в «Литературке», Гривас описывал антивоенное движение, растерянность американского общества после убийства еще одного Кеннеди, отличных ребят из «Черных пантер», с которыми встречался на конспиративной квартире.
Здесь же, своим, Гривас говорил про другое.
– Там в воздухе веет революцией. Не такой, как у нас – «бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу», – а настоящей, в мозгах и сердцах. Как будто новая порода людей… нет, даже не порода, а новый подвид homo sapiens вдруг появился.
Гривас был серьезен, что с ним случалось нечасто. Обычно он насмешливо щурился, кривил рот под гоголевскими усами, беспрестанно ёрничал.
– Что самое мерзкое в нашем союзе нерушимом республик свободных, где так вольно дышит человек? Хамство, ощетиненность, агрессия. Любят только своих, все чужие вызывают настороженность. А в коммунах хиппи, по которым меня возил Алан, любят всех – априорно, без разбора. Видят первый раз в жизни, и готовы принять, обнять, всем поделиться. Если ты оказался скотиной – тогда, конечно, отворачиваются. Но всем правит презумпция невиновности. Пока не доказано, что ты сволочь – ты друг, товарищ и брат. Это моторней всякого толстовства. Потому что никто не нудит, не проповедует, не лезет в душу. А главное, всё в кайф. Кругом только молодые, прикольные, легкие. Маленько прикумаренные от марихуаны, но она не тяжелит и не вызверяет, как водка, а наоборот, подкидывает в воздух, наполняет любовью ко всему миру и всем людям.
– Покурил? – спросил кто-то с завистью.
– Под 225-ую подводишь, начальник? – цыкнул воображаемой фиксой Гривас. – А свидетели у тебя есть?
Все засмеялись.
– Про сексуальную революции расскажи, – попросила брюнетка с несколько лошадиным лицом, одетая в мешковатую хламиду. Наверное, какая-нибудь художница. Марат ее видел впервые. Руки некрасивые, с костлявыми пальцами и хищными красными ногтями.
– Дада далеко? – Гривас с преувеличенной пугливостью оглянулся на дверь, понизил голос. – Короче привозит меня Алан в одно комьюнити под Сакраменто. Называется «Нуд парадайз», «Голый рай». Там все разгуливают в чем мать родила. И все гости тоже должны на въезде сдавать одежду. Мне куда деваться? Писательская командировка. Растелешился. Иду такой застенчивый, срам ладошкой прикрываю. Верчу башкой. Как в стихотворении: «Взглянешь налево – мамочка-мать, взглянешь направо – мать моя мамочка!». Подходит ко мне умопомрачительная Ундина, из гардероба только кувшинки в волосах. Говорит: «Ты чего закрываешься? Не стесняйся, у античных статуй дик тоже маленький. Мне такие даже нравятся». Ну мне в этом смысле, некоторые в курсе, стесняться нечего…
Дальше Марат слушать не стал. Про революцию в мозгах и сердцах ему было интересно, про «дик» Гриваса – нет. Переместился на кухню.
Там тоже говорили про иностранное. В текущем тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году самые интересные события происходили за рубежом, в СССР было затхло и скучно. Особенно по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Тогда всё задвигалось, зашевелилось, скинуло паутину. Двери не открылись и замки на них остались, но распахнулись окна, хлынул свежий воздух и солнечный свет. Происходили удивительные события, появились новые яркие люди – вот эти самые, собравшиеся сегодня на «воскресник», – а ведь казалось, что бескислородные десятилетия удушили всё живое, навечно отучили подданных чугунной державы шагать не в ногу.
Но оказалось, что это было всего лишь проветривание, на окнах снова задвинулись шпингалеты, остались одни форточки, да и те едва приоткрытые.
Научный сотрудник Института марксизма-ленинизма по кличке «Коммунист-с-Человеческим-Лицом», сокращенно Косчел, постепенно превратившейся в Кощей (это был долговязый, очень тощий очкарик). Он написал книгу «Герои коммунистического Сопротивления», очень неплохую, хотя, конечно, с неизбежными недомолвками и сглаживанием острых углов – впрочем, не Марату с его «Чистыми руками» было автора в этом упрекать. Несколько дней назад Кощей вернулся из Парижа, с фестиваля газеты «Юманитэ». Видел следы майских беспорядков, когда студенты строили баррикады и дрались с полицией. Пообщался с участниками, левыми активистами – у Кощея был хороший французский.
– …Нет, это не коммунистическая революция. Во всяком случае не в нашем, советском понимании, – отвечал Кощей на чей-то вопрос, когда Марат заглянул на кухню (она тоже была большущая, с половину его квартирки). – На советский социализм бунтари кривятся. В служебном отчете я написал, что это движение по духу не только антибуржуазное, но и антисоветское, повсюду портреты Троцкого и Мао Цзэдуна, поэтому относиться к парижским событиям следует с большой осторожностью. Маркса и Ленина идеологи «Мая» трактуют весьма своевольно – даже не в ревизионистском, а в авантюрно-волюнтаристском ключе. Но отчеты пишутся для начальства, а если говорить «не для протокола»…
Кощей сделал паузу, оглядывая слушателей, и задержал взгляд на Марате, кажется, не сразу сообразив, кто это. Потом вспомнил, кивнул.
– Давай-давай, колись, – поторопили его. – Тут все свои, стукачей нет.
– У меня сложилось впечатление, что это бунт не классовый и не социальный, вообще не политический, а исключительно поколенческий. Если угодно, стилистический. Старики и всё старое надоели молодежи. Знаете, каков главный лозунг «гошистов», как они себя называют, лозунг, объединяющий маоистов, троцкистов, анархистов, чегеваристов и всех-всех-всех? «Il est interdit d’interdire». «Запрещается запрещать». Такой бунт непослушания, мятеж против установленных стариками правил. Типа «нам ничего вашего не нужно». Ни вашего геронтоцентричного социального устройства, ни вашей лицемерной морали, ни вашей неудобной одежды, ни вашей слюнявой музыки, ни морщинистых рож ваших вождей. У нас всё новое, всё свое, небывалое прежде.
– Ой, я хочу в «гошисты»! – воскликнула девица с длинными распущенными волосами, по лбу перехваченными ремешком. Кажется, она пришла со скульптором Эдиком, у него часто менялись подружки. – Где бы записаться?
– Помолчи, – толкнул ее локтем брутальный Эдик. – Не мешай слушаь.
– Кумира прежних поколений Де Голля они зовут «Генерал Нафталин». Наше политбюро, – Кощей понизил голос, – для них «дом престарелых». «Ваш Брежнефф – старик за шестьдесят, пусть сидит с внуками», – сказал мне один поклонник хунвейбинов. Я ему в ответ: «А твоему Мао за семьдесят». «Мао не тронь, говорит, он бодхисатва». В общем полная каша в головах.
Сзади, из коридора, Марата тронули за рукав. Обернулся – Джек. Шепнул:
– Сен-Жюст, айда в кабинет, там Коряга про Чехословакию рассказывает.
– Кто?
– Умный мужик, в Праге работает, в журнале «Проблемы мира и социализма».
Еще один коммунист с человеческим лицом, подумал Марат, но пошел. Прага сейчас была еще интересней Парижа.
В кабинете после светлой кухни показалось темно, здесь были задвинуты шторы – окна выходили на запад, где ярко светило солнце. В полумраке помигивали огоньки сигарет, кверху тянулся серый дым.
– …После апрельского пленума ЦК КПЧ стало совсем интересно, – говорил глуховатый, слегка надтреснутый голос. – Дубчек поставил на все ключевые посты реформаторов. Двое – Смрковский, председатель Народного Собрания, и министр внутренних дел Йозеф Павел – из «отсидентов». Первый во время войны был подпольщиком, второй – интербригадовец. Крепкие орешки. Обоих в начале пятидесятых помордовали на допросах, но не сломали. Как они относятся к сталинизму – понятно. Тут «Пражске яро», «Пражская весна» развернулась уже вовсю. С нашей «оттепелью» даже не сравнивайте. Общественная дискуссия, идейный плюрализм, многопартийность, отмена цензуры – прямо голова кружится. Летят скворцы во все концы, и тает лед, и сердце тает. Вот я вам почитаю из статьи Вацулика, называется «Две тысячи слов», ее вся Чехословакия обсуждает…
Говоривший подошел к окну, слегка раздвинул шторы, подставляя журнал солнечному лучу. Марат увидел профиль: лобастая плешивая голова, шкиперская бородка – для идеологического работника необычно.
– Я с листа, так что пардон за корявость… Вот, послушайте: «Ошибочная линия руководства превратила партию из идейного союза в орган административной власти, поэтому партия стала притягивать властолюбцев, шкурников, приспособленцев, подлецов. Из-за этого изменилась природа партии, она стала производить со своими членами стыдные процедуры, без которых невозможно было сделать карьеру. В конце концов в партии не осталось людей, способных соответствовать уровню задач современности».
– И это напечатано? В официальной прессе? – недоверчиво спросил кто-то.
Парень в клетчатой рубашке, стоявший впереди Марата, выкрикнул:
– Ведь один в один! Всё, как у нас! Пока не поцелуешь их в задницу, даже диссертацию по астрофизике не защитишь! Мне завкафедрой говорит: «Подавайте в партию, тогда рассмотрим». В гробу я видал их партию!
На него обернулись. Нравы на «воскресниках» были вольные, но не до такой степени.
Коряга тоже посмотрел на несдержанного молодого человека – с осуждением.
– Беда не в партии. Беда в партийцах. Это из-за таких, как вы, чистоплюев мы вязнем в дерьме. Я сейчас еще один пассаж прочту. «С начала этого года мы… у нас происходит процесс возрождения демократии. Начался этот процесс благодаря коммунистической партии. Мы сами, коммунисты, тем более беспартийные, скажу прямо, давно уже ничего хорошего от партии не ждали. Но ни в какой иной инстанции процесс стартовать и не мог, только в этой. Ведь последние двадцать лет хоть какой-то политической жизнью можно было заниматься только в коммунистической партии, только там зарождалась критика, только там принимались решения, только внутрипартийное сопротивление находилось в прямом контакте с противником». В этом суть, понимаете?
Стало видно, что Коряга тоже взволнован, просто в отличие от астрофизика, он не кричал.
– Чтобы изменить курс корабля, нужно находиться в рубке, у штурвала. Партия один раз уже сделала «поворот все вдруг», в пятьдесят шестом, и мы знаем, что это возможно. Скажу больше: в стране, население которой не приучено выражать свою политическую волю, только так и можно провести реформы. Как при Александре Втором – сверху. Но нас – таких, как я или Кощей – в партии слишком мало. И сейчас мы проигрываем схватку, нас теснят сталинисты. Они хотят взять реванш, хотят окончательно скомпрометировать и погубить великую коммунистическую идею!
– А она точно великая? – спросил астрофизик.
– Идея, что люди должны жить без эксплуатации, без богатых и бедных, давать обществу по способностям, а получать от него по потребностям? – удивился Коряга. – Конечно, великая. Великая и прекрасная. Проблема в методах. И в людях, которые управляют процессами. У нас в результате ужасов гражданской войны к власти пришли жестокие, безжалостные, привыкшие полагаться только на насилие, неразборчивые в средствах вожди. Но у мирного времени иные законы – это объективный факт. В стране, которая не воюет, где нет голода, где население поголовно имеет среднее образование, а половина выпускников поступает в ВУЗы, прежние железные строгости бессмысленны, они стали анахронизмом. Нам тоже нужна своя «пражская весна». Но кто будет ее начинать, когда вы все такие брезгливые. Вот я спрошу: сколько здесь членов партии?
В комнате было, наверное, человек десять, но поднялась только одна рука – в дальнем углу.
– Ты, Аркан, не в счет, – отмахнулся Коряга. – Ты вступил в сорок пятом, в армии, у тебя выбора не было. Ни в какой партийной работе ты не участвуешь.
Марат увидел Аркана только сейчас, потому что уже давно, почти с самого начала, слушая выступавшего, почти всё время смотрел в одну сторону. У противоположной стены, в кресле сидела незнакомая девушка. Он обратил на нее внимание, потому что чиркнула спичка, и в полумраке на несколько секунд вдруг осветилось лицо и кисти рук. Лицо было совершенно прерафаэлитской тонкости и нежности, просто «Святая Лилия» Россетти, но еще красивее были руки. Такого идеального рисунка Марат никогда не видел.
Потом он всё вглядывался в густую тень, глаза привыкали к полумраку, а когда Святая Лилия затягивалась, огонек сигареты разгорался ярче, освещал узкие, твердые губы, мерцающие глаза под чуть сдвинутыми бровями.
Сзади, из коридора, появился Гривас, встал за спиной у Марата, с минуту послушал и, конечно, ввязался в разговор.
– Не знаю. По-моему, засада не в хреновых исполнителях, а в самой идее. Коммунизм – это уравниловка, все вместе, все хором, «кто там шагает правой?». А всё сколько-нибудь стоящее изобретают индивиды. Частная инициатива – вот главный двигатель прогресса. Менделеев не с коллективом товарищей периодическую таблицу открыл, и Достоевский свои романы без парткома писал.
– Писатели – дело особое, но что касается науки, то сейчас, в двадцатом веке, в одиночку ею заниматься уже невозможно – вон, у астрофизика спроси, – ответил Коряга.
Тут заговорили сразу несколько человек, и дискуссия повернула в новое русло, очень интересное, однако в этот момент Святая Лилия поднялась и направилась к выходу. Она шла прямо на Марата и, приближаясь, с каждым шагом становилась всё прекраснее. Удивительная вещь! Ему всегда нравились ухоженные, хорошо одетые, следящие за внешностью женщины – одним словом, принцессы. У этой же были небрежно подхваченные резинкой волосы, косметики ноль, одета с необычной для гривасовской компании простотой: тенниска, пятирублевые «техасы», советские полукеды. И все равно принцесса – несомненная и безусловная.
Вот она оказалась совсем рядом. Посмотрела мимо Марата, на Гриваса. Тот, подкинув тему для спора, с удовольствием прислушивался к шумному разговору.
«Что она скажет? Какой у нее голос?» – подумал Марат.
– Где тут у вас уборная? – спросила принцесса. Голос у нее был хрипловатый, прокуренный.
– Для вас – где пожелаете, – галантно поклонился хозяин квартиры, но показал в дальний конец коридора.
– Ясно, – кивнула она, не улыбнувшись так себе шутке.
Марат тихо спросил, глядя вслед:
– Кто это?
– Штучка, да? – усмехнулся Гривас. – Эх, будь я побезнравственней… Но увы. Во-первых, женат. Во-вторых, труслив. В-третьих, благороден. Девица вверена моему попечению почтенным родителем. Слышал про Юлия Штерна, академика?
– Это какой-то физик?
– Не какой-то, а ого-го какой. Если не отец, то дядя водородной бомбы. Дважды герой соцтруда. Мы с ним на Петровке в теннис играем. Потрясающе интересный чел. Ум, как золинген. Попросил приветить дочурку. Нервничает, что она корешует с неправильной компанией. Познакомьте, говорит, ее с каким-нибудь писателем или на худой конец поэтом. Ну, я и позвал мадемуазель на «воскресник». Диковатая немножко, но феромонами так и пышет.
– Я – писатель, – сказал Марат. – Познакомь ее со мной.
– Ничто человеческое ему, оказывается, не чуждо, – заржал Гривас. – Пойдем, примем ее прямо на выходе из сортира. Дама будет смущена, это обеспечит тебе стратегическое преимущество, поверь ловеласу в отставке.
– Это неудобно, давай лучше здесь подождем, – запротестовал Марат, но был обхвачен за плечо и протащен по коридору прямо к двери с золотыми буквами WC – Гривас хвастал, что стырил табличку в музее Ватикана, на память.
Когда раздался звук спущенной воды, Марат задергался, но лапы у Гриваса были железные, он имел разряд по самбо.
Открылась дверь. Дочь академика вытирала свои удивительные руки об штаны. Немного удивилась, но смущения не выказала.
– Агаша, хочу вас познакомить с не очень молодым, но очень талантливым прозаиком Маратом Р., – весело объявил Гривас. – Фамилию полностью не называю из ревности – она и так у всех на слуху. Вы, конечно, читали повесть «Воскресная поездка»?
– «Агашей» меня зовет только отец, – спокойно ответила девушка. – Вы, Григорий Павлович, пожалуйста, зовите меня «Агата». Повесть я читала. У вас туалетная бумага кончилась. Давайте я принесу. Где вы ее держите?
– Ай-я-яй, – укорил ее Гривас. – Такая романтическая внешность, имя – как у героини Грина: Агата Штерн, почти Фрэзи Грант, и такая приземленность. Бумагой займусь я, а вы идите, беседуйте о литературе.
Тайком подмигнул – и бесшумно, на цыпочках удалился.
– Ну и как вам? – спросил Марат. – Я имею в виду повесть?
Он догадался, что не понравилась – иначе Агата не сменила бы тему, но почему-то, должно быть, из вечного мазохизма, захотелось, чтобы она сказала неприятное прямо в глаза. По девушке было видно, что на вежливую ложь рассчитывать не приходится.
Так и получилось.
Пожала плечом:
– Еврейская грамота.
– То есть?
– Ну, как еврейский текст. Одни согласные, без огласовок. Нужно угадывать тайный смысл.
Сравнение было меткое. Марат оценил.
– И в чем же, по-вашему, тайный смысл?
– Ясно в чем. СТЛНЗМНХЙ.
Он не сразу сообразил, а когда дошло – покраснел. Матерные слова не выносил с интерната – потому что все вокруг только ими и разговаривали, а особенно не любил, когда матерятся женщины.
– Почему у вас вместо имен героев буквы? «Н.», «Б.С.», «Р.В.». Алфавит какой-то. Ясно же, что речь идет о реальных людях, и вы не хотите, чтобы их забыли. К чему тогда конспирация? Как их звали по-настоящему?
Агата задавала вопросы безо всякого вызова. Просто спрашивала.
– Зачем вам? – поморщился Марат. Ему сделалось досадно и тоскливо. – Вам ведь это неинтересно.
Он хотел повернуться и уйти. Гудбай, племя молодое, незнакомое. Мы друг другу не нужны, и это к лучшему.
Но Агату его слова, кажется, удивили.
– Было бы неинтересно – не стала бы спрашивать. И читать до конца не стала бы. А я дочитала. И мне понравилось. Недомолвки только раздражали. Нет, правда, кто были все эти люди?
Зеленые глаза смотрели требовательно, брови на белом и гладком (в прошлом веке написали бы «алебастровом») лбу слегка приподнялись.
– Если вам действительно интересно, давайте я свожу вас на Донское, к моим героям, – неожиданно для самого себя сказал Марат – и перепугался. Быстро прибавил: – Только я всю неделю буду занят. Смогу в следующее воскресенье. И вы обязательно позвоните накануне – мало ли что. Сейчас дам телефон. Вырву страничку из блокнота. – Кривовато улыбнулся. – У писателей, знаете, всегда при себе блокнот на случай гениального озарения…
Решил, что запишет номер с ошибкой – вдруг остро почувствовал, что такая экскурсия до добра не доведет. Не нужно ему больше видеться с этой Агатой Штерн.
Но она сказала:
– Не надо. Я возьму у Григория Павловича.
И Марат успокоился. Не возьмет и не позвонит.
Сэйдзицу
Роман
Часть Первая
Я. Х. Петерс (1886–1938)
Жизнь представлялась ему зеленым футбольным полем, никогда не кончающееся «сейчас» было круглым и упругим, как кожаный мяч, и надо было звонко бить по мячу ногой, подкидывать его в золотистый воздух, бежать вслед за вертящимся кругляшом и в прыжке заколачивать бутсой, коленом, лбом, а хоть бы, если никто не видит, и рукой в вожделенные ворота, и чтоб трибуны вопили от восторга, и заливался свисток, и хмельно кружилась голова: «Гол! Гол! Гол!».
Яков мог быть только форвардом, только атакующим, только первым. Но став еще и капитаном команды, после того как Феликса отправили на штрафную скамью, каждым атомом своей души – химеры, выдуманной попами и мистиками, каждой клеткой плотно сбитого тела, которое уж точно химерой не являлось, он впервые ощутил, что его внутренний газ наконец заполнил всё предназначенное ему пространство. Наполнившись пузыристой легкостью, Яков и сам взлетел над стадионом, над головами других игроков и чувствовал, что может выиграть матч с разгромным счетом, всухую.
Не меньше, чем футбол, руководитель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии любил Шекспира, старался формулировать свои мысли чеканным бардовым слогом, презирающим мелкое, а секретных сотрудников нарекал именами шекспировских персонажей, о чем впрочем никто не догадывался. Два веселых латыша, Спрогис с Буйкисом, в разворачивающейся пьесе были Розенкранцем и Гильденстерном, а в команде – хавбеками.
– Товарищ Петерс, мы поймали щуку, – сказал Спрогис, блестя шальноватыми светло-голубыми глазами. Губы у него всегда были готовы к улыбке – тянулись уголками кверху.
– Большую-пребольшую, – подхватил коренастый темноволосый Буйкис. – Вот такую.
Развел руки, показывая размер добычи.
Еще они похожи на спаниелей, притащивших из болота утку, подумалось Петерсу. Он в свои тридцать два был лет на десять, то есть на целую вечность, старше этих мальчишек, вчерашних подпоручиков, которые ничего кроме войны в своей коротенькой жизни не видели и после окопного ужаса относились к новой службе как к увлекательному и неопасному приключению. Розенкранц-Спрогис был половчей, но и поноровистей, запросто мог выкинуть какой-нибудь фортель. Гильденстерн-Буйкис соображал небыстро, зато на него можно было положиться. Яков намеренно свел их вместе. В одиночку ни тот, ни другой с заданием не справились бы, а вдвоем, на распасовке, получилось то, что надо.
– Ну хвастайтесь, – сказал председатель ВЧК, выколачивая из трубки серую труху на сложенную вчетверо газету. Он пока не обзавелся пепельницей, не до того было. Прежний же хозяин кабинета не курил.
Разговор шел на латышском. За пять недель, прошедших после отставки Феликса, Яков основательно почистил личсостав, зараженный левоэсеровской гнилью. Брал только тех, в ком был уверен, и больше всего доверял землякам. Никакого национализма, старый подпольный принцип: работай только с теми, кого знаешь. Латыш чем хорош? Про каждого известна вся подноготная – кто, откуда, как себя вел раньше, чем живет, чего стоит. Товарищи, родственники, знакомые всё расскажут. Человек как на ладони.
– Удалось выйти на Подводника?
Спрогис подмигнул приятелю.
– Мало нас с тобой, Янис, начальство ценит. Мы, товарищ Петерс, на Подводника не просто вышли. Мы его из-под воды вытащили. За жабры.
– Кончай трепаться, – сказал Буйкис. Он считал, что всему свое время и место. Шутки шутят за бутылкой, а в солидном разговоре с солидным человеком нужна солидность. – Мы, товарищ Петерс, с ним встретились дважды. Первый раз позавчера, в гостинице «Французская». Сказали ему всё, как уговорено. В латышских частях большевиков не любят, все хотят на родину, но там немцы, без Антанты их оттуда не прогнать. Поэтому мы, бывшие офицеры, желаем знать, какие, мол, у вас, у Антанты, планы насчет Латвии. Кроми послушал, ничего не сказал. Только записал наши имена. Назначил встречу на следующий день.
– Это он проверял, действительно ли мы офицеры, – встрял Розенкранц. – Вы говорили, товарищ Петерс, что он обязательно будет проверять по своим каналам.
– Выяснить бы, что это за каналы. А как прошла вторая встреча?
– Вчера он не молчал, задавал вопросы. Про нашу организацию. Особенно его Девятый полк интересовал.
– Так-так, – нахмурился Яков. Девятый латышский полк нес комендантскую службу – охранял главные правительственные учреждения, включая Кремль. – Что было потом?
Спрогис подмигнул товарищу, сделал невинное лицо.
– А потом мы сели на поезд и вернулись из Петрограда в Москву.
Буйкису опять стало неудобно за легкомыслие товарища. Он повторил:
– Кончай трепаться, тут дело серьезное. Доставай, показывай. Подводник нам дал записку к Локкарту. Конверт мы вскрыли, не повредив сургуча – как учили. Но там на английском, а мы только немецкий знаем.
Быстрым, как у кошки, цапающей муху, движением Яков выхватил у Розенкранца конверт, вынул листок и прочитал несколько строк, написанных ровным почерком. Не поверил удаче, прочитал еще раз.
Британский военно-морской атташе Френсис Кроми рекомендовал мистеру Роберту Брюсу Локкарту выслушать подателей письма, чья личность установлена и проверена, по вопросу, представляющему для «господина главы миссии» несомненный интерес.
– Проголодались в дороге? – спросил Яков ровным голосом. Только те, кто очень хорошо его знал – двое или трое людей на свете, – уловили бы во внезапной глуховатости тембра волнение. – Идите в столовую, поешьте. Сегодня дают отличный гороховый суп и пшенную кашу с американскими консервами. Потом снова ко мне. Марш-марш! Полчаса у вас. Скажете: Петерс велел накормить вне очереди. И дать добавки.
– Вот умеет советская власть награждать, – оскалился Спрогис. – А то наглотался я под Икскюлем немецкого газа, и что? «Владимира с мечами» от царя-батюшки получил. То ли дело добавка пшенки!
Но Буйкис уже подпихивал его к двери, шипел:
– Топай, топай. Товарищу Петерсу подумать надо.
Оставшись один, Яков вскочил из-за стола, подошел к окну, забарабанил по стеклу. В Петерсе жило два человека, внешний и внутренний. Первого – невозмутимого, флегматичного, неспешно ронявшего скупые слова – видели все. Второй был порывист, нервен, азартен, его надо было прятать. Только наедине с собой Яков давал внутреннему себе немного свободы.
Широко открытые серые глаза смотрели не на улицу Большая Лубянка, не на скучный дом напротив с надписью «Столовая», а выше, выше: в сизое августовское небо, похожее на грунтованный холст – рисуй на нем, что захочешь.
Эскиз будущего полотна, или сюжет пьесы, или план футбольного матча – все эти метафоры годились – выглядел головокружительно интересным.
Однажды Ильич, самый умный человек на свете, сказал: «У всякого политика, который чего-то стоит, общественный интерес должен быть личным, а личный – общественным. Малейшая дискордия между общественным и личным недопустима. Ты делаешь большое общественное дело, потому что оно позарез нужно лично тебе. Тогда и только тогда ты достигнешь цели».
Разговор был втроем, и обращался вождь к Феликсу. Яков сидел, помалкивал. Но мысль ухватил сразу. Она была, как всегда у Ильича, ослепительно простая и бесспорная. Феликс-то не оценил, проскрипел своим надтреснутым голосом, что давно отказался от всего личного. Проблема Феликса в том, что он прямолинеен и несгибаем, как широкий стальной меч, в нем нет творческого извива, жизнь для Феликса – не каскад увлекательных приключений, а череда тяжелых испытаний. Яков тоже был стальной, но узкий и гибкий – как рапира. Чрезвычайная Комиссия, созданная, чтобы защищать республику от прячущихся в траве рептилий, должна быть такой же, как они – изгибистой.
И да, тысячу раз да: личный интерес должен стопроцентно совпадать с общественным, а общественный с личным.
После того как Феликс проморгал левоэсеровский заговор, угнездившийся прямо у него под носом, Ильич отправил верного, но близорукого соратника в отставку. Комиссию возглавил Яков. Но в качестве «временноисполняющего». Феликс не потерял своего главного – да что там, единственно значимого звания: он остался для Ленина ближним. Таких во всей партии имелось пять или шесть человек, все из старой гвардии. Яков-то был, увы, из молодой гвардии. Не только по возрасту. В эмиграции он жил не в Швейцарии, близ Ильича, а в Англии. И вернулся поздно, попал в Петроград уже к шапочному разбору, только в октябре. Ближним ему никогда не стать. Путь наверх только один: доказать свою полезность, а еще лучше незаменимость.
Теперь, когда он стал капитаном команды, пускай временным, такая возможность появилась. Упускать ее нельзя.
Это, стало быть, личное.
Но и общественное требовало, чтобы во главе ЧК остался Яков Петерс. Он был нужен республике. В отличие от Феликса, он понимал: выиграть матч можно только атакуя. Лучшая защита – нападение. Без атаки голов не забьешь.
Республика была хилым младенцем, который вряд ли доживет до годовалого возраста. Инфекции и нарывы подтачивали слабое тельце, корчившееся в судорогах – очень возможно, предсмертных. Сжавшаяся под натиском советская территория на карте напоминала череп, мертвую голову.
Весь запад захвачен германцами. На юге белогвардейцы идут на Екатеринодар, Кубань обречена. Весь восток откололся. На дальнем краю великой Евразии высадились японцы, сибирскую магистраль захватили чехи, но и по эту сторону Урала дела идут хуже некуда. Казань пала, эвакуированный туда золотой запас государства достался контрреволюционерам; в Прикамье против большевиков восстали не кулаки или приспешники буржуазии, а рабочие, самая что ни на есть пролетарская масса, коллективы военных заводов. Рабочие против партии рабочего класса – каково?
А хуже всего на севере. На позапрошлой неделе в Архангельске началась высадка союзников. Немцы обескровели от долгой войны, белогвардейцы разрозненны и не столь уж многочисленны, чехи хотят только одного – поскорее вернуться домой, японцев интересует лишь Дальний Восток, но Антанта набрала силу, наступает на Западном фронте и теперь, кажется, вознамерилась окончательно решить «русскую проблему».
Ключевое слово здесь «кажется». Вознамерилась или нет? Сил, денег, ресурсов у британцев, французов и американцев для этого более чем достаточно, но их дипломатические представители уверяют, что десант не ставит своей целью свержение советской власти, а является лишь предохранительной мерой против наступления германцев из Финляндии.
В прошлый четверг на заседании Совнаркома Ильич сказал, что сейчас архиважно вызнать истинные намерения Антанты. Если она готовит наступление, нужно махнуть рукой на второстепенные фронты и срочно стягивать все боеспособные части к Москве и Петрограду. Они – мозг и сердце революции. Пока работает мозг, пока бьется сердце, Советская власть будет жива. Вождь предложил не рисковать и начать эвакуацию на юге и востоке прямо сейчас, не теряя времени. «Я готов отдать Волгу, Дон, всё Черноземье, лишь бы спасти наши столицы. Если же товарищи со мной не согласны, я уйду с поста председателя Совета Народных Комиссаров, ибо промедление подобно гибели», – так закончил он свое драматичное выступление. «Коня, коня! Венец мой за коня!» – некстати вспомнился Якову король Ричард на Босвортском поле.
Все мрачно молчали, один Петерс ощущал трепетное клокотание в груди. Он знал: это его Тулон. Негромким, спокойным голосом временный председатель ВЧК попросил обождать с эвакуацией. Через неделю, максимум через десять дней я доложу Совнаркому об истинных планах Антанты, сказал он. Ильич посмотрел прищуренно, с полминуты помолчал, потом кивнул. Поверил. Подвести его – поставить крест на своем будущем и погубить революцию. Оправдать оказанное доверие – спасти общее дело и покончить с «временностью». Личное совпадало с общественным на сто процентов.
Кто мог знать о планах союзников? Представители трех главных держав Антанты, находившиеся в Москве: британский поверенный Локкарт, американский генконсул Пуль и французский генконсул Гренар. Но они правды не скажут. Нужно было получить требуемые сведения каким-то извилистым образом.
В настоящей, обстоятельно устроенной контрразведывательной службе для этого имеются дешифровальщики, внедренные или подкупленные секретные агенты, специалисты по тайным обыскам. В ЧК же служили бывшие политкаторжане, вчерашние рабочие, недоучившиеся студенты. Ни знаний, ни опыта. Денег на подкуп посольского персонала нет, не хватает даже стульев в кабинетах, а председатель стряхивает пепел на свернутую газету.
Подобраться к иностранным дипломатам, мастерам извилистых наук, никакой возможности вроде бы нет.
Яков расхаживал по замызганной ковровой дорожке, оставшейся со времен, когда в доме на Лубянке 11 находилось страховое общество «Якорь», ерошил жесткие волосы, подгонял мозг: думай, думай.
Глава дипломатической миссии сам тайными делами не занимается, для этого у каждого из них должен быть специальный помощник. У французов это, по-видимому, военный атташе Лавернь. Или, может быть, полковник Вертеман – он тоже подозрительно активен. Но который из них? Времени выяснять не было. Про распределение полномочий у американцев ничего не известно, к тому же их войска прибыли в Европу совсем недавно, и президент Вильсон выступает не за прямую интервенцию, а за экономическое давление на коммунистическую республику. Агрессивнее всего настроены британцы, и кто в их представительстве ведает разведкой отлично известно: морской атташе Френсис Кроми, который остался в Петрограде, потому что у англичан там с дореволюционных времен собственный телеграфный пункт, обеспечивающий мгновенную связь с Лондоном. Депеши шифруются мудреным кодом, взломать который невозможно, да и некому. Товарищи из петроградской ЧК, конечно, плотно следят за капитаном, вокруг которого постоянно крутится всякая контрреволюционная сволочь, но оперативная информация в данном случае ничем не поможет. Раз в неделю Подводник (это агентурная кличка Кроми, он на войне командовал субмариной) приезжает к Локкарту в Москву, но подслушать их беседу ни разу не удавалось.