Общество изобилия Гэлбрейт Джон
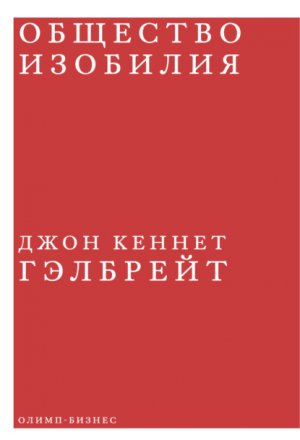
О Книге «Общество изобилия»
…Литература тоже должна приносить радость. Если мы читаем что-либо с трудом, значит, автор потерпел неудачу.
Х. Л. Борхес. «Думая вслух»
Вы держите в руках книгу, впервые увидевшую свет шестьдесят лет тому назад – очень давно по меркам стремительного развития современного человеческого общества во всех его вещных, материально осязаемых аспектах, и совсем недавно, чуть ли не вчера, если рассматривать «Общество изобилия» в исторических рамках – в качестве социально-философского трактата, определяющего modus vivendi экономики как науки и экономики как системы хозяйствования. Но в том-то и дело, что, являясь одновременно эстетически изящным и по-научному доскональным опытом синтеза и последующего анализа параллельно существующих образов «практики» и «теории» производства, товарно-денежных отношений, государственно-бюджетных, кредитно-финансовых, социально-экономических и прочих, казалось бы, реалий, произведение выдающегося канадско-американского экономиста Джона Кеннета Гэлбрейта настойчиво подводит нас к мысли об их иллюзорности, поскольку залогом стабильности и процветания всё-таки служит имманентно присущее человеку стремление к идеалу – непреходящему и всеобщему изобилию.
Достижим этот идеал или нет? И можно ли выработать какой-то разумный алгоритм его достижения?
Автор, как сдержанный оптимист и трезвый прагматик, прежде всего прослеживает путь эволюции экономической теории от Адама Смита вплоть до современного Гэлбрейту и отнюдь не удовлетворительного, хотя и не безнадежного, по его оценке, состояния. Путь этот предстает нашему мысленному взору усеянным множеством обломков сменявших друг друга учений и школ, чьи базовые концепции были сокрушены ударами не укладывавшейся в них экономической реальности.
В чем же проблема? Да в том, аргументированно утверждает автор, что экономисты – в массе своей – склонны трактовать происходящее в настоящем времени и назревающее даже в ближайшем будущем сообразно системе представлений, сложившихся в результате кристаллизации, шлифовки и систематизации прошлого опыта. Именно на прочном фундаменте имеющегося опыта и зиждется «расхожая мудрость» – корпус неоспоримых общепринятых «истин», не подлежащих обсуждению, – одно из центральных понятий книги. Как известно, генералы готовятся к прошлой войне… Беда, однако, в том, что «живая экономика» всякий раз успевает измениться до неузнаваемости – и качественно, и мотивационно – к моменту окончательного оформления очередного свода «незыблемых истин и аксиом, законов и правил» в экономике академической.
Именно в силу инерционности мышления, считает Гэлбрейт, в XX веке экономика как наука и стала давать пробуксовку, поскольку в целом она оказалась идейно ориентированной на реалии уходящей в прошлое эпохи полностью свободного и конкурентного рынка. Давно канули в Лету мрачные реалии перенаселенного и вечно голодного мира по Мальтусу и Рикардо, обошли стороной относительно благополучный мир промышленно развитого Запада грозы революционных перемен по Марксу. «Буржуазия» и «пролетариат» нашли-таки между собой сначала демпфирующую прослойку в лице профсоюзов, а затем и базу для безоговорочного консенсуса – примат цепи «производство – потребление» в иерархии социально-экономических, да и общечеловеческих ценностей.
После Великой депрессии, начинавшейся в условиях «дикого» частного рынка и закончившейся «жестким» государственным регулированием, антимонопольным законодательством и долгожданным всеобщим экономическим подъемом американской экономики (на волне Второй мировой войны), в США (а следом и в потянутой ими за собой Западной Европе) как раз и сложились все предпосылки для формирования «общества изобилия».
Почему? Как так случилось?
Именно тут автор и постулирует главный тезис: в результате прогресса (социального, научно-технического и просто общечеловеческого) оскудение ресурсов перестает быть проблемой номер один. Соответственно, заказанное Гэлбрейту в далеких 1950-х годах исследование проблемы «бедности» и превратилось, по его словам, в трактат о богатстве, об «обществе изобилия», где главное – обозначить пороги, притолоки и прочие препятствия, о которые это столь процветающее общество рискует больно споткнуться или удариться. А ведь рисков такого рода немало. К ним относятся и нарочитая расточительность «богатых напоказ», и извечная проблема неравномерного распределения благ, и отсутствие гарантий экономической безопасности и социальной защиты, и искусственное раскручивание всевозможных «спиралей», вгоняющих потребителей в долговую зависимость от банков благодаря искусной рекламе избыточных, по большому счету, товаров и услуг производителей.
В ситуации тотальной зависимости благополучия и стабильности «общества изобилия» от дальнейшего наращивания производства и потребления товаров и услуг творцам экономической и денежно-кредитной политики приходится постоянно нащупывать шаткое равновесие между инфляцией и стагнацией, перепроизводством и безработицей, социальной защищенностью населения и развитием эффекта массового «тунеядства на пособиях»; наконец, между преференциями государственному или частному сектору…
Знакомо?.. А дальше что? Учитывая тот факт, что «Общество изобилия» подводит жирную черту под самим фактом существования «традиционного» индустриального общества, Гэлбрейт честно и недвусмысленно рекомендует решительно переориентировать экономику с дальнейшего раскручивания «беличьего колеса» цикла «производство – потребление» на достижение социальной и финансово-инвестиционной сбалансированности посредством расторжения постылого брака между экономической безопасностью и производством ради производства.
Нынешние реалии, пожалуй, уже превосходят этот более чем прозрачный намек автора на наблюдаемый всё более активный сдвиг в структуре потребления и – шире – человеческих потребностей в пользу симулятивного потребления и производства симулятивных благ, не несущих реальных стимулов для развития общества, но поглощающего и всё возрастающее количество ресурсов, и – душу современного человека, который стремительно превращается в потребителя-обывателя.
Сейчас, когда технологический прогресс уже «выталкивает» людей не только из профессий, но и из сферы производства, когда человек, говоря словами К. Маркса, начинает «выходить за пределы материального производства», самое время вспомнить Дж. К. Гэлбрейта. Ведь человек, выйдя за эти «пределы», но не найдя себя в этом новом мире, который мы называем, следуя автору, новым индустриальным обществом второго поколения (НИО.2)[1] и – в развитии его – нооиндустриальным обществом[2], может в это «общество изобилия» следующего этапа и не попасть. Это невозможно без всестороннего развития себя как личности, человека – носителя высокого рацио и внутренней культуры, которые служат ограничителями безудержного потребления и неразумного растрачивания природных богатств, технологических даров и своего креативного потенциала.
Высвобождающиеся в процессе развертывания новой индустриальной революции человеческие ресурсы при таком подходе органично распределятся между и без того немалым «балластом» таких, кого сегодня вполне устраивает существование на социальные пособия при условии их достаточности не просто для выживания, а для терпимого существования выше черты бедности, и «новым классом» профессионалов и людей творческих, который и будет в обозримом будущем двигать «общество изобилия» к новым вершинам прогресса, с удовольствием для самих себя совмещая плодотворную созидательную работу в свободном режиме с активным отдыхом.
Утопия? Только не для «общества изобилия», научившегося раз за разом порождать по сформулированному Гэлбрейтом алгоритму фигуры масштаба Стива Джобса и Илона Маска, чьи изобретательные достижения выводят человечество на всё новые и более высокие витки спирали развития, раз за разом оставляя далеко внизу посрамленных глашатаев расхожей мудрости «Выше головы не прыгнешь!».
И, конечно, нельзя напоследок не отметить блестящий по образности стиль изложения автором своих мыслей и постоянное присутствие на страницах «Общества изобилия» некоей непредсказуемой интриги, что делает ее чтение занятием не только познавательным, но и в наилучшем – интеллектуальном – смысле увлекательным.
С. Д. Бодрунов, директор Института нового индустриального развития
(ИНИР) им. С. Ю. Витте, Президент Вольного экономического общества
(ВЭО) России, доктор экономических наук, профессор
Предисловие к первому русскому изданию
Спустя шестьдесят лет после первой публикации (John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, Houghton Mifflin, 1958) книга «Общество изобилия» наконец-то доступна российским читателям на их родном языке. Честь написать предисловие достается мне, сыну автора, экономисту, работающему в рамках примерно того же направления в экономической науке, – и одновременно тому самому маленькому мальчику, которому посвящена эта книга.
«Общество изобилия» обеспечило моему отцу репутацию ведущего экономиста своего времени и одного из немногих всемирно признанных американских общественных интеллектуалов второй половины ХХ века. Книга не была его первой коммерчески успешной публикацией: «Американский капитализм» (American Capitalism, 1952) и «Великий крах 1929 года» (The Great Crash 1929, 1955) тоже отлично продавались. При этом она не стала самой нашумевшей из его работ: книга «Новое индустриальное общество» (The New Industrial State, 1967) больше года возглавляла список бестселлеров, а «Великий крах 1929 года» даже много лет спустя, в условиях повторяющихся финансовых кризисов, остался востребованным и показал новый пик продаж в 2008–2009 годах.
Однако именно эта книга в большей степени, чем все прочие его труды, определила положение Джона Кеннета Гэлбрейта как оригинального и значимого мыслителя, как экономиста, работам которого было суждено, подобно трудам Смита, Маркса, Веблена и Кейнса, стать важными вехами в развитии экономической мысли, а также создать прецедент в представлении экономической проблематики вниманию широкой аудитории. Она закрепила за ним роль революционера, и это при том, что его собственные политические воззрения всегда оставались либеральными (в американском понимании этого термина), прагматичными, прогрессивными и демократическими.
В чем же состояла революционность книги? Гэлбрейт категорично заявил (и это явно соответствовало действительности), что в Северной Америке, а позднее в Западной Европе и Японии эффективное общественное устройство и технологии массового производства сделали неактуальным пришедшее из глубины веков представление, будто цель экономической системы состоит в удовлетворении базовых потребностей человека. Более того, Гэлбрейт подчеркнул, что это обстоятельство невозможно обойти, как предлагали (и до сих пор предлагают) экономисты, работающие в духе главенствующей традиции в экономической науке, просто переименовав «потребности» в «желания» и допустив, что последние четко очерчены, ничем не ограничены и в принципе неутолимы.
Из такого допущения следует, что для нормального функционирования экономической системы «желаниям» должна быть придана форма, которая укладывается в производственные планы коммерческих организаций. В первую очередь эту задачу призваны решить дизайн и реклама. Это значит, что макроэкономическая (кейнсианская) политика должна отойти на второй план перед такими задачами, как увеличение продаж, рост потребления и повышение прибылей бизнеса, и всё это за счет стремления к самой главной цели – росту производства, мерой которого выступает показатель, ныне именуемый валовым внутренним продуктом.
Но если мы признаем, что крупные коммерческие предприятия оказывают решающее воздействие на развитие экономики, то стоит спросить себя: а правильно ли это? Допустимо ли? Очевидный ответ: разумеется, нет. Так «Общество изобилия» проложило путь «Великому обществу» Линдона Джонсона – программе устройства и переустройства общества ради более высоких целей: социальной справедливости, высокого уровня жизни для большинства граждан, культурных и эстетических достижений, защиты окружающей среды и того, что сегодня мы называем устойчивым развитием. Общество с демократической формой управления идет к этим целям иным курсом, не гонясь за ростом покупательной способности и рыночного спроса.
Движение в этом направлении открывает бесконечные возможности демократического контроля над развитым капитализмом: забота о безопасности потребительских товаров, охрана природы, охрана и гигиена труда, государственные инвестиции и государственные услуги, регулирование цен и оплаты труда, борьба за гражданские права и устранение дискриминации в обеспечении жильем и доступе к общественным сервисам и пространствам, – в общем, масштабное вторжение в исторически сложившуюся область частнособственнических отношений.
Нет сомнений, что именно «Общество изобилия» составило интеллектуальную основу колоссальной волны прогрессивных общественных преобразований, прокатившейся по Америке в 1960-е годы. Линдон Джонсон позвонил моему отцу и пригласил его, несмотря на расхождения в отношении войны во Вьетнаме, работать в Белом доме над составлением программы борьбы с бедностью и планированием других реформ. Кроме того, «Общество изобилия» стало одной из двух книг – второй была Библия, – которые Мартин Лютер Кинг, как говорят, взял с собой в Бирмингемскую тюрьму.
Австрийская и чикагская экономические школы были встревожены. Даже обосновавшиеся в Массачусетском технологическом институте «американские кейнсианцы», такие как Пол Самуэльсон и Роберт Солоу, испытывали беспокойство. Они сконструировали удобный научный мир, в котором макроэкономика как сфера приложения политики, проводимой правительством демократов, была совершенно отделена от микроэкономики как сферы рынка, отданной (хотя и не целиком) на откуп консерваторам. В «Обществе изобилия» было четко сказано: государство несет ответственность за обе сферы.
Марксисты тоже были настроены скептически. Убежденным радикалам претила мысль, что материальные блага, принесенные успешной индустриализацией, облегчат положение рабочего класса. Признание этого обстоятельства потребовало бы скорректировать марксистскую теорию применительно к развитому капиталистическому обществу (и поставило бы вопрос, сохранился ли на Западе классический капитализм как таковой), породило бы сомнения, что такие важные понятия, как прибавочная стоимость и обнищание пролетариата, всё еще актуальны для всего общества, а не только для дальней периферии экономической системы (например, для многочисленных мигрантов, работающих на салатных и клубничных полях Калифорнии). Занимая сугубо либеральные позиции, Гэлбрейт бросил столь мощный вызов марксизму, что серьезные ответные аргументы сумело предложить только идейное течение «новых левых», указавших на готовность и способность американского государства проводить прогрессивную внутреннюю политику в противоположность агрессивной империалистической политике во внешнем мире. Дискуссия разгорится вовсю во время войны во Вьетнаме, но в 1958 году всё это пока в будущем.
Советские власти не сочли нужным перевести «Общество изобилия». Но почему? Это отдельный интересный вопрос. Такая возможность наверняка рассматривалась: Гэлбрейт посещал СССР в 1956 году; его взгляды были известны, а некоторые из его книг всё же публиковались в России в советский период. Почему же эта книга не вышла? Может, потому, что в ней рассматривался переход к постиндустриальному изобилию, которого СССР еще не достиг? Или потому, что она поднимала вопросы, неудобные для советского руководства – ведь в его распоряжении не было самостоятельно действующих коммерческих предприятий, на которые бы удалось переложить ответственность? А возможно, дело было в чем-то совсем другом.
Если когда-либо книге случалось, в духе второго закона Ньютона в приложении к обществу, вызвать ответную реакцию в научной и культурной среде, то здесь именно это и произошло. С попыток выдвинуть контрдоводы к книге Гэлбрейта пошла в гору карьера Милтона Фридмана, ранее малоизвестного экономиста из крайне правого лагеря. Подобным образом «Общество изобилия» возродило славу уже умершего к тому времени Фридриха Августа фон Хайека, который после периода умеренной популярности в 1940-х годах оказался почти совершенно забыт. Ответная реакция на нее способствовала наступлению эры Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. Затем, с подачи Джорджа Буша старшего и Билла Клинтона, реакция сформировала идеологию свободного рынка, распространившуюся в России при Борисе Ельцине в 1990-е годы. В итоге, отказавшись от надежд на создание прогрессивно-демократического государства с мощными регулирующими полномочиями, каждая из ведущих держав – участниц холодной войны вошла в период реакционного беспорядка и неустроенности.
Поэтому не будет удивительным, если российские читатели, уже прошедшие путь от одной идеологической крайности к другой, окажутся более открыты к идеям и доводам этой книги. Возможно, новая концепция «социального баланса» (в борьбе между «частным изобилием и общественной нищетой»), укорененная в российской культуре и усиленная наследием эгалитарной политики СССР, соединится с демократическими и прогрессивными идеями моего отца и заложит основания для новой модели экономического развития в будущем.
Предлагая данную книгу вниманию российского читателя, я надеюсь именно на это.
Джеймс К. Гэлбрейт, Заведующий кафедрой правительственных и деловых связей им. Ллойда М. Бентсена-мл.
Школы по связям с общественностью им. Линдона Б. Джонсона Техасского университета в Остине
Остин, Техас, США, 2 января 2018 года
Введение к юбилейному изданию 1998 года
Посвящается Алану, Питеру и Джейми
Экономист, как и любой другой человек, должен посвятить себя достижению конечных целей.
Альфред Маршалл
Готовя к публикации новую редакцию книги сорокалетней давности, неизбежно задаешься серьезным вопросом: многое ли в ней нужно изменить, чтобы отразить последующее развитие мысли? И что оставить как есть, чтобы передать былые настроения и убеждения? Я решил не впадать в крайности и выбрал компромиссный вариант.
Значительную часть своего первоначального текста я по-прежнему одобряю. Несравненное удовольствие, например, доставляет мне глава, посвященная осмыслению феномена расхожей мудрости. Само это словосочетание сегодня прочно вошло в обиходный язык; слышать его доводится ежедневно, в том числе от людей, в целом не разделяющих моих общих взглядов на экономику и политику, но просто не имеющих представления о его первоисточнике. Вероятно, мне следовало его запатентовать.
Ну а если всерьез, то я по-прежнему склоняюсь к одному из главных выводов книги, который, увы, заключается в том, что все экономические труды и учения прививают взгляды и убеждения, противящиеся приспособлению к реалиям меняющегося мира. Как следствие, начальные главы, подчеркивающие важность истории развития экономической мысли и долгосрочность воздействия ее идей, я и теперь написал бы слово в слово так же. Представления о мрачных перспективах человечества берут свое начало в трудах Давида Рикардо, Томаса Роберта Мальтуса и Карла Маркса с его идеей неизбежной революции. В том, что положение вещей в более удачливых странах мира с тех пор улучшилось, сомнений нет. Однако доля неизбывного пессимизма сохраняется. Надежное улучшение условий нашей жизни как раз и является первоочередным предметом рассмотрения в «Обществе изобилия».
Центральное место в процессе этих улучшений занимает повышение безопасности экономической деятельности и осязаемой отдачи от нее. Подкрепляется это структурой корпоративного управления, расцветом профессий, ростом занятости в сфере искусств и развлечений, социальным обеспечением, медицинским страхованием и многим другим. Сегодня бы я, однако, более акцентированно указал, особенно применительно к США, на проблему неравенства доходов и на ее неуклонное усугубление – бедные так и остаются бедными, а полномочия самых богатых устанавливать порядок распределения доходов усиливаются сверх всякой меры. То же касается и политической риторики, и властей, вставших на защиту этих сверхдоходов. Вот этого я не предвидел.
Лейтмотивом книги стало мое утверждение, что объем производства товаров и услуг служит мерой цивилизованного успеха. На этом я по-прежнему настаиваю. Валовой внутренний продукт остается общепринятым мерилом не только экономических, но и в целом социальных достижений. Кроме того, он чудесным образом работает на отдельных счастливчиков, особенно из числа высокопоставленных руководителей бизнес-структур, которые, попросту говоря, сами себе назначают зарплату. (Желая продемонстрировать свое человеколюбие, эти люди непременно подчеркивают, что основное благо, которое производство приносит обществу, заключается не в росте доходов, а в обеспечении людей рабочими местами. И вокруг выступающего сразу возникает ореол мужа[3] сострадательного.)
В реальном мире, утверждаю я, производственный процесс включает в себя и способы создания потребностей, и стимулы к их дальнейшей подпитке через моду, социальные устремления и элементарное подражательство. Раз другие что-то делают или имеют – значит, и тебе нужно это делать или иметь. Важнейший и самоочевидный стимулятор потребительского спроса – реклама и искусство продавать продукт. Сначала создается товар, и лишь затем – рынок сбыта. Это входит в глубокое противоречие с традиционной экономической теорией, в рамках которой нет ничего фундаментальнее концепции суверенитета потребителей – следствия окончательного экономического полновластия тех, кому призвана служить вся экономика как система.
Десятилетия, прошедшие после выхода этой книги в свет, однако, не принесли особой радости тем, кто придерживался устоявшихся взглядов и выступал за потребительский суверенитет. Они сопротивлялись и даже яростно отбивались от моих идей. В учебниках экономики по мере их переиздания в новых редакциях моя ересь стала упоминаться и опровергаться на том основании, что, дескать, компания Ford однажды попыталась продвинуть на рынок радикально новаторскую линейку легковых автомобилей под маркой Edsel. И вот ее-то потребители, будучи суверенными в своем праве выбора, отвергли и покупать отказались. Вот он – истинный суверенитет!
Но с течением времени оппозиция смягчилась; с тем, что потребитель на самом деле всё-таки не абсолютный суверен, я полагаю, сегодня принято со мной соглашаться. Влияние рекламы, маркетинга и продажи производителя сегодня общепризнано. Да и пример Edsel из учебников, похоже, исчез.
По двум проблемам в настоящей книге сформулированы верные и даже опережающие свое время суждения. Еще по одной проблеме время и экономические изменения эту книгу опровергли. Начну с разбора своей ошибки.
В ранних редакциях «Общества изобилия» содержались ярко выраженные предостережения об опасности инфляции. Она представлялась первейшей угрозой, нависшей над обществом всеобщего благоденствия. Либо инфляция, либо безработица. Столь отчетливого и безальтернативного выбора больше нет. Первопричиной инфляции в те годы была взаимозависимость зарплат и цен. Администрации торговались с профсоюзами; зарплаты повышались, отчасти вследствие предшествовавшего роста цен; а затем всё это компенсировалось новым витком удорожания жизни. Выросшие цены приводили к новым требованиям повышения зарплаты, и такой процесс раскручивания инфляционной зарплатно-ценовой спирали мог продолжаться до бесконечности. Инструменты монетарной и фискальной политики позволяли действенно контролировать инфляцию лишь ценой искусственного урезания инвестиций и потребительских расходов, что, в свою очередь, вело к снижению объемов производства, росту безработицы и, как следствие, к ограничению требований повышения зарплаты и дальнейшему росту цен. То есть предложенное средство оказывалось решительно пагубнее болезни.
Эта безнадежная цепочка в наши дни представляет меньшую угрозу. Основные объемы производства перемещаются из традиционных отраслей промышленности с их некогда могущественными профсоюзами в сферу услуг, различных видов профессиональной деятельности и искусств, развлечений и коммуникаций, становящихся всё более значимыми источниками рабочих мест. То же касается и высокотехнологических отраслей. Во всех этих сферах деятельности профсоюзы не столь влиятельны или вовсе не значимы. А в старой промышленности они уже не столь агрессивны, да и профсоюзные лидеры, вероятно, утратили былую хватку. Соответственно, и зарплатно-ценовая спираль перестала быть таким важным экономическим фактором, и темпы инфляции остаются низкими даже при высоком уровне занятости. К моменту написания этих строк и безработица, и инфляция у нас уже довольно долго находятся на весьма низком уровне, и данное обстоятельство можно только приветствовать. И вот этого я как раз и не предвидел. Посему просто молча удалил кое-какие утратившие актуальность абзацы.
А вот две проблемы, по поводу которых я имею небезосновательное право претендовать на роль провидца: распределение, в том числе неравномерное, денежных средств и усилий, направленных на обеспечение общественного и частного благосостояния, а также столь важный вопрос, как охрана окружающей среды.
Сорок лет назад я особо подчеркивал бросающуюся в глаза разницу между стандартами и нормами общественной и частной жизни. У нас были дорогие радиоприемники и телевизоры и бедные школы, чистые дома и грязные улицы, слабые коммунальные службы – и всё это на фоне глубокой озабоченности правильным расходованием бюджетных средств. Государственные расходы представлялись чем-то дурным и обременительным, в то время как обильные частные инвестиции являли собой конструктивную в экономическом понимании силу.
В этом отношении все мои доводы остаются в силе и поныне. Правительство так и продолжает с готовностью тратить деньги на вооружения сомнительной надобности и на то, что теперь принято называть «дотациями корпорациям». Во всем остальном правительство по-прежнему подвергается настойчивому и мощному давлению, направленному на ограничение государственных расходов. Так что нам не остается ничего иного, как проявлять небывалую доселе расточительность в потребительских расходах, при том что многочисленные недостатки наших публичных школ и библиотек, зон отдыха и медицинских учреждений, даже правоохранительной системы давно стали притчей во языцех. При этом роль частного сектора выросла в нашей экономике неимоверно, а наградой ему за это стали не только прибыли, но и сопутствующие им политическая активность и сила. Ничем подобным в плане политической поддержки ни государственный сектор, ни военно-промышленный комплекс, ни дотационные корпорации не располагают, да и действуют они, как водится, порознь. Ну а в том, что называется культурой работы, государственный сектор и подавно отстал от частного.
Сорок лет тому назад я не в полной мере предвидел, до какой степени изобилие превратится в восприятии людей в материализацию заслуженного личного вознаграждения, якобы в полной мере доступного и бедным, – было бы, как говорится, желание приложить должные усилия. Отсюда следует вывод, что лучшее решение – оставить бедных на собственное попечение о своем благополучии, а государственные пособия – вредоносное вторжение в их частную жизнь, враг индивидуальной энергии и инициативы. Такой позиции следует противостоять, хотя, если не обращать на нее внимания, она позволяет экономить денежные средства и защищать состоятельных граждан от излишнего обременения налогами. Но при таких настроениях в обществе, возможно, лучше быть нищим в бедной стране, чем бедным в процветающей.
Со времени написания этой книги изменились и взгляды на проблему охраны окружающей среды. Подходы к экологии по меньшей мере слегка выровнялись. В ту пору, завершив работу над рукописью, я даже счел один пассаж на эту тему перебором; чутким авторам вообще не лишним бывает включать самоцензуру в отношении эпизодически проскакивающих гиперболизаций. Засим позволю себе вольность полностью процитировать здесь отрывок, показавшийся мне сомнительным:
Семейство, которое отправилось в путешествие на личном автомобиле модного цвета, снабженном кондиционером и гидроусилителями руля и тормозов, будет проезжать по разбитым улицам городов, обезображенным горами мусора, мимо неухоженных зданий, рекламных щитов и опор для проводов, которые давно следовало бы упрятать под землю. Они будут проезжать сельскую местность, где природу почти не видно за образчиками рекламного искусства. (Товары, которые они рекламируют, безусловно более приоритетны в нашей системе ценностей. Соответственно, эстетические соображения вроде красот загородных пейзажей отходят на второй план. В этом отношении мы весьма последовательны.) Они устроят пикник и перекусят затейливо упакованной едой из переносного холодильника, сидя у грязной речки, а затем переночуют в парке, что может угрожать здоровью и моральному состоянию человека. Прежде чем заснуть, расположившись на надувных матрасах под нейлоновым тентом палатки и вдыхая смрад разлагающегося мусора, они могут смутно ощутить странную неравномерность благ своей цивилизации. И это всё, чего добился гений американского народа?
В конце концов я решил этот пассаж оставить – он и поныне в тексте книги. В том случае я как никогда был близок к тому, чтобы допустить ошибку. За исключением разве что моей отсылки к расхожей мудрости, этот отрывок стал самым цитируемым (и оцененным) во всей книге. Нет-нет да и всплывает где-нибудь до сих пор. Ну и он же неведомым образом способствовал развитию движения за расчистку придорожного пространства, а возможно, даже общественных парков. Работа над «Обществом изобилия» примерно совпала со временем, когда я служил в комиссии при губернаторе штата Вермонт (где мы с женой пусть и не постоянно, но с большой привязанностью к месту проживаем), которая и положила конец большей части придорожной рекламы.
Это не только сделало красоты штата гораздо более доступными его обитателям, но и привлекло постоянно растущий и щедро окупающий себя приток туристов из числа ценителей дивных пейзажей. Что касается озабоченности состоянием окружающей среды в более широком понимании, то она пусть и по-прежнему слабовато, но отчетливо начала проявляться со времени первой публикации.
Эту книгу я начал писать на средства гранта, полученного от Фонда Гуггенхайма на исследование проблемы бедности. Подобные гранты часто расходуются не по назначению; вот и этот не стал исключением. В итоге получился трактат не о бедности, а о богатстве. Но в конце я всё-таки добавил главу о бедности и о тех, кому удалось из бедности выбраться и влиться в социальную страту, которую я назвал «новым классом». Всё это по-прежнему актуально. Нет на американском образе жизни плесневого грибка хуже неискоренимой бедности в наших великих городах и невиданной ранее нищеты в сельских и горных районах. То же самое, разумеется, касается и всего мира в целом.
Никак не затронутыми в моем экскурсе в общество изобилия, однако, оказались проблемы лишений и смертности среди беднейших групп населения нашей планеты, в частности в странах Африки и Азии. Вероятно, из чувства вины перед ними после написания данной книги я посвятил этим проблемам значительную часть своей жизни. На сей ниве, увы, вознаграждающего за труды чувства морального удовлетворения от найденного решения не получишь. Массовая бедность так и остается самой удручающей проблемой современности: множество людей обречены на короткую и по большей части жалкую жизнь в запредельной нищете в неблагополучных странах. Будь у этой книги второй том под названием «Общество без изобилия», в нем, быть может, были бы сформулированы проблемы, требующие куда более срочного решения.
1
Общество изобилия
I
Богатство – вещь небесполезная; по крайней мере, ни одна попытка доказать обратное успехом пока не увенчалась. Но несомненно и то, что богатство – беспощадный враг правильного понимания происходящего. Бедняк прекрасно знает, в чем его проблема и каково ее решение: у него мало денег, ему нужно больше. Богач же постоянно испытывает великое множество трудностей, подчас воображаемых, и оттого гораздо более смутно представляет себе способы их преодоления. Кроме того, пока человек не научится быть богатым, он рискует потратить деньги впустую или наделать еще каких-нибудь глупостей.
Всё это касается не только отдельного человека, но и целых государств и народов. Однако большинство из них имеют весьма недолгий опыт благосостояния. Все страны всегда были очень бедны, за исключением нескольких последних десятилетий – почти несущественный по историческим меркам срок. Да и касается это лишь относительно небольших территорий, населенных европейцами и их потомками. Именно на этих территориях, особенно в США, возникло невиданное доселе изобилие, о котором раньше можно было лишь мечтать.
Однако идеи и концепции, которые, по мнению жителей этих благословенных мест, определяют их существование и которыми они отчасти руководствуются в повседневной жизни, сложились отнюдь не в эпоху изобилия и процветания. Они порождены обществом, где бедность всегда была естественным уделом людей, не способных даже себе представить, что можно жить иначе. И речь здесь идет вовсе не о той бедности, когда человек, мучимый завистью к достатку соседа, полагает себя бедным, а о настоящих страданиях, которые люди испытывают вследствие голода, холода и болезней. И даже получив временное избавление от этих бедствий, человек не мог предугадать, когда и где нищета настигнет его вновь, – ведь даже в лучшем случае голод всего лишь неохотно уступал место обычной в те времена нужде. Существование горстки очень богатых людей – тех самых, о жизни и делах которых сообщают нам письменные источники, – вряд ли помогало всему остальному народу легче переносить нищету.
Никто не взялся бы утверждать, будто идеи и концепции, которые объясняли жизнь в том мрачном царстве нужды, подходят для современных Соединенных Штатов. Мир прошлого был насквозь пропитан бедностью. О нашем времени этого уже не скажешь. Нет оснований думать, что насущные проблемы общества, терзаемого бедностью, актуальны в мире, где простому человеку оказались доступны такие блага цивилизации, какими всего лишь сто лет назад мог наслаждаться не всякий богач: разнообразная пища, развлечения, личный транспорт, водопровод и канализация. Изменения оказались столь радикальными, что современный человек порой не знает, что, собственно, ему нужно. Осознать свои потребности он способен лишь после того, как они будут придуманы, подробно проработаны и взращены в нем усилиями специалистов по рекламе и технике продаж – эти профессии уже вошли в число важнейших и требующих наибольшего мастерства. А ведь еще в начале XIX века мало кому требовалась подсказка рекламщиков, чтобы понять, чего хотеть.
Было бы ошибкой утверждать, что экономические идеи и теории, появившиеся в эпоху всеобщей бедности, стали применять для описания общества изобилия в неизменном виде. Корректировок сделано множество, включая те, которых не заметили или недопоняли. Однако новые идеи встретили необычайное сопротивление. Радикальное изменение материального положения общества так и не получило должного осмысления в экономической науке. В результате во многом мы продолжаем руководствоваться идеями, которые зародились и работали в мире прошлого; как следствие, многие наши действия оказываются излишними, некоторые – неразумными, а то и безумными. Иные и вовсе ставят под угрозу наше нынешнее благополучие.
II
Вышеизложенное диктует и замысел этой книги. Первая задача – показать, что наши взгляды на экономику происходят из бедности, неравенства и экономических опасностей прошлого. Затем изучается вопрос о частичном и неявном приспособлении этих взглядов к условиям изобилия. Следующая задача – рассмотреть приемы и доводы, иногда продуманные, иногда поверхностные, а иногда разрушительные, при помощи которых нам удалось в основных вопросах сохранить преемственность с давними идеями, берущими начало в эпоху всеобщей бедности. Просто взять и принять всеобщее благосостояние как данность экономической жизни не получится; это непривычно и для многих неприемлемо. Такое допущение поставит под угрозу престиж и положение множества важных персон. Многим из нас такое допущение грозит кое-чем пострашнее: необходимостью учиться мыслить по-новому. Здесь новизне противостоит самый весомый из наших кровных интересов – стремление поменьше думать.
Наконец, освободившись из плена устаревших и необоснованных предубеждений, вытекающих из предпосылки всеобщей бедности, мы разглядим новые горизонты и новые вызовы. Правда, сказать легче, чем что-либо совершить. Один из лучших способов уйти от решения необходимых и даже не терпящих отлагательства задач – изобразить, что энергично делаешь что-то уже сделанное.
Таков наш замысел. Но для начала нужно провести подготовительную работу. То, с чем мы имеем дело, – не просто какие-то устаревшие и невразумительные допущения, занимающие умы наших современников в силу их глупости и невежества. При всей распространенности подобных воззрений, они не так уж сильны. Дело в другом: всякое обсуждение общественных проблем подвержено сильному воздействию идей, которые привязывают нас к прошлому и порой заставляют возвращаться к постулатам, давно отжившим свой век. Необходимо признать, что мы в плену у этих идей, – иначе как же мы совершим побег? Об этом – следующая глава.
III
Не думаю, что кому-то эта книга покажется злой. Но кто-то, возможно, сочтет ее лишенной той обманчивой скромности, которая столь популярна ныне при обсуждении общественных проблем. Читатель быстро обнаружит, что я очень мало внимания уделяю известным идеям, которые в экономической теории считаются основополагающими, но больше размышляю о людях, эти идеи породивших. Все недостатки экономической науки проистекают не от изначальной ошибочности экономических идей и концепций, а от того, что некогда пригодные идеи, устаревая, не подвергаются изменениям, превращаясь в нечто священное и незыблемое. Всякий, кто критикует подобные теории, рискует прослыть человеком самоуверенным и даже агрессивным. Но всё же я верю, что критика в мой адрес не будет слишком поспешной. Если хлипкая дверь не выдерживает веса прислонившегося к ней человека, то осуждать его за непрошеное вторжение не вполне справедливо. Нужно принять во внимание еще и плачевное состояние двери.
Оригинальность и самобытность любой работы можно с легкостью раздуть до небес – особенно в этом преуспеет ее автор. Однако в настоящем сочинении крайне мало – или мне так кажется? – свежих мыслей, ранее не приходивших в голову другим экономистам. Многие читатели лишь поприветствуют мои попытки развить идеи, к которым они уже пришли сами, наблюдая за экономической реальностью. Другое дело, что в наши дни человек, позволивший себе даже мягкую критику, в глазах окружающих рискует уподобиться рычащему льву на фоне всеобщего благодушия. Сегодня представители всех общественных наук и приверженцы любых политических взглядов стараются не противоречить удобным общепринятым взглядам и концепциям. На ученого, вступающего в спор, смотрят как на смутьяна, оригинальность расценивается как признак неуравновешенности, и, будто в евангельской притче[4], слепой ведет слепого – по пути соглашательства и конформизма. Тех, кого устраивает такое положение дел, мое сочинение не порадует. Наверно, им лучше поставить его обратно на полку не читая, ведь в нем содержатся мысли невеселые, безрадостные, которые неизбежно привнесут разлад в столь уютный и комфортный мир устоявшихся идей.
IV
Пожалуй, ни один студент, изучающий общественные науки, не избежит в наши дни ощущения непостоянства изучаемых им общественных явлений. Мы видим, что жители Запада сумели вырваться из бедности, столь долго диктовавшей миру свою волю. Но достаточно всего лишь нескольких ярких вспышек ядерных взрывов, чтобы опять погрузить человечество в беспросветную нужду, если оно, конечно, выживет. Рискну предположить, что изложенные здесь идеи помогут нам избежать этой участи. Пребывание в иллюзиях – комплексное заболевание. Богач, который прикидывается нищим и ведет соответствующий образ жизни, сбережет свое состояние, но едва ли это принесет ему счастье. Богатая страна, живущая по канонам общества, где преобладали нужда и бедность, упустит открывающиеся перед нею возможности. В трудные времена такая страна будет всякий раз назначать себе неправильный курс лечения, поскольку не знает истинных причин своей болезни. Именно такая тенденция, как увидит читатель, у нас сейчас и наблюдается.
Но не будем унывать. Не спорю, общество изобилия в результате неверных представлений о себе самом может столкнуться с серьезными проблемами, рискуя вообще изобилия лишиться. Однако проблемы такого рода несравнимы с проблемами общества, пропитанного нуждой, где сама возможность размышлять и ошибаться уже является роскошью, а безысходность, увы, общим правилом.
2
Концепция «расхожей мудрости»
I
Первое, что требуется для понимания современной социально-экономической жизни, – необходимость принимать во внимание связь между явлениями и описывающими их теориями, поскольку явления и теории живут отдельной друг от друга жизнью. Как ни парадоксально, явления и теории способны очень долго следовать по независимым траекториям.
Объяснение этому отыскать несложно. Экономическая и, шире, социальная жизнь не укладывается в рамки простых и ясных схем. Напротив, подчас она выглядит нелогичной, малопонятной, а зачастую и просто уму непостижимой. Но человеку необходимо объяснение и описание поведения экономики, поскольку присущие ему любознательность и самолюбие не позволяют игнорировать природу и характер всего того, что напрямую затрагивает его жизнь.
Поскольку экономические и социальные явления описать не так-то просто (ну или нам так кажется), а установить в ходе основательной проверки их истинность или ложность, по большому счету, не удается, они предоставляют человеку прекрасную возможность, которой он лишен при изучении физических явлений: он в достаточно широких пределах может считать истиной всё, что ему нравится. То есть человек вправе придерживаться таких взглядов на окружающий мир, которые ему больше всего по душе и по вкусу.
И, как следствие, во всем, что касается описания общественных явлений, наблюдается непрекращающееся, нестихающее противоборство между тем, что является истинным, и тем, что считается всего лишь приемлемым. В этом состязании стратегическое преимущество лежит на стороне того, что истинно, в то время как тактическое – всецело на стороне того, что приемлемо. Самая различная публика бурными аплодисментами приветствует именно то, что больше всего ей нравится. И в общественной дискуссии критерий публичного одобрения становится важнее критерия истинности, тем самым оказывая влияние на саму эту дискуссию. Оратор или публицист, намереваясь рассказать всю правду о нелицеприятных и даже шокирующих фактах, неизменно переходит к изложению того, что больше всего публика хочет от него услышать.
Подобно тому как истина служит достижению всеобщего согласия в долгосрочной перспективе, так и в перспективе краткосрочной эта же роль отводится приемлемости для общества. Получается, что теории зависят от того, одобрит ли их всё общество целиком или его часть. Если ученый стремится обнаружить научную истину, то какие-нибудь безымянные спичрайтеры или пиарщики стремятся отыскать ту истину, которая получила бы общественное одобрение. И если их труд общество одобрит, наградив рукоплесканиями, – значит, эти работники пера и пиара доказали свое мастерство. А если не одобрит, то это означает их профессиональный провал. Однако риск провала в наши дни можно в значительной степени свести к минимуму, если заранее прощупать реакцию целевой аудитории или же предварительно обкатать на ней речи, статьи и прочие тексты.
Приемлемость идеи или теории зависит от множества факторов. В очень значительной мере, конечно же, мы привыкли ассоциировать истину с удобством – с тем, что лучше всего соответствует нашим личным интересам и благополучию или обещает избавить нас от тяжких трудов и жизненных неприятностей. А еще для нас в высшей степени приемлемо всё, что максимально способствует повышению самооценки. Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь оратор, выступая с речью, например, в Торговой палате США, позволил себе принизить роль предпринимателя как одной из движущих сил экономики. Те, кто выступает перед делегатами съезда АФТ – КПП[5], склонны отождествлять социальный прогресс прежде всего с мощью профсоюзного движения. Но, вероятно, самое важное свойство человека – одобрять то, что он лучше всего понимает. Как было отмечено выше, экономическое и социальное поведение – дело весьма сложное, осмысление его – занятие утомительное для ума. Вот мы и держимся, как за спасательный плот, за те идеи и теории, которые лучше всего поддаются нашему пониманию. Это и есть первейшее проявление личной заинтересованности. Ибо нашу личную заинтересованность в отношении собственных представлений мы храним как самое драгоценное сокровище. Именно поэтому люди зачастую чуть ли не с религиозной страстью встают на защиту понятий, усвоение которых далось им нелегко. В каких-то областях человеческого поведения близкое знакомство чревато взаимной потерей уважения[6], но во всем, что касается общественных идей и теорий, близкое знакомство, наоборот, ключевой критерий приемлемости.
Поскольку проверка на узнаваемость – важнейший критерий приемлемости, общепринятые идеи демонстрируют невероятную стабильность. Они в высшей степени предсказуемы. Для удобства нужно дать собирательное имя всем тем идеям, которые всегда почитаются по причине их приемлемости, причем такое, чтобы этот термин еще и особо подчеркивал предсказуемость этих идей. Далее я буду использовать для их обозначения выражение «расхожая мудрость».
II
Расхожая мудрость не дана в удел какой-либо одной политической группе. По великому множеству современных социальных проблем, как мы увидим далее в этой книге, существует очень большое согласие. Ничто особо не отличает тех, кто по традиционной политической классификации относится к либералам, от тех, кого считают консерваторами. И те и другие вынуждены проходить проверку на приемлемость. По некоторым вопросам, однако, идеи подлежат подгонке под политические предпочтения конкретной группы людей. Склонность к подобной корректировке идей – умышленной, а чаще бессознательной – тоже не слишком сильно различается даже у разных политических групп. Консерватор склонен, не без примеси корысти, придерживаться всего знакомого и устоявшегося. На этом и основывается его проверка идей на приемлемость. Но ведь и либерал с нравственной горячностью, страстностью и даже с чувством собственной непогрешимости исповедует, опять-таки, наиболее знакомые ему идеи. И хотя они заметно отличаются от идей консерватора, их приемлемость не менее рьяно поверяется критерием всё той же приемлемости. Любое отклонение, любое оригинальничание предается анафеме как измена или отступничество. «Старый добрый либерал», «испытанный и проверенный либерал» или «стойкий либерал» – это прежде всего человек в полной мере предсказуемый. То есть он зарекается от всяческого стремления к новаторству.
И американские либералы, и их британские единомышленники левых взглядов не так давно провозгласили курс на поиск новых идей. Но эта заявленная потребность в новых идеях в какой-то мере сама по себе стала заменителем новых идей. А вот политик, имеющий неосторожность неблагоразумно воспринять подобные заявления всерьез и выдвинуть по-настоящему новые идеи, рискует навлечь на себя большие неприятности.
Поэтому с неизбежностью приходится утверждать, что есть расхожая мудрость консерваторов и расхожая мудрость либералов.
Расхожая мудрость существует на всех уровнях интеллектуальной жизни. В общественных науках на самых высоких уровнях всякие подходы или утверждения, отдающие новизной, сопротивления не встречают. Напротив, постепенно накапливается внушительный запас идей, нарабатываемых с использованием механизма облечения старых идей в новые формы, при этом ценятся лишь те идеи, которые не слишком сильно противоречат старым. Активное обсуждение второстепенных вопросов как раз и позволяет отвлечь внимание от любых попыток пересмотра вопросов фундаментальных, считая такие попытки неуместными и избежав тем самым обвинений в ненаучном подходе или узости мысли. Более того, с течением времени и не без помощи академических дискуссий общепринятые идеи всё более оттачиваются и детализируются, обрастают массой литературы и даже покрываются завесой тайны. Защитники расхожей мудрости всегда имеют возможность упрекнуть тех, кто ее оспаривает, в недопонимании тонкостей и нюансов. Утверждается, что всю совокупность устоявшихся идей способен в полной мере оценить лишь человек непоколебимый, консервативный и терпеливый – короче говоря, человек, который сильно напоминает эталонного мудреца. Расхожая мудрость, будучи более или менее отождествленной с глубокой ученостью, оказывается практически неуязвимой. Скептик лишается права голоса уже на том основании, что имеет дерзость отметать старое ради нового. По-настоящему образованный ученый на его месте хранил бы верность устоям расхожей мудрости.
В то же время на высших уровнях бытования расхожей мудрости новизна идей остается вполне приемлемой и даже приветствуется, однако лишь в самых общих словах. Но здесь расхожая мудрость, вместо того чтобы предложить что-нибудь действительно новое, делает подмену, активно защищая новое как таковое.
III
Как отмечалось, отличительной особенностью расхожей мудрости является ее приемлемость. Она обязательно должна быть одобрена теми людьми, к которым она обращена. Есть множество причин, по которым человеку нравится слышать то, что согласуется с его собственным мнением. Скажем, расхожая мудрость тешит самолюбие, поскольку человек испытывает удовлетворение от мысли, что и другие, куда более известные люди разделяют его взгляды. Услышанное со стороны подтверждение собственной правоты придает сил. Человек видит, что его умозаключения находят поддержку и что он не одинок. Более того, услышанное из чужих уст одобрение заставляет еще активнее продвигать свои идеи – а это значит, что другие тебя слышат и находятся на пути к обращению в твою веру.
В какой-то мере постоянное повторение положений расхожей мудрости – это религиозный обряд. Это такой же акт утверждения в вере, как чтение вслух Священного Писания или посещение церкви. Скажем, какой-нибудь высокопоставленный руководитель компании, выслушивая на званом обеде речи о непреходящих ценностях и достоинствах свободного предпринимательства, в убеждении не нуждается, он и так в них верит, как и все другие слушатели из числа приглашенных, – и все они единодушны и тверды в своих взглядах. Всем своим видом демонстрируя сосредоточенное внимание, руководитель вполне может пропускать слова этой речи мимо ушей. Но, участвуя в подобной религиозной церемонии, он тем самым задабривает богов. Своим присутствием, показной заинтересованностью, аплодисментами он еще и внушает себе дополнительную уверенность в крепости и надежности экономической системы и уходит с обеда, абсолютно в этом убежденный. Так же и ученые на академических собраниях присутствуют лишь затем, чтобы выслушивать элегантное изложение того, что уже им хорошо известно. Опять-таки, этим религиозным ритуалом нельзя пренебрегать, ибо предназначение его состоит не в обмене знаниями, а, так сказать, в освящении научных теорий и их приверженцев.
Поскольку на всё это существует широкий спрос, подавляющая часть наших публикаций и высказываний на общественно значимые темы – и практически все из них, которые получили хорошие отзывы, – посвящены исключительно разъяснению прописных истин, принадлежащих расхожей мудрости. В какой-то мере это занятие превратилось в профессию. Ее представители, среди которых прежде всего следует отметить популярных теле- и радиокомментаторов, профессионально занимаются изучением, а затем изящным и подобострастным изложением того, что более всего желает услышать публика. Но, вообще говоря, излагать положения расхожей мудрости – привилегия видных ученых, общественных деятелей и бизнесменов. Любой новоизбранный ректор университета или президент колледжа автоматически получает право выступать в роли глашатая расхожей мудрости. И это далеко не последняя из привилегий, которые получают обладатели высоких ученых званий, причем само звание является наградой за неустанное распространение расхожей мудрости на должном научном уровне.
От высокопоставленного государственного деятеля ждут и отчасти даже требуют распространять расхожую мудрость. И тут мы видим показательный во многих отношениях пример: до обретения высокого статуса такой человек, как правило, пребывает в тени и почти не привлекает внимания. Но после вступления в должность все вокруг сразу же начинают считать, что он наделен способностью проникать в суть вещей. А он, за редчайшим исключением, даже не пишет собственные речи и статьи – их специально продумывают, многократно редактируют и тщательнейшим образом проверяют, чтобы они оказались приемлемыми для слушателей. Какие-либо иные критерии, например соответствие написанного объективной экономической или политической реальности, были бы восприняты как нечто странное и аномальное.
И наконец, распространение расхожей мудрости служит еще и привилегией успешного бизнеса. Глава практически любой крупной корпорации, например General Motors, General Electric или IBM, имеет все основания прибегать к этому. Вдобавок он считает себя вправе рассуждать не только о деятельности своей корпорации и об экономике, но и о роли государства в обществе, о фундаментальных основах внешней политики, о сущности гуманитарного образования. В последние годы даже высказывается мнение, что разъяснение расхожей мудрости не только право, но и обязанность бизнесмена. «Убежден, что бизнесмены должны не только говорить, но и писать, чтобы у нас была возможность доносить до каждого человека вдохновляющее и убедительное послание о нашей вере в свободное предпринимательство как образ жизни. <…> Как изменилась бы борьба за человеческие умы, если бы американский бизнес вдруг стал распространять здравое мышление, нацеленное на будущее!»[7]
IV
Главный враг расхожей мудрости – не идеи, а изменения, происходящие в мире. Как я уже отмечал, расхожая мудрость старается приспособиться не к окружающей действительности, которую она призвана описать, а к устоявшимся и сложившимся у людей представлениям об этой действительности. А поскольку людям, невзирая на происходящие в мире изменения, комфортнее иметь дело с привычными и давно знакомыми идеями и теориями, расхожая мудрость всегда рискует постепенно устаревать. Прямой угрозы в этом нет – смертельный удар расхожая мудрость получает лишь в том случае, когда общепринятые идеи терпят сокрушительное поражение в какой-нибудь чрезвычайной ситуации по причине полной неработоспособности этих устаревших идей. Подобная участь рано или поздно должна постигнуть любую идею, которая утратила связь с реальностью. В этот самый момент появляется некая личность, которая обращает всеобщее внимание на тот факт, что идея отстала от жизни. Этого человека впоследствии удостаивают чести быть ниспровергателем расхожей мудрости и провозвестником новых идей. И хотя он всего лишь констатирует, что реальность изменилась, его роль маловажной не назовешь. А тем временем расхожая мудрость, подобно старой гвардии, умирает, но не сдается. Общество способно жестоко обойтись с тем, кто некогда выражал его прежние идеалы, переместив этого человека из разряда авторитетных мудрецов в разряд не просто ретроградов, но даже отъявленных реакционеров.
В подтверждение сказанному можно найти множество примеров – как исторических, так и современных. Задолго до событий 1776 года[8] люди десятилетиями грезили о либеральном государстве. Торговцы и купцы в Англии, соседних Нидерландах и в американских колониях к тому времени пришли к выводу, что их интересам лучше всего будет служить государство, которое накладывает минимум ограничений, нежели государство, максимально наделенное функцией регулирования и практикующее протекционизм, как считала расхожая мудрость того времени. В свою очередь, вопреки расхожей мудрости становилось всё очевиднее, что именно свободная торговля и коммерция служат источником силы нации, а вовсе не накопление золота и серебра. И эти выводы сделаны, если можно так сказать, людьми безответственными в своей оригинальности. Как заметил в свое время Вольтер, «торговля, обогатившая английских горожан, способствовала их освобождению, а свобода эта, в свою очередь, вызвала расширение торговли; отсюда и рост величия государства: именно благодаря торговле мало-помалу развились морские силы, с помощью которых англичане стали повелителями морей. В настоящее время они располагают почти двумястами военными судами»[9]. Окончательно подобные взгляды были сформулированы Адамом Смитом в год обретения Соединенными Штатами независимости. Однако на его книгу «Исследование о природе и причинах богатства народов» носители стародавней мудрости еще долго продолжали смотреть с явным неудовольствием и тревогой. Так, в 1804 году Джеймс Кент[10] в надгробной речи на похоронах Александра Гамильтона[11] поставил своему покойному другу в заслугу то, что он до последних дней жизни не принимал «туманную философию» Адама Смита. На протяжении еще как минимум целого поколения во всех западных странах слышались грозные предупреждения о том, что идея либерального общества – чистое безумие.
На протяжении всего XIX столетия, даже после того, как положения либерализма в его классическом понимании перешли в разряд расхожей мудрости, мрачные предупреждения не прекратились. Они пророчили непоправимый ущерб от принятия трудового законодательства, легализации профсоюзов, социального страхования и других законодательных инициатив, направленных на социальную защиту граждан. Правда, либерализм на поверку оказался такой тканью, которая не протирается, а сразу рвется. Однако стремление к защищенности, безопасности и в какой-то мере к равенству хотя бы в возможностях отстаивать свою позицию в ходе переговоров так просто не заглушить. В конце концов расхожая мудрость оказалась бессильна перед этим новым фактом. Супруги Уэбб, Ллойд Джордж, Лафолетт, Рузвельт, Беверидж и другие[12] подготовили массовое сознание к восприятию этого факта. В результате появилось то, что теперь мы называем государством всеобщего благосостояния. Как гласит современная нам расхожая мудрость, теперь считается, что меры социальной защиты позволили смягчить и упрочить капитализм, сделав его более цивилизованным. Правда, в этом случае слышались несмолкающие предупреждения о губительности разрыва с традициями классического либерализма.
А вот еще один интересный пример влияния происходящих в мире изменений на расхожую мудрость – отношение к теме сбалансированности бюджета в годы экономической депрессии. Чуть ли не с момента появления организованных форм государственного управления сбалансированный бюджет, как бы он в разные эпохи ни именовался, считался sine qua non[13] надежного и рационального распоряжения государственной казной. Склонность к расточительству, в равной мере присущая монархиям и республикам, ограничивалась с помощью следующего требования: сумма поступлений в казну не должна быть ниже суммы выплат из нее. Нарушение этого правила неизбежно приводило к плачевным результатам в долгосрочной перспективе, а нередко и в краткосрочной. В старину монархи покрывали бюджетный дефицит за счет снижения веса монет или содержания в них драгоценного металла, а сэкономленный металл использовали на свои личные нужды. В результате неизбежно росли цены и падал престиж страны. Такие же последствия наступают и в современную эпоху, когда правительства прибегают к дополнительной эмиссии бумажных денег или к государственному заимствованию у частных банков. В результате расхожей мудростью стало требование строго следить за сбалансированностью годового бюджета.
А тем временем окружающая реальность постепенно изменилась. Правило обязательной сбалансированности бюджета необходимо было применять тем правительствам, которые всегда или время от времени безответственно подходили к бюджетно-финансовым вопросам. Впрочем, так поступали вплоть до XIX века все правительства. А вот затем в США, Англии и Британском Содружестве и по всей Европе правительства начали просчитывать финансовые последствия своих действий, – теперь безопасность перестала всецело зависеть от произвола правителей.
Примерно в то же время начала давать знать о себе поистине опустошительная экономическая депрессия. При такой депрессии возникала массовая безработица, останавливались производства, иссяк спрос на материальные ресурсы; использование политики дефицита бюджета (аналог сэкономленного драгоценного металла, полученного за счет снижения веса монет или содержания в них драгметалла) подразумевало увеличение государственных расходов, в результате которого рос совокупный спрос, – однако политика дефицита госбюджета беспрецедентного роста цен не вызывала, зато позволяла вернуть людям работу и снова запустить заводы. То есть вместо вертикального эффекта взлета цен удалось добиться горизонтального эффекта стимулирования производства. А тот рост цен, который всё же имел место, был не слишком обременительным для населения, зато с его помощью удалось преодолеть болезненное для экономики снижение, имевшее место в предыдущий период.
Но расхожая мудрость по-прежнему настаивала на необходимости сбалансированного бюджета. Граждане продолжали верить, что в противном случае катастрофа неизбежна. Однако Великая депрессия сокрушила эту расхожую мудрость. В США она привела к обвальному снижению поступлений в федеральный бюджет и заморозила всевозможные расходы на помощь бедным и социальные программы. Политика сбалансированного бюджета подразумевала необходимость повышения налоговых ставок и сокращения расходов на социальные нужды. Оглядываясь назад, трудно себе представить более «удачный» рецепт в той ситуации – одновременное снижение частного и общественного спроса на товары, усиление дефляции, увеличение безработицы, обрекающие народ на страдания. Но вопреки всему расхожая мудрость продолжала придавать первостепенное значение сбалансированности бюджета. В начале 1930-х годов президент Гувер[14] называл сбалансированный федеральный бюджет «абсолютной необходимостью», «самым существенным фактором восстановления экономики», «неизбежным и безотлагательным шагом», «незаменимым», «первейшей необходимостью для страны» и «фундаментом всей общественной и частной финансовой стабильности»[15]. Профессиональные экономисты и эксперты соглашались с ним практически единодушно. Едва ли не каждый эксперт, к которому приходилось обращаться за консультациями в первые годы Великой депрессии, просто был вынужден придерживаться расхожей мудрости и давать советы, лишь усугублявшие ситуацию. И здесь между либералами и консерваторами наблюдалось согласие. Когда в 1932 году президентом стал Франклин Д. Рузвельт, поначалу он тоже был твердым приверженцем сокращения государственных расходов и сбалансированности бюджета. В речи[16], в которой он выражал согласие с выдвижением своей кандидатуры на президентский пост от Демократической партии, Рузвельт заявил: «Доходы так или иначе должны покрывать расходы. Любое правительство, как и любая семья, может, конечно, позволить себе израсходовать за год чуть больше, чем они заработали. Но продолжительное следование такой привычке, как известно, доводит до приюта для бедных». Одним из первых законодательных актов его администрации стал комплекс мер, предусматривавший пропорциональное урезание государственных выплат. Ну а достопочтенный Льюис У. Дуглас[17], всю жизнь служивший образцовым примером носителя расхожей мудрости, повел свой личный крестовый поход за сбалансированный бюджет и в конечном итоге рассорился на этой почве с администрацией Рузвельта.
Однако происходившие в то время изменения к тому моменту уже одержали триумфальную победу над расхожей мудростью. К началу второго года президентства Гувера бюджетный баланс нарушился необратимо. По итогам 1931/32 финансового года доходы бюджета не покрывали и половины расходов. На протяжении всей Великой депрессии годовой бюджет ни разу не сводился без дефицита. Но лишь после 1936 года необходимые положения и преимущества выбранного курса начали одерживать победы в сфере идей. Именно в том году Джон Мейнард Кейнс[18] начал по всем правилам вести наступление на монетаризм, опубликовав работу «Общая теория занятости, процента и денег». С тех пор расхожее убеждение в необходимости поддерживать сбалансированный бюджет при любых обстоятельствах и на всех уровнях экономической деятельности стало терять силу. Однако и самому Кейнсу, как мы вскоре увидим, тоже было суждено стать новым источником расхожей мудрости.
Дело дойдет до того, что к концу 1960-х очередной президент-республиканец объявит себя сторонником кейнсианства. А расхожей мудростью станет убеждение, что достаточно взять рецепты Кейнса и сделать прямо противоположное, чтобы обуздать инфляцию, но и эту веру вскоре начнут расшатывать события, происходящие в реальной жизни.
V
На последующих страницах книги нам еще не раз представится случай обратиться к расхожей мудрости, то есть к набору идей, отличительной особенностью которых является их приемлемость для социума, а также познакомиться с их выразителями. Не следует думать, что мы преследуем цель пробудить к расхожей мудрости неприязнь. (И это надо подчеркнуть особо, поскольку, как уже отмечалось, нам свойственно ценить новые идеи на словах, в то время как на деле мы им противимся. Или, иначе, хотя в глубине души мы и ценим свою приверженность устоявшимся идеям, но публично этого не признаем.) Совершенно бесполезных людей практически не бывает, и точно так же нам необходимы приверженцы расхожей мудрости. Всякое общество должно защищать себя от избыточного предложения сырых идей и поверхностных суждений. В сфере общественной мысли поток интеллектуальных новшеств столь велик, что относиться к каждой отдельной идее и теории всерьез было бы катастрофой. Людей кидало бы из стороны в сторону, от одной теории к другой; экономическая и политическая жизнь оказалась бы зыбкой и неуправляемой. В странах коммунистического блока идеологическая устойчивость и сплочение общества во имя общей цели достигаются за счет формальной приверженности всех членов социума официально провозглашенной доктрине. Любое отклонение от официального курса с негодованием объявляется «ошибочным». А в нашем обществе стабильность и единомыслие насаждаются куда более неформально – при помощи расхожей мудрости. Всякая новая идея нуждается в проверке на способность преодолевать инерцию и сопротивление в реальных условиях, при этом необходимые для этой проверки инерцию и сопротивление обеспечивает именно расхожая мудрость.




