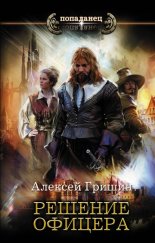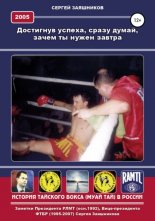БОМЖ. Сага жизни. Книга первая. Пыл(ь) веков Филатов Антон

Часть первая. Прошлый век
«Нравственная цель сочинения не в торжестве добродетели и не в наказании порока. Пусть художник заставит меня завидовать угнетенной добродетели и презирать торжествующий порок».
Владимир Одоевский
«Мир вечно разделён на два полюса: жизнь и смерть. В эти понятия, между этими полюсами в два коротких слова вмещалось всё».
В. Астафьев
Глава первая. Сага жизни Женьки Шкаратина
Легенда первая
«…Радиомузыка всё более тревожила жизнь: пассивные мужики кричали возгласы довольства, более передовые всесторонне развивали темы праздника, и даже обобществлённые лошади, услышав гул человеческого счастья, пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать».
Андрей Платонов. «Котлован»
По случаю всенародного Торжества природа ликовала. Город Провинск благоухал улыбками. Полуденное солнце нещадно палило опьянённые радостью праздника лица улыбчивых провинцев. Как хорошо-то, девочки! А мы не девочки! Всё равно хорошо! И, кажется, грядущая радость сегодняшнего дня – таинственная благовесть ожидаемого события! – может опрокинуть дюже скучную мировую историю, как старухино корыто. Все симптомы тому – на лицах! Вот-вот случится, наконец-то, веками вожделенное! – сбудется… И… глокая куздра… бодрячит… тьфу-ты… наметом в лирику понесло…
- – Ой, да не вечер, то не вечер.
- Мне малым-мало спалось.
- Мне малым-мало спалось,
- Ой, да во сне привиделось…
– из черной тарелки на фронтоне здания бывшего купеческого особняка бархатным баритоном грустил незнаемый казачок. Изливал душу, как кровь из раны, но сердца слушателей зажигал не пагубной тоской, а напротив – бесшабашным удальством. Душа-то – она хмель чует, только плесни задором на раскалённые камни, развороши тлеющие уголья, распали воображение…
А и небо, освещающее земные холмы и городьбу, казалось, подтанцовывало под музыку и людской гвалт. И будто бы тоже имело обнажённую душу.
Парочки, семейные стайки горожан гуртом валили на площадь Третьего Интернационала. Здесь, в старой части города, карусель толпы охватывал, по наезженной традиции, главный кураж Торжества. Всюду висели красные плакаты, вызывающие бодрость, радость и краткосрочную партийную преданность. Торговые столы благоухали мясом, пивом и крашеными кренделями. Самодеятельные артисты изо всех углов городской площади потешали номерами художественной самодеятельности. Народ угощался, глазел и веселился! Лишь немногие, идущие в правильном направлении, раздражались идущими супротив. Неуёмная радость большинства удручалась печалями единичных отщепенцев. Возможно, и в весёлом воздухе, и в изредка набегавших тучках таилась какая-то неосмысленная грусть, наводящая досадную тень на плетень. Подозреваем, что в наскучивших кабинетах устало хмурили лбы отцы города, вынужденные пережидать очередную плановую стихию Торжества, да некуда было им деваться. Не вливаться же в нестройные ряды торжествующих трудящихся, вызывая нездоровый ажиотаж любопытства и патриотизма!
Одни лишь милиционеры в белых кителях, привлеченные стражи порядка, очно наблюдающие Торжество со стороны, бодро зевали в ожидании своего часа. Красные плакаты, висящие за спинами, будто итальянские мулеты, дразнящие быков, и у них вызывали зуд беспричинной весёлости.
Нинулька, выспавшись до обеда, поспешила в народ, одна-одинёшенька. Эти «проститутки сокомнатные», Юлька с Оксаной, улизнули утром в свою деревню, к маманькам да хахалям. Не торчать же брошенкой в общаге в столь знаменательный день! В деревне происходили те же праздничные события, только на колхозном уровне. И девчонки, вооружённые памятью о прошлых удовольствиях, рвались домой, как скаженные. Нина же, сирота безродная, в деревню езживала только за пособием. Праздновать всевозможные Торжества чаще всего вливалась в стройные ряды провинцев – гордой одиночкой. В карманах голь перекатывается, а глазами карамельки лупать никто не запрещает. Поспешала в массы, надеялась на толику сластей, таращась на попутные буфеты.
На мосту за Ниной увязался Гришуня Тахтобин, чувак из «сельхоза». На «кульковских» танцах, куда пацаны-пэтэушники иногда проникали воскресными вечерами, долговязый Гринька приглашал на шейха. Руки его, самозабвенные танцем, неосторожно касались нинкиных прелестей. Ой-ёй! Нина теряла равновесие духа. А в заполночных проводинах, случалось, и – тела.
– Ты куда? – для поддержки разговора спросил парень. – Поди… на базар?
– А ты? – не растерялась Нина. – Может, на рыбалку?
И молча пошли рядом, составив ещё одну людскую стайку бойко спешащих на Торжество.
– А де другие чувихи? – модничая, спросил Гришуня, имея в виду, очевидно, Юльку с Оксаной.
– А я знаю? Пытает он… – не ласково обошлась девушка. – В деревни попёрли…
Возле церкви, под сенью тополиной аллеи, дурманящей ароматом прели и потоками солнечной духоты, Гришуня приобнял спутницу за плечи. Нина привычно сомлела, в комочек сжалась, но виду не подала, и руку решительно не отвела.
– Хочешь мороженое? – напрямик спросил парень строптивую диву. – В стаканчиках, или на разновес?
– Хочу, – также прямо ответила дива, слегка помедлив в речах. – ты, что ли, угостишь?
– А хуть бы и я.
И они – парочкой – молча устремились к мороженице, встали в длинную очередь. Гришуня тайком пялился на Нинульку. Ему, долговязому увальню, пялившему глаза с растерянной улыбкой в мордатой физиономии на миловидную спутницу, жеребчиком переминающемуся на стройных ногах, Нина «застила других чувих, а чем не знаю»… Этим недоумением откровенничал с пацанами. И шибко, видно, «застила», потому как всюду и в свободное время нежным барсом скрадывал Нинульку в последние месяцы.
- – Как на чёрный Терек,
- как на буйный Терек
- вывели казаки
- сорок тысяч лошадей…
– продолжал жаловаться бархатный баритон.
А город гудел бубном долгожданного всенародного Торжества, как разгорячённый духовой оркестр ораторией Баха! Барабанный гул, радостные людские вскрики и бравурные обрывки патриотических гимнов взметались ввысь! Красные флаги гордо трепетали на древках вкупе с полотнищами на здании Горсовета. Воздушные шары, наполненные углекислым газом людских выдохов, волочились по асфальту и громко – на потеху – лопались. И ярилось Торжество единым живым организмом, развязно требующим зрелищ и хлеба, хлеба и зрелищ, будто бы без этого разнузданного чревоугодия не трепетно реяли красные стяги и не бравурно гремели гимны.
Толпы шатающихся горожан, как ртутные лужицы, перетекали по площади, сливаясь в хохочущие группировки старых знакомых и друзей, сообща глазеющих на массовые зрелища. И вновь растекались в поисках невиданного и необычайного. Привлечённые гамом птицы, эпидемической вспышкой заражались людским азартом и возбуждённо обсуждали всеобщее сумасшествие. Точно пошло-поехало то, чему не было ни предчувствия, ни предпосылок. Но что-то апокалиптическое надвигалось на торжествующее сборище.
Самая большая группа горожан толпилась у стола, в толпе, разыгрывающей беспроигрышную лотерею. Иногда здесь кучно взрывались восторженным хохотом над счастливцем, выигравшем погремушку, безделушку, либо портрет партийного вождя в деревянной рамке.
– Пошли ко мне в общагу? – ласково пригласил Гришуня чувиху, аппетитно поедающую мороженое. Она аккуратно вылизывала серую стенку стаканчика и не спешила с ответом. – У нас никого нет. А на вахте Егорыч сидит, он с утра квасанул бражки…
– Не-е… – подумав, отказалась девушка. – Я беременная.
Гришуня стыдливо оглядел её аккуратненький животик, прикрытый пёстреньким сатиновым сарафанчиком, и, не обнаружив нужной приметы, недоверчиво улыбнулся.
– Ну и чо… беременная… А мне какая разница?
– Ты что, чувак, за дуру меня принимаешь? Сказано – беременная, значит, не могу я по общагам шариться.
– Да ладно… А ты чо – замужем? Или понтуешь?… Хошь – на ручки возьму?
– Не твоё дело. А хоть бы и замужем.
– Да ради бога!.. А де муж?
Нина аккуратно смяла стаканчик от мороженного, отбросила его к забору, и независимо побрела сквозь толпу. Гришуня неотступно следовал в фарватере.
– Нинель, а Нинель… Я сохну по тебе. Поехали в Ермаки, с родителями познакомлю?
– Ещё не хватало! Сказано – замужем…
– Понтуешь… Я всё про тебя знаю. Мне Оксана с Юлькой разболтали про хакасёнка твово… приблудного. Не веришь?
– Верю – не верю, тебе-то что? Замужем – не замужем… Я не от тебя беременная! Успокойся, Гриня… Что ты, как маленький…
– …принц, что ли?
– Ага, вроде того.
– Маленький Принц – козырный чувак. Он был в ответе за тех, кого случайно… приручил. Ты читала?
– Ещё чего? Какой принц? Гриня, ты с Егорычем – не того, случаем?… Не хватанул бражки? Смотри, загребут в капэзэ.
Обескураженный Гришуня молча следовал за горделивой подружкой. И уже не было уверенности в успехе, не веселило царившее вокруг Торжество, не имела смысла дальнейшая красота окружающего мира. А и чем впечатляться: в воздухе висело монотонное безобразие гула и гармонии, а по земле с обрывками газет волочило усталую праздность. Гришуня Тахтобин шёл поперечно.
– Нинель, а Нинель… а кто он, хахаль-то твой… узкоглазый? Ну, отец… то есть… ребёночка? Может, я… всё же?
– Сказала же!.. И не лезь в душу! Что ты липнешь? Иди в свой сельхоз, Мук… маленький! – и она заторопилась, уходя сквозь толпу от обескураженного парня. И смылась с глаз. Он посмотрел ей вслед, зачем-то пересчитал мелочь в кармане. «Хм-м… Сельхозом помыкнула… Не пойдет за механика замуж?» – удрученно поворочал мозгами обиженный парень. – «Ну, это ещё как пойдёт… Куда она денется, сирота безродная, с выродком-то… нагулянном. Моя будет! А хакасенка того глянуть бы разок. Одной левой прихлопну. – Гришуня ухмыльнулся, осклабился в своей широченной улыбке. – Возможно, скоро он сделается папой. Будет по-мужицки тютюхаться с сыночком, как это делал с ним его отец. А парнишка вырастет, возмужает, поступит в… сельхоз. Уж он-то, Григорий Тахтобин, не допустит, чтобы пацан рос неприкаянной безотцовщиной». – Гриня снова осклабился, повертел головой в поисках нинкиной русой косы, не нашел и космической пылью растворился в толпе.
Нина, тронутая Гринькой за живое и бередимое, с обнажённой тоской в сердце, не испытывала ни настоящей радости, ни прежнего удовольствия.
А Торжество не сбавляло обороты! Мужи, изрядно хватанувшие «бормотухи», продававшейся на розлив и потому называвшейся в народе «рассыпухой», куражились своими талантами. Кидали пластмассовые кольца на длинный нос фанерного Буратино. Качали между ног двухпудовую гирю, бегали в холщовых мешках. Победителей ждали признания жён и призы от спортсовета. Признания и призы были, как водится, символическими. Но лавры победителя – окрыляли.
– Люсьен, а Люсьен… – канючил очередной победитель, – Накати на стакашек, а?
– Я те накачу… Нос красный как у Буратины будет. Тебе дали соску, вот и соси. – и весело хохотала над удачным образом.
– Товарищ, победивший на подушках, подойдите ко второй палатке! – кричал хриплый рупор.
– …желающие на роль марионеток! – вырывалось из цветастого балагана.
– …бидоны… кадки… тазы для бани… – нудили торговые ряды.
– …кто по-бе-дил на по-душ-ках? – надрывался равнодушный хрип.
Нина бороздила толпу. На деревянных подмостках девчата из агитбригады исполняли популярную песенку. «Если тебе одиноко взгрустнётся…» – и попадали каждым прочувствованным словом в изнывающее сердце нашей слоняющейся героини. Процеживая рассеянным взглядом пёстрый калейдоскоп крикливого праздника, сквозь влагу глаз она бессознательно искала… его. То любимое, темноликое азиатское лицо, облик… С прошлых волшебных минут, случившихся в день осенних отжинок, единственно дорогой ей, обожаемый до помрачения образ… Может быть, в гущу толпы манили её туманные видения, секундный миг счастья, которые опрокинули бы напрочь этот безразличный и бессмысленный, куражливый мир. «…Если судьба от тебя отвернётся…».
Сердце разрывалось от таинственной силы, вызывающей то сладкую истому, то слезливый спазм, а вовсе не боль и не муку. Смахивая слёзы, Нина чему-то счастливо улыбалась. Вдруг это случится! Вот-вот произойдёт необъяснимое чудо и он, её… ангел… парень… любимый, драгоценный, такой близкий, желанный… Её фантастическая мечта! И всё-таки пусть… обязательно… тотчас!.. сбудется её радость! Иначе слёзы задушат её. Вот этот чубатый – не… не он… Тот плясун в шароварах… Похож средним ростом, и только… Кажется, у него был такой же солнечный загар… на шее… Густая шевелюра черных волос… Черные, как смоль, раскосые глазища… Не отыщется здесь и сейчас – мир этот окончательно рухнет… Да где же он?!
Посредине кружка городских бардов, притулившихся на углу площади, под тенистой сенью тополей и акаций, упоительные голоса опять и опять кричали о том, как «…шептали грузчики в порту…», а «…атланты держат небо…»… Внезапно из этого кружка на Нину выскочила бойкая жёлтоголовая блондинка.
– Нинель, как я рада! Никого из наших… Ты была на перетягивании каната? А я здесь с Минькой Носовым. Он башли зашибает на баяне… Слушай, айда с нами на… на… В общем, пойдёшь – не пожалеешь. Ой, какой сарафанчик! Где шляешься?
– С сельхозником Гриней бродила. Надоело всё. Ты наших не видела?
– Каких ваших? Сказилась, чувиха?… Все же в деревне… с хахалями милуются.
– Да знаю… А куда пойдём?
– В парк. Там танцы. – И Верочка Шиверских, как звали блондинку, беспечно поиграла бёдрами.
– Не. – Нина скисла. Она вдруг почувствовала непривычную усталость. Хотелось немедленно присесть, или прилечь. – Я до дому…
Внезапно перед девчонками появился Минька Носов. Прежней обаятельной персоной. Ежесекундно теряющей форс. Без баяна. Глаза его судорожно метались по лицам, точно во мгле запрещённые газовые фонари. Не заметив ничего подозрительного игнорируя вниманием живописный образ Нины, он молча схватил Верочку и поволок её в аллею.
– Ой, Минька… Нинель…
Нина пошла за ними. Минька Лом вынул из пазухи что-то лёгкое, жёлтое, перехваченное тесёмочкой.
– Спрячь! – и бесстыдно пытался совать свёрток под подол Верочки.
– Ты что! Чокнулся! – Верочка стыдливо оглянулась на Нину. Свёрток аккуратно свернула и положила в прорезь платья, под лифчик.
– …В парке… за ракушкой… счас давай, бля, отсюда. – он бормотал явно с перепуга. Так и не отметив Нину взглядом, скачками убежал.
– Что с ним?
– А я знаю?
– А что он тебе совал?
– Фарцовщик несчастный…
Девушки недоумённо глядели друг на друга, пытаясь оценить ситуацию. В ту же минуту рядом раздался знакомый визг свистка, и два человека в милицейской форме пробежали следом за Минькой. Девушки, не сговариваясь, почуяв недоброе, рысью поспешили обратно, в толпу. И это был их роковой шаг. Стоявший позади милицейского оцепления капитан, выцепил взглядом, окликнул их и жестом пригласил к себе.
Неожиданно Верочка попятилась и попыталась-таки бежать в толпу. Но сержант из оцепления в два прыжка догнал её и заломил руки. Нину тоже взяли под локти и не ласково повели к печально-знаменитому в городе автомобилю – ГАЗу из КПЗ. Хоп! – и студентки мигом оказались в одной компании с разогретыми «бормотухой» будущими клиентами вытрезвителя. Их приняли весело и сочувственно: а как же иначе?
– А вас-то за что, девки? Вроде не выпимши…
– Небось, за анекдоты про Хруську?!
– …За песенки про Кубу! «Буба – любовь моя!..»
– Да ясно: шлюшки они! – Лечащий смех, сочувствие и сарказм как нельзя тесно уживаются в одной компании.
А предвечернее остывающее солнце щурилось сквозь купола Спасского собора. И провинские горожане, утомлённые Торжеством и весенней солнечной радиацией, растекались по улицам и переулкам. Домой… домой, к вечернему столу и мягкому креслу. От временно не случившегося крушения мировой истории – к казённым новостям из хриплого репродуктора. К соблазнительной супружеской постели. Ко сну.
Время и нам отбросить ненавистное перо, брезгливо прошествовать по черновикам к кухонному окну. Здесь, за плюшевой занавеской, в стекольной бутылочке нас ожидает ополовиненная праздничная норма. Праздник – он и в Африке смакует ром! Хотите… на брудершафт?…
Легенда вторая
«Мы плачем, приходя на свет, а всё дальнейшее подтверждает, что плакали мы не напрасно».
Ф. Саган
Жизнь человеку даётся один раз, и в основном случайно…
Неизвестный умник
Шкалик родился пьяным…
Ой-ёй, мой трезвый, благоразумный читатель! Не фырчите! Не швыряйте нашу эпатажную книжку в вашем благородном раздражении. Если позволите себе терпёж на обоюдное общение, возможно, разойдёмся с лучшими чувствами друг к другу. Замиримся. Вы поместите одиозную книгу на пианино, между Моцартом и Сальери, заткнёте ею отдушину в давно не отапливаемой комнате, либо, преодолев минутный псих, прочтёте и эти строки… Мы же, паче чаяния, продолжим повествование.
…Писать – не ногой болтать. Норовистое перо аллюр перемежает галопом, точно в скачке по кривым улочкам. Там и сям выписывает кренделя сюжетных поворотов, раскрашивая их хлесткой метафорой и слащавой патокой вымысла. И тут же, обопнувшись, берёт в карьер, не в силах остановиться на ярком образе, и тут же трусит рысцой повествовательной писанины… Эх-хе-хе, труды наши бренные…
Женька Шкаратин действительно, точно джин, пробкой из бутыли, родился пьяным. Правда тошнее водки… Виновница треклятая! Водка, разумеется. А и правда недалеко ушла: на вину не пригонишь.
Надо ли, хватаясь за перо в борзописном порыве, зачинать горькое повествование так цинично и откровенно, точно срывая зло на слабом и беззащитном герое? Ан случилось! Узнаю страшную сивушную силу: рассосалась, расслабила и вылезла, как шило из мешка: «…родился пьяным…». В первую же строку, падла! А, впрочем, не всё ли равно где и как зачинать вопиющую тему? В честной компании перепившихся поэтов, в блевонтинном ли кабаке с отклеившимся названием «…ик»? В сибирском «Болдино», на полатях полусгнившего домика, помнящего вдохновенные лики нещастненьких ссыльных декабристов… Каждый зачинает, где может и как: анекдотом, легендой…
Мы – утверждением «Родился пьяным». Но всё разжуем по порядку.
Мама Нина – Женькина родительница – миниатюрная курносая толстушка шестнадцати лет от роду, милое существо. Наивная – как два по третьему – и открытая сердцем щебетливая птичка. Носила роскошную русую косу до пояса, а в остальном – незамужняя и недоучившаяся студентка провинского культпросветучилища, ещё год назад ничего не знающая о таинствах любви и причинах беременности. Звезды ли мерцали сиреневыми угольками, разукрашивая тусклые миры новогодними игрушками, зайчики ли солнечных лучей шебутно путались под ногами и руками, а только Нинульке были они, как катышки рябины, безвкусны и бесполезны.
Тем благодатным летом, когда всё это и стряслось, полнокровно жила-была в самом центре захолустного сообщества. Ухажорила с сельскими пацанами, чистила глызы из-под коровы, убирала по субботам горницу. Канителилась, как подавляющая часть человечества. Пока не постигло горе: родители её угорели в бане, куда моложавой парой ходили дважды в неделю, справляя на независимой территории свои интимные надобности, а заодно – помыться. И происходило это не в крыму-дыму хмельного угара на священную Пасху да Пресвятую Троицу, а в ушедшем веке среди обыкновенных будней провинциального захолустья. Угорели бесстыдно-нелепо, ославив себя и своих близких в осудительной молве на недолгие сорок дней. Бабушка, на руках которой осталась неприкаянная малютка, протянула недолго и прибралась аккурат в тот день, когда внучке исполнилось шестнадцать. Похоронили миром и эту. Большим или малым, божеским промыслом, или людским сердобольем… Суетно, скопидомски, с судом или пересудом. Сладили всё в одночасье. А про Нину в хлопотах ненароком забыли. А крошка-подросток, душа неприкаянная, в кромешном одиночестве выживала – на госпособие, да на податки сердобольных соседей. Скоро привыкла. Смирилась. Поступила учиться на завклубшу. Кантовалась между городом и деревней от осенних занятий до летних каникул. И не было никаких признаков на судьбоносные перемены в её жизни, в селе, или даже в целом мире. Почти никаких… Или хреновыми были наблюдатели за такими переменами! А если и были необыкновенные обстоятельства, грозящим пальцем предупреждающие череду немыслимых коловращений её судьбы, то едва ли кто замечал и придавал им апокалиптическое значение. Ибо задним умом богато человечество.
…Приближались осенние праздники – отжинки. Очередное общественное Торжество…
– Нинуль! Айда с нами на опушку? Там качули поставили…
– Дядь Ваня на голяшке шпарит… аж дух захватыват!
- Ты, Подгорна, ты Подгорна, озорная улица…!
- – …по тебе петух не скачет, токо мокра курица!
И-и-х!
– А пацаны наши по четвертаку скинулись…
– И городские шефы, шофера-то, приехали… Форс-систые!
– Так ты идёшь, Нин?…
– Счас… Туфли дёгтем смажу…
Первая сопричастность к компании… Чувство интимного локтя… Летка-йенька и бесстыдное танго… Поцелуйчики в озорной игре с вращением бутылочки. Фантики… Да что мы водим вас за нос изнанкой винной пробки! Не пора ли распочать?…
Нина «залетела»… Забеременела на урожайной неделе с первой же страстной встречи. Тьфу ты!.. Гнусный язык… заскорузлое слово… Кургузая метафора!.. А стиль… Если бы знали и умели, повествованию не пришлось бы растекаться водянистыми строчками по блёклым страничкам. Не плодили бы прорвы подробностей в витиеватой канве повествования. Не смущали читателя замысловатой чередой пикантных эпитетов и глаголов… Но поздно. Первый ком брошен, как книжный булыжник писателя – живчик зачатия. И да будь что будет…
Забеременела и точка.
Космические волны Вселенной накатывали в земную орбиту звездопады, фантастические сияния, расцвечивали этюды голубых небес. Вода в Тубе протекала вдаль, воздух прохладного неба студил лицо, тесовые и шиферные крыши домов вращались вокруг неё в незримом хороводе. А узкие проулки, которыми Нина предпочитала возвращаться с прогулок, сопровождали заплотами да тынами, словно эскортами почетного караула. Дом встречал калиткой настежь: беспрестанной радостью.
Нина вынашивала плод скрытно и обыденно, точно капусту выращивала в огороде. Не делилась тайной ни с кем. Да и не с кем было. Кроме сельской подруженьки Ленки… Да и с той не получалось откровенничать до мелочей. Хохотали обе до икотки, каждая о своем. А справившись с истерикой, разбредались по углам, затихали на ночь, поутру разъезжались на учёбу на две-три недели.
У родильной же постели несмышлёной роженицы, в ночь появления в бренный мир захолустного Провинска избранного нами героя, не было ни души. Одиночество, как наказание божье, растворилось в крови. «Чижолая» на живот Нина до последа не верила в своё возможное предназначение. О-да! Она приблизительно знала о таинствах появления на божий свет новорождённых младенцев, о жертвенной роли женщины-родильницы. Но чтобы такое случилось с нею?… Обретённый житейский опыт подсказывал всю трагичность положения и грядущие обстоятельства развязки. Младенец! Безотцовщина… И главная неотвратимость – роды. Все последующие пелёнки-соплёнки… Укорительные подачки и казенная помощь… И только одно чувство – необъяснимая тайная радость, изредка внезапно переполняющая члены, от сердца до селезёнки – на счастливый миг возносила юную женщину в космос блаженства и торжествующего ликования. Всепобеждающая сладость материнства!.. Ей не было меры.
Вернувшись с городских Торжеств, Нина всплакнула в одиночестве, обречённо думая о распустившемся на коленке чулке. Горько задумалась. Кровать с вензелями, швабра в углу… Жутчайшая распря с комендантшей, двойки по всем профилирующим предметам. Девятимесячная беременность!.. Боже, да когда это кончится? И кончится ли?……Едва не загребли в КПЗ… до выяснения. То есть до стылого утра на вонючих нарах. Лейтенантша, обыскивающая её в предвариловке, обнаружила неожиданно для себя не рахитичность в шестнадцатилетнем подростке, а самую обыкновенную беременность юной особы. Беспардонно тут же доложила капитану… Закурила, пыхая дымом в форточку зарешеченного окна. Обозревая пустынную улицу, косым глазом наблюдала испуганную арестантку, скрещенные её ноги-руки, утопленный в пол взгляд: «Золушка с бала». Капитан не преминул зафиксировать всевозможные сведения о клиентке в сорокаминутном протоколе… С сожалением отпустил восвояси… К ужасу Нины, не отпустил туда же Верочку. В свёрточке, извлечённом лейтенантшей из интимного тайничка, оказалась жёлтая «водолазка», происхождением, со слов дознавателя, «маде ин не наша». Написал протокол изъятия. Пугал заведением какого-то «криминального дела». Требовал выдать подельников. Миньку Верочка не выдала. Теперь посадят… дурочку?…
– «Форцовщик несчастный»… – припомнила Нина Верочкино ругательство. – Ждет, поди, в парке, за ракушкой? А надо в КПЗ кондылять.
Слёзы заливали стекло на столе. Преодолев тихую истерику, Нина стала собирать вещи в сумку, с намерением уехать завтра в деревню, на совет к Ленке. Будь – что будет! Пусть уж роды пройдут вдали от «кулька», авось, никто не прознает. А то затаскают на педсоветы. Задергают вопросами: кто да что, да откуда ножки… Вот тут-то это и началось. Внезапная спазматическая боль, тошнотворная слабость и темнота. И тоннель – полёт в бесконечное ничто… Нина моментально всё поняла. Чуть отдышавшись от приступа, смоталась до 207-й, где у Лизы Баховой… всегда было. Разбудила Лизку, наврала в три короба и, трахнув её по балде книгой – для понятливости, – взяла-таки «огнетушитель».
О, это было сногсшибательно!..
За стеной ревел тополёвый бурелом «черного хакаса», стучащий в стекла окон, как пьяный мужик – крушил деревья и стонал от бессмысленной ярости. В стенах – кромешная тишина послепраздничной ночи.
Повеселев с первого же стакана, Нина моталась по коридору, выискивая в комнатах очевидцев, а то и просто людей, знающих «что и как». Общага была полупустой, полупьяной и – мёртвенно безразличной. Торжество лучистого дня закончилось ураганом чувств, соблюдая традицию перемен, – пустотой бесприютной… Ох-хо-хо… Скучно-то как, деточки… Слышно было, как в красном уголке шелестел обрывок плёнки не выключенного магнитофона, и лаялась комендантша внизу, на первом этаже, противостоя проникновению подвыпивших кавалеров. Кто-то неуверенно… вдоль стены… возвращался в комнату из туалета…
– Вызовите скорую! Рожаю! А-а-а! – обречённо завопила Нина, едва превозмогая боль, и отключилась, и затихла до часа, о котором мы выше упоминали. Извините, если что не так получилось. Свидетелей не было, за исключением медиков из родильного отделения, оправданно опоздавших по причине «сгоревшего» стартера, или «полетевшего» трамблёра, чёрт бы их там побрал. И благополучно завершилось всё следующим утром, каким бы трагичным или счастливым оно ни было…
Ну, слава те, господи!.. Всё обошлось. И почин, и благополучное завершение! Ибо это и был самый пикантный пункт повествования, для которого не только слов не было, но и шкалика не хватило.
Ветер стих. Сквозняки из форточек растворились в предутреннем сумраке. Звездопады и этюды небес дьявольской феерией вознеслись во Вселенную. Незримо, подсохшими слизями по комнате бродили привидения добра и зла. Как всегда. Во веки веков по неписанным правилам. Разве не так?
…Наш случай явился легендарным фактом. Мама Нина, книгообразующая героиня наша, отойдя от послеродовой горячки, доверительно проболталась об интимных опытах единственной подружке. Ленка рассвистелась по всей Европе. Сельской, разумеется. И нам, приступая к хроникальному изложению художественных фактов, ничего не осталось, как с их слов обнародовать прискорбную правду. Какую имеем. Во всех подробностях. Дабы не утратить доверия и внимания твоих, терпеливый, преданный читатель.
Одно но… Но базисное для повествовательной фабулы. Краеугольное.
Не случилось у Женьки отца – в прямом смысле слова. А в противном – переносном – не повезло пацану. Родное существо с именем «папа», явленное подсознанием младенца, укоренившееся в душе его, изученное до слёз в воспитательном процессе, сосуществующее рядом, вокруг и около – познать и ощутить не довелось. Приходящие папы – все, как один! – Вадим с лодочной станции, любитель пивка и загородных заплывов; папаши Гриня, Юрок и Витёк, небрежно воспитывавшие Женьку на втором, третьем и пятом году жизни; и главный папан – Борис Шкаратин, усыновивший и давший фамилию отчим, не состоялись в высоком предназначении. Так и не признал ни в одном из них Женька родителя. Папа Вадим не праздновал сына. Бесцеремонно вошёл в женькину жизнь, перетащив с лодочной станции жёлтый чемодан с «приданным», потеснив младенца с его мамой в закутках дома, но самого Женьку так и не различил среди суеты повседневного житья. Ну, шлёпнет по заднице сына, вертящегося под ногами, небрежным движением. Ну, хмыкнет в ответ на просьбу завязать шнурок. Оказывает внимание?… Папа Гриша, напротив, не давал жить своей активностью: не говорил, а покрикивал, не просил, а требовал, не слушал, а сам отвечал на собственные вопросы, придавая им значение приговоров. Ужас, с которым Женька переживал присутствие этого папы, длился до первой затрещины, которую Гришка беспричинно закатил «сынку» и которую захватила мама Нина.
С другими папами повезло больше. Они, в меру собственной состоятельности, пытались соответствовать понятию «отец», поучая и делая подарки, признавая семейные узы и даже гордясь обращением «папа».
Иметь любимого и любящего папу Женьке не посчастливилось.
Но маниакальные поиски истинного отца, юридическое установление отцовства, неожиданно для нас обрело на страницах повествования черты подвижничества, породило заветную, навязчивую, фанатическую мечту главного героя. Уродившаяся фабула ожила и расправила крылья. А Нина и Женька, родившиеся в свои времена в своих местах, не отмеченные знаковым событием судеб, нелепой родинкой на приметном месте, могли в момент художественного творения автора чихнуть, кашлянуть, или иным признаком отпугнуть призрак произведения и одномоментно загубить замысел. Когда бы в зачине испытали ужас ожидавшей их судьбы. Не чихнули, не кашлянули… И строка, которую пробегает ваш глаз, твёрдое тому подтверждение. Герой наш явился в свет.
Ах ты, Шкалик Шкаратин! Шка-лик-шка-ра-тин… Правда, интересное наблюдение? В молодости Женька получил по своим заслугам это удачное – в стилистическом тропе – прозвание Шкалик. И отзывается на неё по сей час. Продумав эту деталь, находим, что надо следовать за устойчивой логикой жизни и тоже перейти в контексте повествования от незаконнорождённой фамилии Шкаратин к породнённому прозванию Шкалик.
Огорчимся: Шкалик родился пьяным.
Пошлёпав его по ягодицам и не дождавшись младенческого крика, гинекологические спецы из родильного отделения ЦРБ, положили теплое тельце обратно в, извините, медицинский таз и призадумались: «Везти роженицу в реанимационную палату роддома? Чревато стопроцентной гарантией стафилококкового сепсиса, прочно осадившего роддом в разгар победы развитого социализма. Оставить здесь, в первобытно родильных пенатах кульковского общежития – чревато служебным преступлением. Чёрт бы драл этих молодых безродных проституток! Чёрт бы побрал социалистическое отечество!.. Ни презервативов, ни условий благополучно родить, ни зарплаты… Ни чёрта!»…
Пока размышляли и чертыхались, Шкалик затрепыхался в медтазу и впервые издал свой негодующий вопль с писком: «Мам-ма!». Ах, Женька, друг лапчатый, безотцовщина горемычный, он будет впоследствии гордиться биографическим нюансом: первый раз выручил всю честную компанию. Всё решилось как нельзя хорошо! В тютельку! В золотую сердцевинку конфликта… Служебное преступление в нашем криминогенном повествовании не совершилось, само собой.
Нина внезапно перешла из статуса «девушка» в состояние «женщина с ребёнком», в односуточье стала мамой Ниной, героиней с незаконченной сюжетной биографией. У неё, и у новорождённого сына впереди была целая жизнь, полная таинственных превращений и удивительных метаморфоз.
Вам любопытно?… Вам хочется песен… как говорят одесситы… Их есть у меня!
Любезные почитатели повествования! Как автор, преступивший тему, полную уродливых искажений действительности, абсурдов отвратительной реальности, со всеми её дырами, похмельными скандалами, ломкой, белой и даже родильной горячкой, глубоко понимаю ваши сомнения в отношении повествовательно-исповедальной линии. Понимаю, сочувствую вам, но не могу поступиться святой для меня, как для каждого честного автора, правдой вымысла.
В доверительной обстановке кстати вспомнить о Вирусе. О-о-о, это фантастическое Существо! Э, не Существо, а реальное аномальное явление. Да вы пейте, закусывайте, не торопитесь. Вас посещают видения? Мерещится всякая всячина? Может быть, чудится что-то необъяснимое? Это Вирус. Он давно открыт учёными, но не пойман и не опознан, как легендарный Снежный человек. Вы мне верите? Ныне, в доверительной компании, где милые незнакомые женщины приятно пахнут шотландским виски и божественными роллами, и уже никто не помнит пойло сомнительного происхождения, отдававшее резиной и окрещённое в знающих кругах «калошей», – не пристало нести несусветную околесицу. В те застойные времена, вкушая легендарную «пшеничную», зажёвывая её вонючий запах хвостом ржавой атлантической селёдки, мог ли я позволить себе трезво врать собутыльнику по… застольному периоду? Пусть отсохнет наливающая рука! Не толкайте под… неё. Вирус существует! Точнее, является нашему воображению по строго определённым правилам. Но как его объяснить?… Ученый человек приспособился усмирять его толику химическими прививками. Но не приведи господи приручить его, точно стаю борзых…
Если вы до… живались до белой горячки, вам, очевидно, не надо толковать о зелёных чёртиках и белых боженьках, сосуществующих с нами в параллельных мирах. Гвозди, изгибающиеся живьём, как черви, и тыквы, накатывающиеся на нас по ночам… Человекоподобные прихвостни, портящие нашу голубую кровь!.. Всё – Вирус. Вы понимаете? За это стоит плеснуть…
Глава вторая. Сага о неких Цывкиных
«Добро пожаловаться…»
Неизвестный умник
Баир и Марта столкнулись взглядами.
– Тпр-р-р, Гнедко! Не балуй… – парень осадил всхрапнувшего жеребчика. Змеёй соскользнул из седла. Протянул Марте узду. Девица растерянно попятилась, и… улыбнулась.
Млечное марево над великой рекой притемнило теплое солнце, насыщая воздух прелями прибрежных камышей. Лучи же его, пробиваясь сквозь туман и придорожную пыль, торчали богатырскими копьями в окоёмах степей. Меж ними гомонился проезжий и прохожий люд, скрипели арбы и телеги, груженные скарбом, ярмарочным барахлом. Сновали собаки.
Баир глазел на Марту.
Они встретились в первый день осенней ярмарки на берегу Волги, куда съехались десятки подвод с товарами. Она не могла отвести глаз от его смуглого лица, раскосого взгляда, наделённого спокойной, хладнокровной силы и… внезапного интереса к ней, Марте, излишне пышнотелой, до сих пор не знавшей силы мужского внимания. Смутилась до потери чувств, краска стыда залила отбелённое лицо. Но к её собственному изумлению, молча улыбалась юноше. Его сердце, знававшее кокетливое внимание сверстниц, на секунду оборвалось. Девичья испуганная улыбка, но полудерзкий взгляд, тело, налитое сокровенной силой, распирающее сарафан – лёгким шоком всколыхнули воображение парня. Он пошёл за нею вслед, забыв обо всём. На её оглядки отвечал молчаливым вниманием и призывом. Забыл о хозяйских лошадях и самом хозяине, всё более вторгаясь в мир Марты и открывая ей свой.
Оба оказались в избранный час в рядах коннозаводчиков, каждый – по своей нужде. Но провидению было угодно свести их – глаза в глаза. Её отец выбирал добрую кобылку на развод… Марту держал при себе по коммерческим соображениям. Баиров хозяин торговал завидными экземплярами башкирских лошадок. Без Баира не справлялся и оказывал парню доверие, граничившее с отцовским чувством. У них и сторговал отец Марты вожделенного коня, высматривая – по крестьянскому норову – и другие варианты.
Отныне в ярмарочные часы они – дородная немочка и мужественный калмычонок – часто пересекались, застаивались подолгу, не пытаясь скрывать свои чувства. Её стыдливость и его неодолимая притягательность объединяли их в странную парочку, трогательную и нелепую одновременно. Она бродила по рядам, высматривала безделушки, не в силах что-либо выбрать. Он внезапно возникал перед нею, как тень, неотделимая от неё, и также внезапно исчезал, вызывая её тревогу и растерянность.
Всю осень он наезжал в берёзовую рощу, отделяющую дом от сенокосных угодий и табачной плантации. Она выходила сюда по сигналу плачущей иволги, и неохотно возвращалась к своим обязанностям, подчиняясь гневно-недоуменным кликам отца. Баир не спрашивал Марту о её семейном, родовом, забавлял байками о лошадях или собаках. Вязал и распутывал тесёмочки её сарафана, ласкал руки, источал нежность, как умел. Она не спрашивала его о житейском, не выведывала истории, которой у него и не было. С каждым днём их обоюдный мир наполнялся несокрушимой силой.
– Будешь сватать? Тятю не забоишься?… – настойчиво допытывалась она, не в силах сопротивляться его порывам.
– Украду. Ты мой кобылка… Научу скачке, тата не догонит… – дерзил ей, распаляя чувства.
…Всё оборвалось разом – не по их воле. Её отец, крепкий поволжский крестьянин, зарабатывающий кожевенным, шорным ремеслом, и приторговывающий табачком, был приговорён новой сельской властью, комитетом бедноты, к поражению в правах и насильственной высылке – всем семейным узлом. Записали кулаком, попомнив ему свои батрачества на него. Устно изгалялись и на людях порочили. В ночь перед днём высылки он бежал из дома в Мещёрские болота, снарядив купленную башкирку нужными пожитками. Жене, детям оставил нехитрый наказ:
– Перебейтесь пока… перебесятся. А там и возвернусь.
Однако его сметливый крестьянский ум не учёл гонор новой власти. Комбед не оставил обезглавленную семью в покое. Их дворовое имущество описали и свезли в общественный амбар. Мать, не смирившуюся с произволом и грубым помыканьем, усмиряли плетью и батогами, довели до помешательства, увезли в уездный город. Марту со старшим братом Иваном, жившим своей семьёй, согнали в то же утро на площадь, в толпу лишенцев, посадили на подводы и увезли до станции. Здесь толпы кулаков и домочадцев, разновозрастных, обоего пола, загнали в щелястую теплушку и засургучили. Остаток дня узники прожили в страшном ожидании. Ввечеру их внезапно выпустили и велели идти по домам. Но через пару дней пришли другие уполномоченные и прочли новое постановление: тотчас собраться и явиться на станцию для пересылки в место нового поселения – Сибирь.
Ночь перед высылкой они провели втроём: Марта с братом и Баир, тайком покинувший своего хозяина. Он всю ночь уговаривал брата и сестру, полный решимости не оставлять возлюбленную в её новом положении – на сносях, с плодом их внезапной, глубокой страсти. Обесцветил перекисью волосы, тщательно выбрил усы… Но чёрные зрачки глаз выдавали его происхождение.
Там, на станции, в толпе обреченных, в гулкой сутолоке горьких рваных минут, царил произвол. Баир заявился на сборный пункт вместе с Мартой, едва справлявшейся с лихорадкой. Записался в её семейный род под именем брата Ивана, уговорив-таки растерянного парня с семьёй бежать, отправиться вслед за отцом, в Мещёру. Всё прошло хорошо. Никто не присматривался ни к его личности, ни к документам. Суматоха, сумятица и головотяпство, царившие в стане ссыльнопоселенцев, позволил им обмануть чекистов, и отбыть по назначению этапа. Так начинался путь в неведомые дали, суровые края и на долгие времена.
Марта родила Баира, не доносив пару недель: сказались пережитые тяготы. Не её воля – пуститься на сносях в неведомую дорогу. Марта скрывала свою первую беременность, неожиданную и неуместную в столь суровое время. Незаконнорожденность будущего ребёнка пугала её более, нежели страх перед неизведанностью ссылки. Её любимый, нежный и мужественный калмык, сунувший в руки узду, научивший Марту верховой езде, покорившей сердце страстью и властностью, горел решимостью сопровождать любимую девушку в пути, устроив эту возможность любым способом. Присутствие «брата», его нежное внимание и поддержка оберегали беременную «девицу» от грубостей и бесцеремонности конвойной команды.
…Марта утратила связность происходящего после болей первых схваток. Сказалась тряскость тележных отрезков пути, когда она уже не могла передвигаться пешком и влезала на тележную грядку – среди скарба и тел других ослабших путников.
…Баир-младший родился в степи, под кустиком, вблизи проезжего тракта, в местности непримечательной и пустынной. Его принял на руки отец, смуглый муж с калмыцким обветренным лицом, резковатый в движениях. Принял так же ласково и умело, как много раз проделывал это в табуне с жеребятами кобылиц. Потомственный табунщик, он туго знал это сакраментальное дело, и споро-сноровисто принял наследника. Обиходил и мать, и дитя. На минуту приложил тельце новорождённого к обессиленной роженице. Её испуг, стыд и беспомощность во время недолгих родов он успокоил властностью жеста и гортанного междометия. Вскоре роженица притихла и задремала. Младенец, высвобожденный из утробных пут, вживался в новый мир, испытывая перед ним первый священный трепет. А отец, проявляя суровую нежность, спеленал младенца в заранее приготовленные холстины и сукно, устроил в скудноватой тени кустов. Подбросил в огонь сырые сучки и принялся свежевать суслика, пойманного в петлю поутру.
Днём он накормил женщину размоченными сухарями и запечённым в глине сусликом, выдав его за мясо жаворонка. Остатки повесил подсушиться на солнце. Сам обегал притрактовую зону в поисках съедобных дикоросов. Собрал щавель, полевой лук, лепестки шиповника, мочковатые корни аира из болотистой низинки. Но главной его удачей была дикая пчелиная семья, поселившаяся в брошенной автомобильной покрышке. Дождавшись густой ночи, обмотавшись подручным тряпьём с головы до бедер, он стремглав уволок её и утопил в тине глубокой канавы. Возвращался сюда поутру и днём. С роем было покончено, а мёд в сотах извлечён и пригоден в пищу.
Ночью согревал тела жены и сына своим теплом, и поддерживал огонь костра. Рано утром уходил на тракт, с надеждой высмотреть степную птицу, выбирающую в дорожной пыли камешки для желудка.
Тракт несколько дней был пустынен. Но мужчина часто поглядывал на запад, ожидал подход очередного этапа колонны ссыльных переселенцев, в которую он надеялся влиться увеличившейся семьёй. Слово армейскому капитану с обещанием догнать эпатируемую партию, побуждало его торопиться.
Позади был длинный водный путь на барже по Волге и Тоболу, на грузовиках, подводах по скорбному расейскому тракту – «кандальному пути». Впереди – не менее долгие прогоны в повозках лошадиного обоза и пешедралом. А в конце – неизвестность, имя которому страшное: Сибирь.
Немало унижения стоило Баиру уговорить капитана оставить их для родов в степи, под кустом, ввиду малолюдного тракта. И с обещанием догнать этап до посадки на баржу в русле Оби-реки.
Так родился младенец. Один из главных героев нашего криминогенного повествования.
Баир выполнил обещание, данное капитану – настиг этап на подходе к Оби, устроив Марту с сыном в кузове попутной полуторки, следовавшей по тракту с миссией сбора продуктов питания для этапируемых ссыльных. Сам же весь путь следовал позади полуторки, ввиду её, сопровождая быстрым или замедленным бегом.
К счастью отца и матери, новорождённый чувствовал себя хорошо. Переносил тряску и укачивание легко. Как и велось в роду его извечно кочевавших предков-калмыков.
– Как звать выродка? – нелюбезно осведомился капитан, заполняющий регистрационно-статистический формуляр.
– Баир… – растерянно ответила Марта, от неожиданности не придумавшая другого калмыкского имени, и не желающая обидеть счастливого отца. Так безмятежный молокосос и был записан в реестр – Баиром Фридрихом.
Марта не перенесла передряг пути и бесчеловечных мук внутри ссыльного обоза. Истощились силы физические. Полуголод и холод, непрерывные напряжения последних дней подорвали отменное здоровье дородной немочки, свели на нет и её душевную веру. Изо дня в день, из месяца в месяц она хирела и чахла на глазах старшего Баира, несмотря на его – почти шаманские – заговоры и психическую терапию. «Ты будешь жить… У тебя сын… Ты не оставишь нас…». Злобность окружающих её людишек, замешанная на скрытом презрении и нетерпимости, подобно колдовскому снадобью проливали на неё свой горький яд. Вырванная из благословенной среды в этапный караван, истоптанная, истерзанная, она так и не прижилась на новой – сибирской – почве.
– Обещай мне… Береги… Вернитесь к моим… – иногда она теряла хладнокровие и заходилась мольбами.
– Так не думай. Вместе будем. Мы… твоя… ваши.
Баир старший и Баир младший, освоившись в стане ссыльнопоселенцев, и тут проявили крепкие качества предков – терпение и поразительную уживчивость с кержацким населением. И то и другое позволяло им гнездится даже там, где, казалось, не приживётся даже кол осиновый.
К году Баир-младший уже крепко стоял на ногах, опробовал седло. Бойко что-то лопотал на языке неизвестного этноса.
Когда Марта догорела и умерла, Баир-старший похоронил её по католическому обычаю, справив все полагающиеся ритуалы. В течение года поминал её прах по сибирским традициям, дабы не вызывать излишнее недоумение соседей. В удобный момент переписал сына на свою фамилию, задобрив секретаря сельсовета мясом забитой косули. Вкравшись в доверие секретаря сельсовета, выкрал и уничтожил регистрационные справки на себя и сына. Младший Баир навсегда утратил сведения о корнях своего древа. Старшему Баиру этого было мало. Однажды, к изумлению местных жителей, принимавших участие в его судьбе, и к негодованию сельской власти, ведущей надсмотр за ссыльнопоселенцами, он исчез вместе с малолеткой без звука и обозрения. Как бог прибрал.
…Отыскались следы кочевых горемык в цыганском таборе. Оба Цывкины, малый и старший, напитанные, как степные лошади, земным и небесным, не сливались с цыганским миром. Ветры прежних гонений и дребедень кочевой жизни не избавили их тела и души от накопленного напряжения. Оба же, точно связанные материнской пуповиной, один в другом чуяли милосердие жизни и любви. И этого было достаточно для их самозабвения.
Младший Баир, молчаливый и настырный карапуз, раскосый, с черным вьющимся чубом, накрытый выцветшей суконной будёновкой, вездесуще сопровождал старшего. Только жёсткая необходимость, связанная со смертельным риском, могла быть причиной временного расторжения отца и сына. В такие дни и часы младший ходил по двору, передвигал поилки и корыта, ковырял пяткой коровьи глызы, не вкладывая в эти занятия ни чувство, ни смысл – одно лишь стоическое терпение. Небо над его обиталищем приземлялось, окрестные холмы и амбары угрожающе кренились, а почва под ногами обращалась в зыбкий песок. Но вот отец возвращался. Молча и долго смотрел в глаза. Привезённый подарок – «зайчик послал» – выглядел жалко. Но позволял примириться до следующей разлуки. Остальные дни и часы они, образ и подобие, дополняющие и даже завершающие друг друга до полноты совершенства, держались в сутолоке дней вместе и особняком. Иногда кровный инстинкт подвигал младшего к проявлению сильных лидерских качеств, и он легко и односложно заводил короткие знакомства среди цыганских пацанов. И тут же подчинял их своему мужественному обаянию. И так же легко отторгал – неукротимой независимостью. Он умел бездумно и щедро разделить ароматную краюху, благосклонно принять в дар благие проявления души и сердца таборных сожителей.
Они не откочевали с цыганами, но задержались в подтаёжной деревушке. На лето устроились пасти деревенский скот. И вчетвером – отец, сын, кобыла и сучка, подаренная цыганами и названная сыном Пальмой – зажили, по заветам предков, обособленно и независимо. Младший почти не слезал с лошади и уже вжился в седло, как самозабвенная вошь. Пальма довольно быстро сообразила за что получает свою долю от хозяйских сборов и строго соблюдала негласную договорённость пастушьей команды. Старший Баир подрабатывал: чинил колхозную сбрую за дюжину трудодней, выторгованных у председателя.
Утренний недосып, ветры, дожди, или палящий зной степной котловины, как элементы наиболее ласковых мытарств, сопровождали их сообщество до конца лета. И уже хозяюшки, встречающие ввечеру скот, удостаивали ласковым словом и добрым взглядом, а погода, наградившая милостивым бабьим летом, обещали благополучие предстоящей зимы, когда внезапно все надежды сокрушились – не то притянутые предчувствованиями старшего Цывкина, не то свершаемые испытующим божьим промыслом.
В один из последних пастушьих дней Пальма подняла, несвойственную ей, тревогу, кинулась встреч всаднику на вороном игривом жеребчике. Отбиваемая бичом, лайка с яростью преследовала незваного гостя. Он же, не сходя с жеребца, травил собаку бичом, во всю глотку гогоча и забавляясь собачьей яростью. Подъехал к Цывкину, но спешиваться не стал.
Баир Цывкин по закону степей встал, приветствуя всадника и жестом пригласил к биваку. В его позе, сдержанном кивке, выражении лица непроницаемо сквозили гостеприимство и достоинство. Гортанным окриком он успокоил собаку и молча ждал реакции всадника. Цывкин знал этого шалого, гонористого, липучего мужика, колхозного скотника Ваську Резина, несущего по жизни родовое тавро «гнилые люди».
Возможно, как никто другой, знал эти родовые качества своего хозяина и конь, беспокойный жеребчик Воронок, тяготящийся всадником. Тавро ли рода, шпористые ли стремена, удила ли, безжалостно рвущие губу, нехорошо горячили Воронка, похрапывающего с пеной рта, косящего диким глазом.
Сын Пономаря, управляющего колхозной фермой, старого партизана, героя гражданской бойни, до сего дня хранящего, как перешёптывались в селе, наградной наган с тех былинных времён, и при случае пользующийся им, молодой скотник все достоинства и недостатки отца впитал с кровью, скрепил кровью, и руководился той же кровью. Его не взяли в армию по причине судимости, связанной с поножовщиной, и не посадили, учитывая партизанские заслуги отца.
Ничего из того, что знал Воронок, и о чём догадывалось дошлое сельское сообщество, не ведали Цывкины: ни старший Баир, не празднующий досужие сплетни, ни тем более младший, поторопившийся на своей кобыле к шуму у пастушьего бивака… Объединительная интуитивная угроза, как магнит стягивающая их воедино в опасные моменты, пробудила инстинкты и обострила чутьё. Младший подъехал с тыла пастушьего бивака и молча переглянулся с отцом.
– Твой? – с нелепым вопросом обратился к Цывкину сын Пономаря. – Два гусака, токо масть не така… Тебя Сивкиным зовут? А меня Резей. Будем знакомы.
Цывкины молчали. Младший – в силу возраста и положения, старший – в ответ на неуважительный тон.
– Слышь, Сивкин, дело есть, – сдерживая порывы жеребца, заговорил Резя, – на сто сот. Я сейчас телушку завалю… Поможешь кули на коня кинуть. Ты понял? А пикнешь – пришью… Чо молчишь?
– Тёлка не твой, – твёрдо и глухо ответил Цывкин. – Где взял – там отдам.
– Э-э-э, паря… Ты не понял. Я не просить приехал. У нас тут обычай такой. Я приезжаю и… беру, – он выделил «я» и «беру». – А ты и твой окурок – ткнул бичом в сторону младшего Баира – зимой с мясом будешь. Идёт?
– Не идёт. – невозмутимо ответил Цывкин. – Плохо обычай.
– Не тебе решать. У меня завтра день ангела. Мне мясо – позарез. А будешь вякать – тебе не жить… в деревне. Ты же беглый. Пачпорт с убитого взял… Пацана для блезиру за собой таскаешь… Скажешь, не так? – он полез в карман за папиросой. Не спеша закурил. Бросил спичку в Цывкина.
– Уходи миром, – с нескрываемой грустью ответил Цывкин. – Не дам тёлка. Сначала прошу…
В установившейся тишине, нарушаемой только всхрапами жеребца да беспокойным биением копыт, сын Пономаря курил, а Баир Цывкин-старший молча ждал, так и не тронувшись с места. Баир-младший напрягся, как сыч. Это случалось с ним в минуты, когда сознание не успевало понять происходящее, но сердце подсказывало грозящую опасность. Не понимал и сейчас. И лишь детские руки, намертво захватившие уздечку, выдавали степень беспокойства и страха.
– Айда, покажешь телушку Никиты Попова, – как решённое дело потребовал Резя, выплёвывая окурок. И, подцепил бичом с луки седла короткую верёвку с петлей. Круто развернув Воронка, поскакал к стаду.
Куда девалась мёртвая скованность Цывкина? В несколько мгновений он вырвал сына из седла, шуганул кобылу по рёбрам и уже в намёте взлетел на неё. Ярость, до поры таившаяся в жилах, выплеснулась в порывистые жёсткие движения и гортанный сдавленный крик.
В тот самый миг, когда Резя, проявляя удаль и безрассудство, бросив поводья и выхватив из-за голенища нож, пытался арканить петлей рога годовалой тёлке, Цывкин упал на него сверху, повалил и сам кубарем откатился в сторону. Поймав руку с ножом Рези, он легко обернул его к себе спиной, резким движением лезвия прошёлся наискось по лицу… Локтем ударил в затылок, и оттолкнул обмякшее тело ногой.
От дикого вскрика пораненного разбойного выродка, от хрипа мечущейся Пальмы, перепуганные коровы и лошади шарахнулись в стороны. Но Воронок тут же осадил бег кобылы и стал кружать её, похрапывая и постанывая…
Цывкин перехватил лошадей. Взлетел в седло жеребца, ухватил узду кобылы. В то же мгновение поскакал к биваку, навстречу бегущему сыну. В несколько спешных телодвижений собрал на биваке вещи, приторочил их к сёдлам…
Через несколько минут отца и сына Цывкиных, мерно качающихся в сёдлах, сопровождаемых бегущей впереди Пальмой, как древних предков на перекочёвке, наблюдали лишь степные птицы, виражируюя в синей выси. Всадники умеренным галопом уходили в сторону древней реки, вдоль которой тянулся великий сибирский тракт.
Ветер остужал разгорячённые лица. Иногда они переглядывались, и всякий раз, уловив глаза друг друга, находили там улыбку и насмешку над собой, над обманутой и обманувшей судьбой. И было им вольно и уютно. И они скакали… скакали…
А досужие домыслы в оставленной деревне споро связали исчезновение отца и сына Цывкиных с их избушкой, сгоревшей в ту же ночь, с исчезновением телушки из стада и жеребца из топтанки героя Пономаря. Ещё более изощрённый ум удосужился повязать это дело со свежим шрамом поперёк лица сына Пономаря. И тогда уже легенда двух скитальцев обросла домыслами и подробностями, в которых было мало правды, осуждения, так же как крох сочувствия и участия.
Сказывали, будто из цыганского табуна Цывкин старший угнал лучшую кобылу, фаворитку вожака, запряжённую в дрожки. В полузабытом богом и людьми колхозе обменял кобылу на добротную одежонку себе и сыну, да за право переночевки. Той же ночью вернул цыганскую кобылу-красавицу обратно, оставив в утешенье обманутого председателя великолепные дрожки. Нескрываемую цыганскую радость возвращения украденной лошади использовал для торгов, выговорив себе разношенные хромовые сапоги, а сыну кутёнка сибирской лайки, взамен павшей Пальмы.
Колхозные активисты заинтересовались пришельцами. Кто да откуда, да почему?… Не беглые ли каторжники? Не засланные ли казачки? И таскали на допросы в сельсовет. Однажды хватились – а Цывкиных и след простыл, как запах пряной гнили. Вскоре и как звать забыли…
Кто-то из кержаков рассказывал, мол, встречал похожих людей среди погонщиков скота на перегонах из Монголии.
Другие встречали Цывкиных средь вербованных в тайге, в геологических экспедициях, или на охотничьих промыслах.
Вернувшиеся с войны, якобы заговаривали со старшим Цывкиным на Сахалине, в краткой войне с самураями…
Дальнейшие мытарства двух осиротевших Баиров по существующей легенде происходили в местечке Ферма, примечательном тем, что текущие здесь реки впадали сами в себя, озёра были бездонными, леса непроходимыми, а люди породнились так, что поголовно были кумовьями. И пришлых людей встречали здесь с изрядным любопытством, граничащим с ревностью и неприязнью. Женское, мужское и детское население Фермы выбирало себе среди пришлых жертву любви, или ненависти и питалось ею с неистовством людоедов. Но очень скоро страсти иссякали, а прозаическое и поэтическое сопрягалось с драматическим так же редко, как заповедь «Я, Господь Бог твой…» с истинной верой.
Глава третья. Ферма