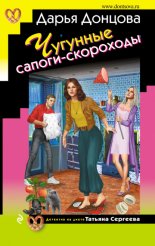Голландский дом Пэтчетт Энн

– У тебя были какие-то другие планы на вечер?
– Домашнее задание, – сказала Мэйв.
– В субботу?
Мэйв была достаточно хороша собой и достаточно популярна, чтобы ни единого субботнего вечера не проводить дома, но, как правило, она никуда не ходила, и впервые в жизни я осознал, что дело было во мне. Они никогда не оставила бы меня в доме одного.
– На этой неделе много задали.
– Однако, – сказал отец, – ты, похоже, справилась. Когда девочки в доме, ты тоже можешь делать домашнюю работу.
– В субботу я не сделала ни одного урока. Я развлекала девочек.
– Но ты же подготовилась, так? И завтра в школе не ударишь в грязь лицом.
– Дело не в этом.
Отец скрестил на тарелке вилку с ножом и посмотрел на нее:
– А в чем тогда дело, не подскажешь?
Мэйв была готова к этому. Она все продумала заранее. Возможно, она думала об этом с тех самых пор, как я взъелся на нее из-за экскурсии.
– Это дети Андреа, вот пускай она о них и заботится, а я здесь ни при чем.
Отец слегка качнул головой в мою сторону:
– За ним-то ты присматриваешь.
Она делала это утром, днем и вечером. Она это имела в виду? Обуза в виде еще двух детей ей не нужна?
– Дэнни мой брат. Эти девочки нам никто. – Все, чему когда-то учил ее отец, она теперь использовала против него: Мэйв, сядь прямо. Мэйв, если хочешь о чем-то меня спросить, смотри мне в глаза. Мэйв, не тереби волосы. Мэйв, говори четче, не жди, что кто-то будет любезно слушать тебя, если ты не потрудишься подать голос.
– Ну а если бы они были твоими родственницами, ты бы не возражала? – Он прикурил сигарету за столом, на его тарелке все еще лежала еда – акт агрессивной неучтивости, ничего подобного я раньше не видел.
Мэйв молча смотрела на него. Я с трудом мог поверить в то, что она выдержала его взгляд.
– Но это не так.
Он кивнул.
– Если ты живешь под моей крышей и ешь мою еду, то, полагаю, в состоянии поухаживать за гостями, когда я тебя об этом прошу.
В кухне капало из крана. Кап, кап, кап. Невообразимый рокот, эхом отражавшийся от стен, – ровно на это жаловались арендаторы, говоря о собственных кранах. Я видел, как отец починил достаточное количество смесителей, и потому полагал, будто и сам могу справиться. Я подумал: если сейчас встану из-за стола и пойду искать гаечный ключ, они вообще заметят, что меня нет?
– Ты меня не просил, – сказала Мэйв.
Отец уже отодвигался на стуле, но она его опередила. Встала из-за стола, все еще сжимая в кулаке салфетку, и вышла из комнаты, не извинившись.
Отец немного посидел в своем обычном молчании, а потом отложил сигарету на тарелку для хлеба. Вдвоем мы доели ужин, хотя не знаю, как я это выдержал. Потом он пошел в библиотеку смотреть новости, а я убрал со стола, сполоснул и сложил посуду в раковину, чтобы Джослин могла помыть ее утром. Убирать со стола после ужина было обязанностью Мэйв, но я справился. О десерте отец даже не вспомнил. В холодильнике в небольшой тарелке лежали лимонные батончики, я отрезал себе кусочек, взял апельсин для Мэйв и отнес наверх.
Она была у себя в комнате, сидела на подоконнике, вытянув перед собой свои длинные ноги. У нее на коленях лежала книга, но она не читала – смотрела в сад. Окно выходило на западную сторону, и в последних закатных лучах Мэйв была похожа на картину.
Я протянул ей апельсин, она впилась в него ногтями, очищая от кожуры; подогнула ноги, чтобы я мог сесть напротив нее.
– Это не сулит нам ничего хорошего, Дэнни, – сказала она. – Тебе тоже стоит об этом знать.
Глава 4
ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ СПУСТЯ после того, как Мэйв покинула Элкинс-Парк, чтобы приступить к занятиям на первом курсе в Барнарде, ее вызвали обратно – на свадьбу. Отец и Андреа сочетались законным браком в гостиной под неусыпными взглядами Ванхубейков. Брайт разбрасывала пригоршни розовых лепестков на немыслимо дорогой испанский ковер ручной работы, а Норма, державшая в руках розовую бархатную подушечку с двумя обручальными кольцами, льнула к матери. Мы с Мэйв присоединились к гостям, которых было около тридцати. Именно в тот день мы узнали, что у Андреа есть мать, сестра, зять (продавец страховок) и несколько друзей, которые, пока подавали торт, глазели, запрокинув головы, на потолок в столовой. (Потолок был выкрашен в глубокий, насыщенный оттенок синего и покрыт замысловатыми узорами из золотых резных листьев, – ну то есть позолоченных. Завитки позолоченных листьев, окруженные венками из позолоченных листьев, заключенных в прямоугольники из позолоченных листьев. Такой потолок уместнее смотрелся бы в Версале, чем в доме на востоке Пенсильвании, – ребенком я вечно ощущал, как он гнетуще нависает надо мной. За ужином мы с Мэйв и отцом обычно старались не отрывать взгляда от тарелок.) На входе Сэнди и Джослин в одинаковых черных платьях с белыми воротничками и манжетами, которые Андреа купила специально по этому случаю, подавали шампанское. «Мы похожи на надзирательниц в женской тюрьме», – сказала Джослин, разминая запястья. Каждый раз, когда требовалось открыть шампанское, Мэйв уходила с бутылкой на кухню, – как она не без гордости нам объявила, это было первое, чему ее научили в колледже. Для Сэнди и Джослин бутылка с шампанским была чем-то вроде заряженного пистолета.
Это был сияющий осенний день: свет, казалось, исходит не только от солнца, но и от травы, и от листьев. Все окна в задней части дома обычно были тщательно завешены до самого пола, но по случаю торжества отец не поленился открыть их все до единого, чего при мне еще ни разу не случалось. Получилась дюжина дверей, выходящих через заднюю террасу к бассейну, в котором плавали водяные лилии. Оказывается, водяные лилии можно взять напрокат – кто бы мог подумать. Все только и делали, что восторгались домом, цветами, светом, даже дамой за роялем в обсерватории, но мы с Мэйв, Сэнди и Джослин знали, что все это дешевый театр.
Пожениться в приходе Непорочного Зачатия или попросить отца Брюэра обвенчать их на дому отец и Андреа не могли, потому что один был в разводе, а другая не была католичкой, отчего складывалось ощущение, что все это происходит невзаправду. Церемонию проводил судья, которого никто из нас не знал, – отец заплатил, чтобы тот пришел в дом и сделал свою работу, как если бы это был электрик. После торжества Андреа продолжала любоваться бокалом на свету, все повторяя, как чудесно совпадают оттенок шампанского и цвет ее платья. Впервые в жизни я смог разглядеть, как хороша собой она была, как счастлива, как молода. Отцу на момент его второй свадьбы было сорок девять, а его новой жене в платье цвета шампанского – тридцать один. И все же ни Мэйв, ни я не могли взять в толк, почему он женится на ней. Оглядываясь назад, вынужден признать, что нам попросту не хватало воображения.
– Как думаешь, прошлое вообще возможно увидеть таким, каким оно на самом деле было? – спросил я сестру. Просторным светлым днем в начале лета мы сидели в ее машине, припаркованной напротив Голландского дома. Липы полностью перегораживали нам вид, но, по крайней мере, нам были видны липы. В детстве они казались мне огромными, но и теперь они продолжали расти. Возможно, когда-нибудь они врастут в стену грез Андреа. Окна в машине были опущены, каждый из нас высунул наружу руку с сигаретой – Мэйв левую, я правую. Я окончил первый курс медицинской школы Колумбийского университета. Вроде бы как раз тем летом мы оба бросили курить, но в тот конкретный день пока лишь подумывали об этом.
– Я вижу прошлое таким, каким оно было, – сказала Мэйв. Она смотрела на деревья.
– Но мы наслаиваем настоящее на прошлое. Смотрим назад через призму нашего нынешнего опыта, то есть мы сами уже не те, кем когда-то были, мы стали другими, а значит, и прошлое в значительной степени изменилось.
Мэйв сделала затяжку и улыбнулась:
– Миленько. Вас этому в колледже учат?
– Курс «Введение в психиатрию».
– Может, станешь мозгоправом? Весьма прибыльное занятие.
– А ты когда-нибудь думала о том, чтобы посещать психотерапевта? – Был вроде 1971-й. Все были помешаны на психоанализе.
– Мне это не нужно, я не искажаю прошлое, но, если хочешь на ком-нибудь попрактиковаться, я к твоим услугам. Мое подсознание – твое подсознание.
– А почему ты не на работе?
Мэйв посмотрела на меня крайне озадаченно:
– Глупее ничего не мог спросить? Ты только что вернулся. Какая может быть работа?
– Сказала, что приболела?
– Просто сказала Оттерсону, что ты приезжаешь. Ему без разницы, на месте я или нет. Я все делаю в срок. – Она смахнула пепел в окно. Мэйв работала у Оттерсона бухгалтером с тех самых пор, как окончила колледж. Они занимались упаковкой и транспортировкой замороженных овощей. В Барнарде Мэйв получила медаль по математике. Средний балл у нее был выше, чем у парня, которому в том же году досталась медаль в Колумбийском: этот приятный факт Мэйв узнала от своей подруги, сестры того парня. Вооружившись своими знаниями и способностями, она не только с легкостью управлялась с платежными ведомостями и высчитывала налоги, но и улучшила логистику, обеспечив быструю доставку пакетов замороженной кукурузы в морозильные камеры бакалейщиков по всему северо-востоку.
– Ты всю жизнь собираешься там проторчать? Тебе нужно учиться дальше.
– Доктор, мы говорим о прошлом, не о будущем. Не теряйте нить.
Я стряхнул пепел. Мне и правда хотелось поговорить о прошлом – об Андреа, но тут из соседнего дома вышла миссис Буксбаум, чтобы проверить почтовый ящик, и заметила нас. Она подошла к моему открытому окну и наклонилась.
– Дэнни, ты вернулся, – сказала она. – Как там в Колумбийском?
– Так же, как было раньше, только сложнее. – Последний год бакалавриата я тоже провел там.
– Представляю, как сестра рада тебя видеть. – Она кивнула в сторону Мэйв.
– Здрасьте, миссис Буксбаум, – сказала Мэйв.
Миссис Буксбаум положила руку мне на плечо.
– Ты должен с кем-нибудь ее познакомить. У вас в клинике наверняка есть какой-нибудь симпатичный врач, у которого нет времени на поиски жены. Высокий симпатичный врач.
– Мой список требований несколько шире, – сказала Мэйв.
– Пойми меня правильно: я радуюсь каждый раз, когда ее вижу, но все же меня это беспокоит, – миссис Буксбаум обращалась исключительно ко мне. – Ну не дело это – вечно торчать здесь одной. Люди надумывать начнут всякое. То есть она, конечно, наша, своя, но ты же понимаешь.
– Я понимаю, – ответил я. – Меня это тоже беспокоит. Непременно с ней поговорю.
– А эта, через улицу, – миссис Буксбаум неопределенно мотнула головой в сторону лип. – Вот уж тоже. Проезжает мимо и даже не кивнет. Как будто вокруг вообще никого нет. Думаю, внутри у нее такая печаль…
– Или нет, – сказала Мэйв.
– Девочек иногда встречаю. Вы с ними видитесь? Манеры у них получше, чем у матери. Вот кого уж точно стоит пожалеть, я считаю.
Я покачал головой:
– Мы не общаемся.
Миссис Буксбаум крепко сжала мое запястье и помахала Мэйв.
– Заглядывайте к нам в любое время, – сказала она, уходя, и мы ее поблагодарили.
– Я определенно вижу прошлое без прикрас, и миссис Буксбаум – живое тому подтверждение, – сказала Мэйв, когда мы снова остались наедине.
После того как Андреа с девочками перебрались в Голландский дом, а Мэйв вернулась в колледж, мы сблизились с отцом. Забота обо мне всегда ложилась на плечи сестры, однако теперь, когда ее не было рядом, он внезапно начал проявлять интерес к моей учебе и баскетбольным матчам. Мысль о том, что место Мэйв в моей жизни может занять Андреа, никому и в голову не приходила. Главный вопрос заключался в том, был ли я в свои одиннадцать достаточно самостоятельным, чтобы подолгу оставаться без присмотра. Сэнди и Джослин, как обычно, продолжали следить за тем, чтобы я был сыт и, когда холодно, не выходил на улицу без шапки. Они обе были очень обеспокоены моим одиночеством. Например, если я делал уроки у себя в комнате, Сэнди могла постучаться в дверь. «Иди заниматься вниз», – говорила она и тут же скрывалась, не давая мне возможности ответить. Ну я и шел с учебником алгебры в руке. В кухне Джослин выключала свой маленький радиоприемник и выдвигала для меня стул.
– За едой думается лучше. – Она отрезала горбушку свежеиспеченного домашнего хлеба и мазала маслом. Я всегда был неравнодушен к горбушкам.
– Мэйв прислала открытку, – сказала как-то раз Сэнди и указала в сторону холодильника с примагниченной картинкой, изображающей Барнардскую библиотеку, занесенную снегом. Сам факт того, что она там висела, наглядно доказывал, что Андреа никогда не заходила на кухню. – Пишет, чтобы мы не забывали тебя кормить.
Джослин кивнула:
– Вообще после ее отъезда мы этого не планировали, но раз Мэйв говорит «надо» – значит, надо.
Мне она писала длинные письма, рассказывала о Нью-Йорке, о занятиях, о Лесли, соседке по комнате, которая, по условиям предоставления стипендии, вечерами работала в столовой, а после засыпала одетая, пытаясь позаниматься в кровати. В письмах Мэйв не было ни слова о том, что учеба дается ей нелегко или что она скучает по дому, хотя она всегда говорила, что скучает по мне. Теперь, когда ее не было рядом и она не помогала мне с домашним заданием, я задавался вопросом, а кто в свое время помогал ей? Флаффи? Это вряд ли. Расположившись за кухонным столом, я открыл книгу.
Сэнди заглянула через мое плечо.
– Дай-ка посмотреть. Когда-то я неплохо разбиралась в математике.
– Да ладно, я сам, – сказал я.
– Только и думаешь: вот бы пожить без сестры, – сказала Джослин, похлопывая меня по плечу – дружески, чтобы не смутить. – Но потом она уезжает, и вот ты уже скучаешь по ней.
Сэнди рассмеялась и шлепнула Джослин кухонным полотенцем.
Джослин была права лишь наполовину. Мне никогда не хотелось пожить без Мэйв.
– У тебя есть сестра? – спросил я.
Сэнди и Джослин рассмеялись и так же одновременно замолчали.
– Ты сейчас серьезно? – спросила Джослин.
– Серьезнее некуда, – сказал я, недоумевая, что бы все это значило, но за секунду до того, как они внесли ясность, я увидел сходство между ними, которое всегда было мне очевидно, хотя я этого и не осознавал.
Сэнди вздернула подбородок:
– Ну, привет. Дэнни, ты правда не знал, что мы сестры?
В тот момент я мог назвать абсолютно все, в чем они дополняли друг друга и в чем были совершенно не схожи, но это уже не имело значения. Я никогда всерьез не задумывался о том, кто их родня, кто ждет их после работы. Мне было известно лишь то, что они заботятся о нас. Помню, как-то раз Сэнди не было две недели, когда заболел ее муж, а потом еще несколько дней, когда он умер.
– Я не знал.
– Это все из-за того, что я гораздо симпатичнее, – сказала Джослин. Она пыталась рассмешить меня, чтобы разрядить неловкость, но я не мог сказать, была ли одна из них симпатичнее другой. Они были моложе отца и старше Андреа, однако ничего более определенного я сказать не мог. И знал, что лучше не спрашивать. Джослин была выше и стройнее, с неправдоподобно белыми волосами; Сэнди, с каштановыми волосами, всегда закрепленными сзади двумя заколками, была, пожалуй, приятнее на лицо. Розовощекая и красивобровая (так вообще можно сказать?). Короче, не знаю. Джослин была замужем, Сэнди овдовела. У обеих дети – я знал это, потому что Мэйв отдавала им всю одежду, из которой мы вырастали, а еще потому, что, когда кто-то из их детей всерьез заболевал, они не выходили на работу. Спрашивал ли я хотя бы одну из них, когда они возвращались, кто именно болен? Как чувствует себя? Нет, не спрашивал. Я очень привязался к ним обеим – и к Сэнди, и к Джослин. Теперь мне было ужасно стыдно перед ними.
Сэнди покачала головой. «Мальчишки», – сказала она, и этим единственным словом сняла с меня всякую ответственность.
При входе в общежитие, где жила Мэйв, стоял телефон. Номер я знал наизусть. Когда звонил ей, кого-нибудь из студенток отправляли на третий этаж, чтобы постучала в дверь, проверяя, на месте ли Мэйв; чаще всего Мэйв не было, потому что она любила заниматься в библиотеке. Вся операция по ее поиску, обнаружению, что ее нет на месте, и записи сообщения занимала минимум семь минут, что было примерно на четыре минуты дольше, чем мой отец считал приемлемым для междугороднего звонка. Поэтому, хотя мне безумно хотелось поговорить с сестрой и спросить, была ли она в курсе – и если была, почему не потрудилась рассказать мне, – я не позвонил. Я пошел в гостиную, постоял около ее портрета, тихо ругаясь про себя под ее благосклонным взглядом десятилетки. Я решил, что дождусь субботы и расспрошу обо всем отца. Сходство между Сэнди и Джослин становилось все более вопиющим – теперь я замечал его каждое утро, когда они стояли рядом в кухне, пока я в спешке собирался на школьный автобус; я видел это сходство, когда они махали мне, будто пара пловчих-синхронисток; и, конечно же, у них был один на двоих голос. До меня дошло, что я никогда не мог определить, кто из них зовет меня, если я наверху. Что со мной было не так, почему я всего этого не замечал?
– А какая вообще разница? – спросил отец, когда наконец-то наступила суббота и мы отправились на сбор арендной платы.
– Но ты знал.
– Разумеется, я знал. Я нанял их на работу – ну, мама, точнее, наняла. Этим она всегда занималась. Сперва была только Сэнди, но пару недель спустя она сказала, что ее сестре тоже нужна работа, так что у нас получился комплект. Ты всегда был с ними учтив. В чем проблема-то?
Проблема, хотелось мне ответить, была в том, что я, оказывается, жил в отрыве от реальности. Я понятия не имел, что происходит даже у меня дома. Мама наняла их обеих, потому что знала, что они сестры, и это говорит о том, что она была хорошим человеком. Я понятия не имел, что они сестры, и это говорит о том, что я придурок. Впрочем, я говорю о прошлом с позиций настоящего. В то время я и сам себе объяснить не мог, почему так расстроен. Неделями я старался избегать Сэнди и Джослин при любой возможности, но не особо в этом преуспел. В конце концов я убедил сам себя, будто всегда знал, кем они приходятся друг другу, просто, ну, позабыл.
Сэнди и Джослин всегда вели хозяйство совершенно автономно. Иногда мы могли высказать пожелание, мол, вот было бы здорово снова поесть той шикарной тушеной говядины с клецками или того чудесного яблочного пирога, но и это случалось редко. Они знали, что нам нравится, и прекрасно справлялись без наших просьб. У нас никогда не заканчивались яблоки или крекеры, в левом ящике стола в библиотеке всегда лежали почтовые марки, а в ванной висели чистые полотенца. Сэнди гладила не только нашу одежду, но и простыни, и наволочки. Когда Мэйв была дома, на дверце холодильника всегда подрагивали выстроенные рядком ампулы с инсулином. Сэнди и Джослин кипятили ее шприцы – одноразовых тогда еще не было. Мы никогда не просили их что-нибудь постирать или вымыть полы, потому что все это делалось до того, как мы успевали заметить.
С появлением Андреа все переменилось. Каждую неделю она составляла меню и высказывала Джослин свое мнение по поводу каждого блюда: суп недосолен; девочки едят слишком много картофельного пюре. Разве можно давать детям столько пюре? Почему Джослин подала треску, когда Андреа прямым текстом просила камбалу? А на другой рынок сложно было зайти? Андреа должна сама все делать? Каждый день ей удавалось придумать какое-нибудь новое поручение для Сэнди: протереть полки в кладовой, выстирать тюлевые занавески. Больше я не слышал, чтобы Сэнди и Джослин болтали о чем-нибудь в коридорах. Теперь по утрам не было художественного свиста Джослин, когда она входила в дом. Теперь им не разрешалось кричать что-нибудь снизу лестницы: им следовало подняться наверх и разыскать нас, как подобает цивилизованным людям. Так сказала Андреа. Сэнди и Джослин усвоили, что надо вести себя тише, быть учтивее и работать там, где нас нет. А может, просто я сам стал нелюдимым. После отъезда Мэйв я все больше времени проводил в своей комнате.
На втором этаже было шесть спален: отцовская, моя, комната Мэйв, светлая комната с двумя кроватями, где спали Брайт и Норма, гостевая спальня, куда мы даже не заглядывали, и еще одна комната, переделанная в хранилище инвентаря. Наверху лестницы также было что-то вроде площадки, где до появления Нормы и Брайт никто никогда не сидел. Им, похоже, понравилось сидеть наверху лестницы.
Однажды за ужином Андреа объявила свой план передислокации.
– Я перенесу вещи Нормы в ту комнату с широким подоконником, – сказала она.
Мы с отцом лишь молча смотрели на нее, а Сэнди, наполнявшая стаканы с водой, слегка отшатнулась от стола.
Андреа ничего не заметила.
– Из девочек Норма старшая. А эта комната – как раз для старшей сестры.
Норма приоткрыла рот. Было ясно, что для нее это тоже новость. Если она и проявляла интерес к комнате Мэйв, то лишь потому, что ей хотелось быть рядом с Мэйв.
– Но Мэйв вернется домой, – сказал отец. – Она всего лишь в Нью-Йорке.
– Когда она приедет погостить, сможет остановиться в чудесной комнатке на третьем этаже. Сэнди все организует – правда, Сэнди?
Однако Сэнди не ответила. Она прижимала к груди кувшин с водой, будто опасаясь его выронить.
– Не думаю, что нужно заниматься этим прямо сейчас, – сказал отец. – Уж спальных мест в доме хватает. Норма может спать в гостевой, если захочет.
– Гостевая комната – для гостей. Норма будет спать в комнате с подоконником. Это лучшая комната в доме, с прекрасным видом. Нелепо превращать ее в святилище того, кто в ней не живет. На самом деле я думала, не перебраться ли нам с тобой туда, но там все же шкаф маловат. А для Нормы он в самый раз. Тебя ведь устроит такой шкаф, да?
Норма заторможенно кивнула, одновременно ужасаясь матери и будучи не в силах противостоять мысли о подоконнике и тех потрясающих занавесках, которые могут укрыть тебя от остального мира.
– Я тоже хочу спать в комнате Мэйв, – сказала Брайт. Она не привыкла жить в таком большом доме и цеплялась за свою сестру так же, как я цеплялся за свою.
– У вас у каждой будет по комнате, и Норма будет пускать тебя к себе, – сказала ее мать. – Все прекрасно приспособятся. Как уже сказал ваш отец, этот дом достаточно велик, чтобы у каждой из вас была своя комната.
На этом вопрос был закрыт. Я так ни слова и не произнес. Смотрел на отца, который, по всей вероятности, теперь также приходился отцом Норме и Брайт, в надежде, что мы еще повоюем, но он предпочел сдаться. Андреа была очень красива. Он мог уступить ей сейчас или немного позже, но, так или иначе, она все равно добилась бы своего.
Все это произошло примерно в то время, когда я влюбился в одну из дочерей Ванхубейков – точнее, в ее портрет; я назвал ее Джулией. Узкоплечая, с соломенными волосами, стянутыми зеленой лентой. Ее портрет висел в спальне на третьем этаже – над вечно пустующей кроватью. За исключением Сэнди, которая по четвергам пылесосила и протирала все влажной тряпкой, никто, кроме меня, туда не заходил. Я верил, что мы с Джулией созданы друг для друга – просто не совпали во временах. Я до того себя извел осознанием этой несправедливости, что однажды совершил ошибку и позвонил сестре в Барнард, чтобы спросить, интересовалась ли она когда-нибудь девушкой с портрета в спальне на третьем этаже – глаза серые с зеленцой, – одной из дочерей Ванхубейков.
– Дочерей? – спросила Мэйв. Мне повезло, что я застал ее в общежитии. – У них не было дочерей. Думаю, это миссис Ванхубейк в детстве. Отнеси картину вниз и сравни с другим портретом. Уверена, на обоих – она.
Моя сестра была способна дразнить меня до тех пор, пока у меня кровь из ушей не пойдет, но так же часто она разговаривала со мной как с равным, давая честный ответ на любой вопрос. По ее голосу мне было понятно, что она не шутит, да и не особо ей это все интересно. Я взбежал по винтовой лестнице на третий этаж и забрался на вечно застланную кровать, чтобы снять со стены мою возлюбленную, обрамленную позолотой (рама была больше, чем ей бы хотелось, но не так величественна, как она того заслуживала). Моя Джулия – не миссис Ванхубейк. Но когда я отнес картину вниз, поставил ее на каминной полке, стало ясно, что Мэйв была права. На обоих портретах была изображена одна и та же женщина – в начале и конце жизни: старая миссис Ванхубейк, платье которой было по самый подбородок застегнуто на черные шелковые пуговицы, и юная Джулия, прекрасная, как утро. И даже если бы это не была одна женщина, подобное сходство делало очевидным то, как дочь однажды превращается в мать. Из-за угла вышла Джослин и увидела, что я стою перед двумя картинами. Она покачала головой: «Как летит время».
Сэнди и Джослин перенесли вещи Мэйв на третий этаж. По крайней мере, окна выходили в сад, как и в ее бывшей комнате. По крайней мере, вид был более-менее тот же самый или даже немного лучше: меньше ветвей, больше листвы. Однако окошки были слуховыми, и, конечно, никакого подоконника. Новая комната была меньше размером и расположена под скатом крыши, так что потолок был скошен. Мэйв при ее росте будет постоянно стукаться головой.
Удручающее предприятие по превращению комнаты Мэйв в комнату Нормы заняло больше времени, чем можно было предположить, потому что, как только вещи Мэйв вынесли, Андреа решила покрасить стены, а после покраски передумала и принялась таскать домой рулоны обоев. В течение пары недель все только и слышали что о ремонте, но лишь когда Мэйв приехала домой на День благодарения, я наконец понял, что никому из нас не хватило смелости рассказать моей сестре о ее изгнании. Определенно это должен был сделать отец, и с той же степенью определенности каждому из нас было ясно, что он никогда на это не решится. Мэйв была в холле, раскачивала меня в объятиях, целовала Сэнди и Джослин, целовала девочек, и внезапно все мы поняли, что вот сейчас она поднимется наверх и обнаружит груду кукол, наваленных на ее бывшей кровати. В этот момент именно Андреа, наш бессменный генерал, проявила присутствие духа.
– Мэйв, пока тебя не было, мы кое-что поменяли. Теперь твоя комната на третьем этаже. Там довольно уютно.
– На чердаке? – переспросила Мэйв.
– На третьем этаже, – повторила Андреа.
Отец поднял ее чемодан. Сказать ему было нечего, но, по крайней мере, он проводит ее наверх. Из-за колена, болевшего при подъеме по лестнице, он никогда не ходил на третий этаж. Мэйв еще не сняла свое красное пальто, на руках у нее были перчатки. Она рассмеялась.
– Прямо как в «Маленькой принцессе»! – сказала она. – Девочка теряет все деньги, ее отправляют жить на чердак и заставляют чистить камины. – Она повернулась к Норме: – Не очень-то обольщайся, мисс. Твой камин я чистить не стану.
– Это по-прежнему моя работа, – сказала Сэнди. Я уже несколько месяцев не слышал, чтобы она шутила; если, конечно, в этой ситуации шутки были уместны.
– Ну, пойдем, – сказала она отцу. – Если хотим обернуться до ужина, пора отправляться. А что это так чудесно пахнет? – Она посмотрела на Брайт. – Ты?
Брайт рассмеялась, а Норма выбежала в слезах, внезапно осознав, что вся эта история с комнатой могла значить для Мэйв. Мэйв смотрела ей вслед, и ее лицо выражало непонимание: кого теперь успокаивать – Норму, Сэнди, меня? Отец уже поднимался наверх с ее чемоданом. После секундного колебания она последовала за ним. Их не было очень долго, но никто не ходил на третий этаж, чтобы поторопить их, сказать, что ужин на столе, что мы ждем.
Глава 5
НА РОЖДЕСТВО Мэйв снова приехала домой, но пробыла лишь несколько дней. Друзья пригласили ее погостить и покататься на лыжах в Нью-Гэмпшире, и одна из ее однокурсниц, жившая в Филадельфии, как раз тоже собиралась туда на своей машине. Все они были богаты. Умные, популярные девушки, прекрасно чувствовавшие себя на горнолыжных спусках и читавшие «Красное и черное» в оригинале. Когда Мэйв узнала, что общежитие не закроют на Пасху, то решила остаться в Барнарде. Многие из ее друзей жили в Нью-Йорке, так что вариантов отпраздновать была уйма. И потом, ей нужно было заниматься. Пасхальная месса в соборе Святого Патрика, после – прогулка по Пятой авеню в компании подружек, проделывавших это из года в год. Кто ее за это осудит? Но я осуждал. Какая может быть Пасха без Мэйв?
– Садись на поезд и приезжай, – сказала она по телефону. – Я тебя встречу. Давай позвоню папе и все устрою. Уж с поездкой в поезде ты как-нибудь справишься.
Я чувствовал себя старше однокашников – тех, у кого было по два родителя, тех, что жили в нормальных домах. Я и выглядел старше. В классе я обогнал всех по росту. «Парни, у которых высокие сестры, в итоге становятся высокими парнями», – говаривала Мэйв – и была права. И все же я не был уверен, что отец отпустит меня в Нью-Йорк одного. Хоть я и был высоким, да и учился хорошо, хоть я и вполне мог сам о себе позаботиться, мне было всего двенадцать.
Но, к моему удивлению, отец сказал, что сам отвезет меня в Нью-Йорк, а домой я смогу вернуться на поезде. На машине до Барнарда было около двух с половиной часов. Отец сказал, что мы заедем за Мэйв и пообедаем втроем, а потом он вернется в Элкинс-Парк. Это втроем прозвучало так ностальгически, будто связывало нас нечто большее, чем обстоятельства.
Андреа быстренько пронюхала об этом и объявила за ужином, что поедет с нами: у нее в городе столько дел! Однако, обдумав все еще раз, она сказала, что девочки тоже поедут, и после того, как меня передадут Мэйв, отец покажет им город. «Девочки ни разу не были в Нью-Йорке, а ты оттуда родом! – сказала Андреа, как будто он умышленно утаивал от них Нью-Йорк. – Мы отправимся на пароме к статуе Свободы – ну не чудесно ли?» – обратилась она к девочкам.
Я тоже не бывал в Нью-Йорке, но решил об этом не заикаться, чтобы не показалось, будто я пытаюсь примазаться к их компании. К тому моменту, когда Сэнди подала десерт, Андреа уже толковала о бронировании отеля и спектаклях. Нет ли у отца знакомого, который смог бы достать билеты на «Звуки музыки»?
– Почему, прежде чем что-то спланировать, ты вечно тянешь до последней минуты? – спросила она и тут же принялась обсуждать возможность встретиться с несколькими художниками-портретистами. – Нужно, чтобы кто-то написал портреты девочек.
Я изучал крошки ревеневого пирога на своей тарелке. Ну и ладно. Всего-то пожертвую ланчем – этой нелепицей на троих. Зато мы увидимся с Мэйв; это было все, чего мне хотелось. Какая разница, кто еще будет в машине? Разочарование – прямое следствие ожиданий, и в те дни я не ожидал, что Андреа согласится на что-то меньшее, чем запланировала.
Но наутро – я еще хлопья не доел – отец толкнул маятниковые двери в кухню. Он постучал двумя пальцами по столу прямо у моей плошки. «Пора ехать, – сказал он. – Давай». Андреа нигде не было видно. Девочки все еще были в комнате Мэйв (как и предсказывала Брайт, спали они вместе), Сэнди и Джослин еще не приехали. Я не стал спрашивать, в чем дело, или напоминать, что его жена и ее дочери вроде как тоже собирались с нами. Я не пошел за книжкой, которую хотел почитать в поезде на обратном пути, не сказал, что мы должны были выехать только через два часа. Я оставил плошку с недоеденными хлопьями на столе – прости, Сэнди, – и вышел за дверь вслед за ним. Мы линяли от Андреа. Пасха в том году была поздняя, и утро сочилось запредельной сладостью гиацинтов. Отец шел быстро, ноги у него были до того длинны, что, даже несмотря на его хромоту, я едва за ним поспевал. Мы прошли под сводом еще не расцветшей глицинии, и весь путь до гаража в голове у меня стучало: Побег, побег, побег. С каждым шагом мы вбивали это слово в гравий.
Могу лишь догадываться, сколько смелости потребовалось, чтобы сказать Андреа, что она остается дома, обрекая себя таким образом на совершенно невыносимую перепалку. Все, что имело для него значение, – убраться из дома до того, как она спустится вниз, чтобы вставить очередную ремарку, и, подгоняемые этим, мы смылись.
Если я спрашивал о чем-нибудь отца, когда он молчал, он отвечал, что разговаривает сам с собой и мне не стоит вмешиваться. В тот раз он определенно вел один из подобных разговоров, поэтому я смотрел в окошко на пылающее утро и думал о Манхэттене, о сестре и о том, как же знатно мы повеселимся. Я не собирался просить Мэйв отвезти меня к статуе Свободы – ее укачивало на воде, – но надеялся, что смогу уломать ее подняться на Эмпайр-стейт-билдинг.
– Ты ведь знаешь, что я жил в Нью-Йорке? – сказал отец, когда мы выехали на Пенсильванскую магистраль.
Я ответил, да, вроде знаю. О том, что Андреа упоминала об этом за ужином, я говорить не стал.
Затем он включил поворотник, готовясь уйти на съезд. «У нас куча времени. Я тебе покажу».
По большей части я знал об отце лишь то, что видел: он был высоким и худым; кожа обветрена; волосы цвета ржавчины – как и у меня. Глаза у нас троих были голубые. Его левое колено плохо сгибалось, особенно зимой и во время дождя. Он никогда не жаловался на боль, но определить, что колено его беспокоит, было достаточно легко. Он курил «Пелл-Мелл», пил кофе с молоком и, прежде чем прочесть газету, разгадывал кроссворд. Он любил дома, как мальчишки любят собак. Когда мне было восемь, я как-то спросил его за ужином, за кого он будет голосовать – за Эйзенхауэра или Стивенсона. Эйзенхауэр переизбирался на второй срок, все мальчишки в школе были за него. Отец звякнул кончиком ножа по тарелке и сказал, чтобы я больше никогда не задавал подобных вопросов – ни ему, ни кому бы то ни было. «С мальчишками рассуждайте, за кого бы вы проголосовали, потому что мальчишки не могут голосовать, – сказал он. – Но задавать подобный вопрос взрослому – значит нарушать его право на конфиденциальность». Теперь мне кажется, что отца просто напугала сама мысль, что я вообще допускаю возможность, будто он способен проголосовать за Стивенсона, но тогда я этого не понимал. Но я точно знал, что к горячей плите прикасаешься лишь однажды. Вот о чем мы обычно говорили в моем детстве: бейсбол – он болел за «Филлис»; деревья – он знал их все по именам, хотя и честил меня, если я спрашивал об одном и том же дереве по нескольку раз; птицы – см. предыдущий пункт (на заднем дворе он держал кормушки и опознавал каждого из своих питомцев); здания – будь то их структурная устойчивость, детали архитектуры, стоимость, налог на недвижимость – ну и так далее; отец любил поговорить о зданиях. Перечислять все то, о чем мне спрашивать было нельзя, лучше и не начинать, но я выделю одно: я не спрашивал его о женщинах. Ни о женщинах в целом, ни о том, чем с ними можно заняться, ни уж тем более о конкретных женщинах: моей сестре, нашей матери, Андреа.
Почему в тот день все сложилось иначе, я не могу сказать, хотя, уверен, это каким-то образом связано с их утренней перепалкой. Возможно, тот факт, что он возвращается в Нью-Йорк, откуда они с мамой были родом, и впервые в жизни навестит Мэйв в колледже, поднял в нем волну ностальгии. Или, возможно, все было именно так, как он сказал: у нас было время в запасе.
– Все это выглядело иначе, – сказал он, пока мы улица за улицей колесили по Бруклину. Но Бруклин не сильно отличался от жилых районов Филадельфии – тех, где мы собирали ренту по субботам. Просто в Бруклине всего было больше – ощущение густоты, расползавшейся во всех направлениях. Он замедлил ход до черепашьей скорости, показывая: – Многоквартирки видишь? В моем детстве здесь стояли деревянные дома. Теперь все снесли, или они сгорели. Весь квартал целиком. А вот и кофейня, – он указал на «Чашку и блюдце Боба». Люди, что сидели у окна, доедали свой весьма поздний завтрак, кто-то читал газету, кто-то смотрел в окно. – Они сами жарили хворост. Нигде вкуснее не ел. После воскресной мессы здесь всегда была очередь на весь квартал. Обувной магазин видишь? «Ремонт на совесть». Он всегда здесь был, – он снова указал на окно магазина, едва ли не шире входной двери. – Я учился вместе с сыном владельца. Уверен, если мы сейчас зайдем, он по-прежнему будет там – прибивать подошвы к ботинкам. Такая вот нехитрая жизнь.
– Надо полагать, – сказал я. Прозвучало по-идиотски, но я не знал, как на все это реагировать.
На углу он свернул, потом снова свернул на светофоре, и мы выехали на Четырнадцатую авеню.
– Ну вот, – сказал он, показывая на третий этаж дома, выглядевшего в точности как все остальные вокруг. – Здесь я и жил, а твоя мама жила в соседнем квартале, – он показал большим пальцем себе через плечо.
– Где?
– Прямо за нами.
Я встал коленями на сиденье и посмотрел в заднее окно; сердце у меня билось в районе горла. Мама.
– Я хочу посмотреть, – сказал я.
– Ее дом ничем не отличается от других.
– Но время же есть. – Был Страстной четверг, и те, кто ходил к мессе, либо уже ушли, либо пойдут после работы. Встретить можно было разве что женщин, прочесывающих магазины. Мы стояли во втором ряду, но прямо перед тем, как мой отец собрался сказать «нет», ближайшая к нам машина отъехала от тротуара, будто приглашая занять ее место.
– Ну что на это возразишь? – сказал отец и припарковался.
Когда мы выехали из Пенсильвании, небо затянуло тучами, но дождя не было, так что мы прошли один квартал назад – отец слегка прихрамывал из-за перемены погоды.
– Ну вот. На первом этаже.
Дом и правда ничем не отличался от остальных, но при мысли о том, что здесь жила мама, я почувствовал, будто высадился на Луне – настолько это было невероятно. На окнах висели решетки, я поднял руку, прикоснулся к одной из них.
– Оберег от долбоящеров, – сказал отец. – Так твой дед говорил. Это он повесил решетки.
Я посмотрел на него: «Мой дед?»
– Отец твоей матери. Он был пожарным. Ночи он часто проводил на станции, вот и поставил решетки на окна. Хотя не уверен, что в этом был смысл: тогда здесь было спокойно.
Я обвил пальцы вокруг одного из прутьев.
– А сейчас он здесь живет?
– Кто?
– Дедушка. – До сих пор я ни разу не произносил этого слова.
– О господи, нет. – Отец покачал головой. – Дедушка Джек давным-давно умер. Что-то не так было с легкими. Не знаю что. Дыма наглотался.
– А бабушка? – еще одно поразительное слово.
На его лице застыло выражение «я на это не подписывался». Он всего-то лишь хотел приехать в Бруклин, показать мне знакомые места, дом, где он вырос.
– Пневмония; вскоре после Джека.
Я спросил, были ли другие родственники.
– Ты не знаешь?
Я покачал головой. Он мягко отнял мою руку от решетки и повел обратно к машине.
– Бадди и Том умерли от гриппа, Лоретта умерла при родах. Дорин переехала в Канаду – с парнем, за которого вышла; был еще Джеймс, мы с ним дружили, – он погиб на войне. Твоя мать была последним ребенком и всех пережила, кроме разве что Дорин. Она до сих пор в Канаде, наверное.
Я заглянул внутрь себя, чтобы найти там нечто, в наличии чего не был уверен, – часть меня, похожую на мою сестру.
– Почему она уехала?
– Она вышла замуж, муж захотел переехать, – сказал он, не поняв вопроса. – Он то ли был канадцем, то ли ему работу там предложили. Уже не помню точно.
Я остановился. Я даже не потрудился покачать головой, а просто попробовал снова. Это был главный вопрос моей жизни, и я до сих пор ни разу его не задавал:
– Почему мама уехала?
Отец вздохнул, засунул руки поглубже в карманы и посмотрел наверх, будто изучая положение облаков, после чего сказал, что она была сумасшедшей. Это был одновременно развернутый и короткий ответ.
– В каком смысле?
– В том смысле, что могла, например, снять пальто и отдать его бродяге, который, вообще говоря, ее об этом не просил. В том смысле, что могла снять пальто с тебя – и его тоже отдать.
– Но мы вроде как должны так поступать, – мы так не делали, но разве не в этом была цель?
Отец покачал головой:
– Нет. Мы – не должны. Послушай, не пытайся докопаться до сути всей этой истории. Каждый несет свой крест – считай, что это твой. Ее больше нет. Пора привыкнуть к этой мысли.
Когда мы сели в машину, разговор был окончен, и до Манхэттена мы ехали как двое незнакомцев. Приехали в Барнард и забрали Мэйв точно по графику. Он сидела на скамейке напротив общежития в своем теплом красном пальто, а ее волосы, заплетенные в толстую косу, лежали на плече. Сэнди всегда говорила Мэйв, что с заплетенными волосами ей лучше, но дома она никогда их не заплетала.
Меня распирало от желания поговорить с ней наедине, но ничего нельзя было поделать. Будь моя воля, мы бы быстренько спровадили отца домой, но у нас был план пообедать втроем. Мэйв предложила пойти в итальянский ресторан недалеко от кампуса, и мы отправились туда; мне подали целую миску спагетти с мясным соусом – Джослин никогда бы на обед такого не подала. Отец расспрашивал Мэйв о занятиях, и она, купаясь в редких лучах его внимания, рассказывала ему все. Она изучала высшую математику и экономику, а также историю Европы и японскую романистику. Последнее заставило отца неодобрительно покачать головой, но встревать он не стал. Возможно, он был рад ее видеть, а может быть, радовался тому, что не стоит на бруклинском тротуаре, отвечая на мои вопросы, но это был единственный раз, когда все его внимание безраздельно принадлежало дочери. У Мэйв шел второй семестр, а он понятия не имел о том, какие у нее занятия, мне же было известно все: «Мелкий снег»[2] стал для нее наградой за чтение «Повести о Гэндзи»[3]; экономику они изучали по учебнику, написанному их профессором; высшая математика, похоже, легче, чем алгебра. Я набивал рот макаронами, чтобы только не предложить сменить тему.
Когда с ланчем было покончено, а это произошло достаточно быстро, потому что отец терпеть не мог рестораны, мы проводили его до машины. Я не знал, когда мне нужно будет вернуться домой – тем же вечером или на следующий день. Мы это не обсуждали, я ничего с собой не взял, однако речь о моем возвращении так и не зашла. Я снова был с Мэйв, остальное не имело значения. Он скупо обнял ее, сунул немного денег в карман ее пальто, и вот мы с Мэйв уже стоим рядом и машем ему вслед. Пока мы обедали, пошел холодный дождь, и, хотя лило не сильно, Мэйв предложила сесть в метро, доехать до Метрополитен-музея и посмотреть египетские залы, поскольку смысла мокнуть не было. После Эмпайр-стейт-билдинг метро было вторым, что мне непременно хотелось увидеть, но теперь, когда мы спускались по лестнице, я едва смотрел по сторонам.
Почти дойдя до турникета, Мэйв остановилась и серьезно посмотрела на меня. Наверное, ей показалось, что меня сейчас вырвет. Что было недалеко от истины.
– Ты переел, что ли?
Я покачал головой.
– Мы были в Бруклине.
Наверное, об этом можно было как-то поэлегантнее сообщить, но я не мог подобрать слов для событий того утра.
– Сегодня?
Перед нами была черная металлическая ограда, сразу за ней – платформа. Подошел поезд, открылись двери, люди вышли, люди зашли, но мы с Мэйв стояли на месте. Кто-то спешил мимо нас – к турникету, чтобы успеть на поезд.
– Мы выехали рано. Думаю, они с Андреа поругались, потому что предполагалось, что они поедут с нами, Андреа и девочки, но папа спустился один, и как будто ужасно спешил. – Я разревелся, хотя плакать тут было не о чем. И потом, я уже был не в том возрасте.
Мэйв подвела меня к деревянной скамейке, мы присели; она выудила из сумочки бумажный платок и протянула мне. Положила руку мне на колено.
Когда я рассказал ей все от начала до конца, то сам увидел, что ничего особенного в этой истории нет, но у меня из головы не шли все те люди, что жили в той квартире, а теперь их не было в живых, не считая маминой сестры, переехавшей в Канаду, и мамы, хотя их обеих тоже вполне могло не быть в живых.
Мэйв сидела почти вплотную ко мне. Выходя из ресторана, она взяла из плошки при входе мятную конфетку. Я тоже. Ее глаза были голубыми, но не такими, как у меня. Они были гораздо темнее, почти ультрамариновые.
– Ты сможешь найти ту улицу?
– Это Четырнадцатая авеню, но я не знаю, как туда добраться.
– Но ты запомнил кофейню и ремонт обуви, так что мы найдем. – Мэйв подошла к мужчине в будке с жетонами и вернулась с картой. Нашла Четырнадцатую авеню, прикинула, какой нам нужен поезд, вернула карту и вручила мне жетон.
Бруклин большой, больше, чем Манхэттен, и трудно представить, что двенадцатилетний мальчик, никогда прежде там не бывавший, сможет снова найти многоквартирный дом, рядом с которым провел минут пятнадцать, но со мной была Мэйв. Когда мы сошли с поезда, она спросила дорогу к «Чашке и блюдцу Боба», и, когда мы оказались там, я знал, куда идти дальше: повернуть на углу, повернуть на светофоре. Я показал ей решетки на окнах, которые поставил дедушка, чтобы защититься от долбоящеров, и мы просто постояли там, прислонившись спиной к кирпичной стене. Она спросила, как звали наших дядей и тетей. Я припомнил Лоретту, Бадди и Джеймса, двух других позабыл. Она сказала, чтобы я не расстраивался. Дождь усилился, мы зашли в кофейню. Когда мы попросили хвороста, официантка усмехнулась. Сказала, все разбирают к восьми утра. Нас это не расстроило, учитывая, что голодны мы не были. Мэйв заказала кофе, я – чашку горячего шоколада. Мы сидели, пока не отогрелись и не пообсохли.