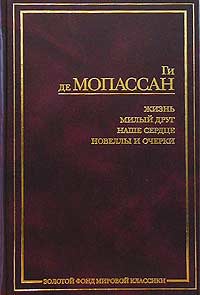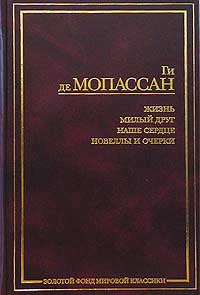Не поле перейти Алексеев Сергей

Сергей Трофимович Алексеев
Не поле перейти
Посвящается Анне Дмитриевне Чигиринских
У Голодного лога два стада, колхозное и деревенское, слились в одно, и одуревшие oт гнуса коровы ломанулись в сторону Чарочки, сминая на ходу молодняк и распугивая овец. Только бык-производитель по кличке Фома вдруг уперся рогами в сухостоину и, роя копытами землю, заорал мучительно и тоскливо.
Потные, облепленные гнусом, пастухи с полчаса крутились по Голодному логу, пытаясь завернуть стадо, изматюкались, охрипли на жаре и, наконец, плюнув, поехали следом за скотом. Лишь Фома не примкнул к стаду, остался в логу. Он с бычьим упрямством крушил сухостоину и от бича, свистящего над спиной, досадливо отмахивался хвостом. Подпасок Мишка вытянул последний раз Фому вдоль хребта и, по-взрослому выругавшись, поскакал догонять пастухов. Те ехали шагом, хватали табачный дым пересохшими ртами и лениво переговаривались.
– Не идет, стерва, – доложил Мишка, доставая из фуражки мятую сигарету с фильтром. – Трактором не возьмешь.
– Сам придет, – отмахнулся старик Кулагин, пастух деревенского стада. – А тебе, Мишка, рано курить. Ну-ка брось.
Мишка спрятал назад сигарету и поехал в кусты – выгонять рассыпавшихся овец.
– Может, остановим, а? – предложил колхозный пастух Иван Вальков. – Мне ж своих на дойку вечером гнать. Упрут черт-те куда.
– Дальше Чарочки не упрут, – заверил Кулагин. – Там продувает, гнусу меньше. – Он закашлялся, перекосившись в седле, отплевался и, с хрипом втягивая воздух, добавил: – Хоть водички у Беса попьем, с колодца.
– А может, и медовушки поднесет! – мечтательно протянул Иван. – Из омшаника, холодненькой.
– Жди, поднесет, – буркнул Кулагин, – снегу зимой не выпросишь.
– Мне давал, – не согласился Вальков, мужик средних лет, однако тучный и грузно сидящий в седле. – Полный ковшик поднес. Пей, говорит, Иван Игнатич, да не забывай старика. Я, говорит, людям всегда рад.
– То-то один живет, как сыч. – Кулагин собрал волочащийся кнут и приторочил его к седлу. – Все люди как люди, разъехались из Чарочки, по деревням живут. А этот… Бес – одним словом.
Иван Вальков молча пожал плечами.
Скот вырвался из леса на широкую поляну, где когда-то была деревня, рассыпался фронтом и сразу замедлил ход. Трава на поляне была не тронута: стада гоняли сюда редко, весной и осенью, когда в других местах, поближе, животные так выбивали ее – овце щипнуть нечего. Чуть ближе к краю поляны, у реки, стояла одинокая изба с постройками, огороженная жердяной изгородью. В широкой леваде, на выкошенных пятачках, виднелись аккуратные, домиком, пчелиные колодки.
– К деду поехали? – на ходу спросил Мишка и, не дожидаясь ответа, поскакал галопом к избе. Возле городьбы он спрыгнул на землю, набросил повод на кол и пошел к калитке. Пастухи подъехали шагом, не спеша привязали коней, отпустили подпруги и направились к избе, разминая затекшие ноги.
Мишка вылетел им навстречу с перекошенным лицом и выпученными глазами. Во дворе с храпом лаял пес.
– Там!.. – выдавил Мишка, показывая трясущейся рукой на калитку. – Там… Лежит…
– Кто? – спросил Кулагин и ногой распахнул калитку.
Иван Вальков высунулся из-за его плеча и уронил кнут. На ступеньках крыльца головой вниз лежал Сашка-Бес. Труп уже почернел, крупные зеленые мухи ползали по лицу и босым ногам. У крыльца на ременной привязи металась разъяренная собака с рыжим подпалом на груди и морде. В стайке, припертой черенком от лопаты, орали голодные овцы.
– Вот те на-а!.. – протянул Иван Вальков и зябко передернул плечами. – Вот те медовушка…
– Да цыть ты! – прикрикнул на пса старик Кулагин и замолк, будто испугавшись своего голоса. Пес от крика лишь больше остервенел, уже не лаял, а хрипел, придушенный ошейником. Подпасок Мишка тихонько подошел к воротам и смотрел во двор сквозь щелку, готовый в любой момент отпрыгнуть и убежать.
– Что делать-то будем, Дмитрий Петрович? – испуганным шепотом спросил Иван. – Что-то делать надо…
Кулагин вдруг попятился назад, отжал Валькова и захлопнул калитку.
– Ну его… Сорвется – порвет еще, – пробормотал он. – Ремень, видно, ненадежный.
– Дмитрий Петрович, а? – Иван все еще выглядывал из-за плеча Кулагина и не мог оторвать взгляда от мертвого.
– А если его – того?.. – неожиданно спросил старик Кулагин. – Хряснул кто-нибудь по башке…
– Да ну… – усомнился Вальков. – За что?.. Безвредный человек был…
– Много ты знаешь, безвредный… – отмахнулся Кулагин. – У него денег была куча. Место глухое, народу мало. Заехал какой-нибудь лихой, ну и…
– Откуда деньги-то у старика? – пожал плечами Иван. – Да ну… Помер, видно, сам помер…
– Пасеку держал – денег не было? Как раз! – почему-то зло ответил старик Кулагин. – Каждое воскресенье машины из города ходили… Мишка!
Мишка глядел в щелку и курил глубокими затяжками. Волосы на макушке стояли дыбом, руки подрагивали.
– Мишка?! – снова окликнул старик Кулагин. – Чего уставился-то? Покойников не видал?
– Близко не видал, – признался шепотом Мишка. – Первый раз.
– Вот что, Михайло. Давай-ка дуй за Гореловым. Пускай милиция едет и сама разбирается. – Кулагин отошел от калитки и сел на бревна, раскатанные у ворот. – Да пошевеливайся. А то вечером скотину назад гнать.
Мишка попятился, затем развернулся и, оглядываясь, пошел к лошади. Пастухи молча проводили его глазами, закурили. Собака во дворе утихла и лишь жалобно поскуливала. Мишка вскочил на коня и с места взял галоп, распугивая пасущихся коров.
– Эх, варнак, запалит меринка-то с испугу, – проронил старик Кулагин. – Ошалел парнишка.
– Ошалеешь тут, – поежился Иван Вальков. – Идешь к живому человеку, и на тебе… Его и нету уже.
– Он еще оживеть может, – усмехнулся старик. – С ним бывало и такое… Бес – он и есть бес.
– Ну, Петрович, ты скажешь, – не поверил Иван и огляделся. – Видал, мухи по нему ползают… Жуть.
– Бывало, воскресал, – серьезно сказал Кулагин. – Но счас, похоже, все, не поднимется.
– Жалко старика, – вздохнул Иван, – в глазах стоит… Последний раз был – он говорит: «Ты заезжай, Иван Игнатич, мимо-то не проходи…» Уважительно так говорил.
– Он всю жизнь такой уважительный. – Старик Кулагин мотнул головой и отвернулся. – Без мыла норовил… Обучили его немцы-то обхождению.
– Неудобно так-то, Петрович, – сказал Вальков. – Покойник же…
– Не тебе указывать! – обиделся старик. – Указчик нашелся… Молодой еще. Я поболе тебя знаю про него. Он всю войну в плену просидел! Пришел – харя вот такая! Ты на картинках видал, какие люди в плену были?.. То-то. Сравни теперь.
Иван дернул плечами и долго смотрел на калитку. Старик Кулагин задавил окурок в землю и принялся вертеть новую самокрутку. Коровы приблизились к бревнам и с треском выщипывали густую траву.
– Слышь-ка, Петрович, у него ж глаза открытые! – спохватился Вальков. – Может, пойти закрыть? Да и на солнышке лежит, набросить бы что сверху?
– Ты это, Иван, сиди-ка и не лезь, – посоветовал старик. – Не положено трогать. Лежит – пускай лежит. Я в сельсовете работал, знаю.
– Так человек же, – слабо возразил Иван. – Неудобно как-то, валяется…
– Твой тятька где? – неожиданно спросил Кулагин. – Где он у тебя?
– Как где? Ты же сам знаешь, в сорок втором…
– Во! А он до таких пор жил. – Старик постучал по бревну. – Смикитил, что к чему?.. Наша власть добрая, простила ему. Добрых-то, вишь, легче обмануть. А что я ему должон прощать? Я – калеченный, контуженный войной, здоровье потерявший?
Иван молчал, ковыряя ногтями кору на бревне и прислушиваясь к поскуливанию собаки. День был в самом разгаре, солнце пекло, и грузный Вальков исходил потом, тогда как на сухом, морщинистом лице старика Кулагина и капли не выступило.
– Опять же, после войны я работать пошел и счас еще маленько да работаю. А как? Мне ребятишек надо было кормить. – Старик перевел дух и откашлялся. – А он кузнечил, все похитрей работу искал, больным прикидывался. То гвоздики кует сидит, то какое-нибудь старье разбирает.
– Глаза-то бы надо закрыть, – упрямо повторил Иван, – нехорошо так-то…
Старика Кулагина покривило, у него побелели сомкнутые губы и тряско задергалась щека. Он хотел что-то крикнуть, однако только выматерился и, схватив бич, вдруг начал пороть наступавших к воротам коров. Те шарахнулись в сторону, сшиблись, смешались и тем самым разозлили старика еще пуще.
– Куда, в бога душу!!! – орал он, вытягивая бичом крутые коровьи бока. – Куда?! Куда?!
Очумевшие животные метались из стороны в сторону, тискали между собой молодняк, пока не сорвались в галоп и не устремились к поскотине, за которой зеленели еще некошенные луга. Старик Кулагин, видимо, сообразив, что сейчас оба стада ринутся на поскотину и наверняка сметут ее, повернул назад, к привязанной лошади. Однако, пока он карабкался в седло и распутывал повод, напуганные коровы достигли поскотины и на мгновение остановились. В это время сорвавшееся с места стадо, голов в триста, разлетелось и ударило передних. Передние своротили городьбу вместе с кольями и, прыгая через жерди, высыпали на луга.
– Заворачивай! – крикнул Иван и полез на коня, забыв подтянуть подпруги. Седло перевернулось, Вальков грузно ахнулся наземь, и пока вставал, поправлял седло – оказалось поздно. Оба стада с молодняком и овцами и с приставшей чьей-то свиньей выбежали на луга и лавиной понеслись к дальним кустам. Старик Кулагин метался на лошади среди скота, кричал, драл встречных и поперечных, тем самым еще больше создавая панику. Иван поскакал наперерез стаду, рассчитывая завернуть передних, но конь, порядком утомленный уже от грузного седока, не вытянул и тоже оказался в гуще коров. Остановить напуганный скот можно было только отрезав ему путь на луга, однако мерин под Вальковым тяжело раздувал бока и приседал на задние ноги. Оставалось лишь ждать, когда стадо успокоится само собой, чтобы затем осторожно выгнать его в Чарочку. Но в самой его середине буйствовал старик Кулагин, размахивая бичом и бросая коня то влево, то вправо.
– Петрович! – закричал Иван, направляясь к старику и рискуя быть сбитым одуревшими коровами. – Петрович! Сто-о-ой!
Кулагин, вспоминая всех богов, орудовал кнутом и словно не слышал. Он настигал очередную коровенку, точным ударом захлестывал бич на задних ногах, отчего та делала гигантский прыжок и этим раззадоривала остальных. Иван догнал старика, хотел перехватить его за руку и, чуть не угодив под кнут, отскочил в сторону. На мгновение он увидел белое лицо с перекошенным ртом и горящими глазами. Изловчившись, Вальков на скаку перехватил повод кулагинского мерина и, едва не вылетев из седла, остановил Кулагина.
– Петрович! Ты что?!
– Уйди! – сквозь зубы крикнул старик. – Уйди, говорю! – и замахнулся. Вальков поймал его за руку и вместе с ним рухнул на землю.
– Ты что?! Одурел? Петрович!
Старик ослаб, уткнулся лицом в траву. Из-под свалившейся фуражки вылезли мятые, с проседью, жидкие волосы. Кони как ни в чем не бывало опустили головы и начали хапать густой пырей, звякая удилами о зубы. Далеко ушедший скот замедлил бег и скоро перешел на шаг. В воздухе носился плотный рой паута. Иван посидел немного и, уняв дрожь в руках, вынул кисет.
– Ладно, давай закурим, – предложил он. – Чего там…
Кулагин сел, мотнул головой и вскочил на ноги:
– Нечего сидеть. Айда коров выгонять.
И пошел вперед, прихрамывая и дергая повод хватающей траву лошади. Вальков спрятал кисет и двинулся следом. Старик вдруг остановился, глядя себе под ноги, и сплюнул. На траве лежал осклизло-кровавый ком выкидыша. Видно, даванули в стаде стельную матку, и вот тебе результат…
– А сколько покосу потравили, – проронил Иван. – Ну чего ты размахался-то?
Кулагин не ответил. Только взял покрепче в сухую, корявую после ранения руку повод и захромал вперед.
Около трех часов дня на проселке появился желтый милицейский «газик». Пыль из-под его колес поднималась дымовой завесой и застывала в недвижимом знойном воздухе. Пастухи, к этому времени выгнавшие стада с лугов, поправили поскотину, стреножили коней и сели в тень под высокую поленницу, сложенную за стайкой усадьбы. Завидев машину, мужики встали и вышли навстречу. «Газик» приткнулся у ворот, и сразу же остервенело залаял пес. Знакомый Кулагину и известный на всю округу следователь Горелов поздоровался за руку с пастухами и вытер платком лоб. Вместе с Гореловым приехал хирург из района по фамилии Шмак, исполнявший обязанности судмедэксперта. Шмак тоже сунул худую гибкую ладонь мужикам и, сняв пиджак, закатал рукава рубашки. На вид ему было лет тридцать, а то и меньше, но ранняя сутулость, бородка клинышком, дрябловатые мышцы на длинных руках делали его похожим на тонкого, интеллигентного старичка. Зато Горелов был статью с Ивана Валькова. Третьим из машины выскочил шофер Попков с баклагой в руках и спросил, где набрать воды. Иван показал ему на пику колодезного журавля, торчащую в дальнем углу двора, однако Попков, едва сунувшись за калитку, отпрыгнул назад.
– Кобель! – испугался он. – Ишь как рвет, не подпускает.
– А ты с огорода залезь, – подсказал Иван, – оттуда не достанет.
Шофер перескочил городьбу и захрустел картофельной ботвой.
– Значит, земляк твой скончался? – спросил Горелов старика Кулагина, снимая галстук и расстегивая милицейскую рубашку. – Ну и жара нынче! А покосы начнутся – дождем зальет.
– Это так, – подтвердил Кулагин. – Знамо дело – зальет… Если б не коровы, так мы бы сюда и не заглянули, – начал объяснять старик.
– Последний житель Чарочки, значит, переехал. – Горелов покачал головой и стал тормошить свою папку. – Теперь и переночевать не у кого будет… А что коровы?
– Коровы, говорю, сдурели от гнуса и поперли сюда, – сказал старик. – Мы с Иваном за ними. А тут вишь что…
– Ну, показывай земляка. – Горелов направился к калитке.
– Что показывать – там лежит, – махнул Кулагин, – на крылечке. Земляк.
Следователь шагнул во двор, Шмак последовал за ним, но остановился у калитки. Пес вставал на дыбки, душился ошейником и хрипел в злобном рыке. А тут еще Попков добрался к колодцу и стал опускать бадью, кобель и того пуще заметался по сторонам, прыгая через труп хозяина. Почуяв близость людей, дружно заорали овцы в стайке.
– Охраняет! – сказал Горелов и смело подошел к трупу. Оскаленная морда пса была в полуметре, ремень натянулся в струну.
– Он раньше-то ничего был, – подал голос Иван. – Зайдешь – ластится, об ноги трется.
Ему никто не ответил. Все следили за Гореловым, сгрудившись у калитки. Горелов же склонился над телом, осмотрел голову, отвернул двумя пальцами ворот рубахи.
– Вы б, мужики, хоть глаза ему закрыли, – вдруг сказал он, разглядывая ступени крыльца и не обращая внимания на кобеля. – Мухи-то ишь что делают.
– Да я хотел, – отозвался Иван Вальков и посмотрел на Кулагина.
– Мы не подходили, – сказал старик Кулагин. – Кто его знает, что там… И кобель ровно взбесился.
– Кобель хороший, – протянул Горелов, уговаривая пса. – Ну что ты рвешься? Не трону, не трону я твоего хозяина. Эх ты…
Следователь вернулся за калитку, попил воды из баклаги, принесенной Попковым, и полез в карман за папиросами.
– Я думаю, криминала тут нет, – сказал он Шмаку. – Похоже, своей смертью умер старик. Ну, еще посмотрим… В избу не заходили? – спросил Горелов у пастухов. – Надо ведь документы покойного найти.
– Не заходили, – подтвердил Кулагин. – Я ж знаю – нельзя.
Горелов вынул бланк протокола, пристроил его на папке и, жуя папиросу, стал писать.
– Ну что, пошли? – Иван подобрал бич и глянул на Кулагина. – В семь – дойка, пока пригонишь…
– Эй, мужики, погоди! – спохватился Горелов. – Я вас понятыми записал. Через часок освободитесь.
Иван пожал плечами и покорно опустился на бревно. Кулагин пожевал губу и неожиданно отрубил:
– Я понятым не могу.
– Как не могу? – удивился следователь. – Ты что, Дмитрий Петрович?
– А так: не могу, и все, – заупрямился старик. – Я, можно сказать, лицо заинтересованное.
– В чем заинтересованное? – рассмеялся Горелов. – Вы ж с ним земляки, вместе жили.
– Потому и не могу. – Кулагин отхлебнул воды из баклаги, вытер губы. – Бес в плену был. Не наш он человек.
– Так я тебя, Петрович, не в почетный караул приглашаю, – опять засмеялся следователь. – Формальный момент, сам знаешь. Да и брось ты вспоминать! Нашел время. Сам пойми: где я второго понятого здесь найду?
– Ладно, – подумав, согласился старик, – если так, то ладно.
Горелов кончил писать и пригласил всех во двор. Пастухи ступили за калитку и по стеночке, по изгороди подобрались ближе к крыльцу. Рассвирепевший и окончательно охрипший пес рвал привязку и скалил пасть. Следователь расчехлил фотоаппарат, приготовился снимать, но в это время Шмак хлопнул калиткой.
– Я к этому зверю не пойду, – заявил он.
– Да ничего, он не достанет, – успокоил Горелов и щелкнул аппаратом.
– Вы что, с ума сошли? – возмутился Шмак. – А если сорвется? Нет. Я не пойду. Убирайте собаку.
– Так он не злой, – сказал Иван Вальков. – Это он так, на цепи токо, а отпусти – шалавый.
– Что вы мне говорите – шалавый, – сердито передразнил эксперт. – У него все признаки бешенства.
Следователь опустил фотоаппарат и отступил назад. Пес, стоя на дыбках, тянулся оскаленной пастью к людям, и пенистая слюна ниткой сочилась на землю.
– Да ну. Откуда? – махнул рукой Иван Вальков. – Здесь других собак не бывает.
– Кто его знает? – Старик Кулагин подобрал с земли железяку. – У Беса все может быть.
– И что же делать? – спросил Горелов. – На самом деле – зверь, а не пес.
– Шлепнуть его – и все дела, – отозвался Попков. – Кому он теперь нужен-то?
И все переглянулись, будто спрашивая друг у друга, кому он нужен.
– Неси пистолет, – скомандовал Горелов шоферу. – Он в портфеле.
Попков нырнул в машину, а Иван Вальков, покрутив головой, вдруг заговорил сбивчиво и торопливо:
– Мужики, вы что? Зачем пистолет? Я его так уговорю. – Он подошел к собаке. – Ну ты что, дурачок? Вот разлаялся. Свои тут, свои. Как хоть зовут-то тебя? Ах, Шарик! Ну, Шарик, Шаринька…
Иван протянул руку. Кобель замолк и прижал уши. Из горла у него вырывался тихий сап.
– Отойдите от собаки! – предупредил Шмак. – Нашли забаву.
Вальков дотронулся рукой до собачьего загривка и примял вздыбленную шерсть.
– Ну вот, а ты злился. Хороший пес, хороший.
Никто ничего толком не видел. Кобель резко дернул головой, будто отмахиваясь от паута, Вальков отпрянул и зажал руку: сквозь сомкнутые пальцы заструилась кровь.
– Говорил вам! – Шмак шагнул к машине и выхватил оттуда свой чемоданчик. – Взрослый человек, а ведете себя, как… Идите ко мне!
Пистолет уже был в руках у Горелова. Он загнал патрон в ствол и шагнул в сторону, оттесняя старика Кулагина.
– Погоди, мужики, – недоуменно проговорил Иван Вальков. – Собака-то при чем? Она ж не виновата, что…
Пес после выстрела отлетел к стене избы, засучил лапами и вытянулся. Стало тихо. Лишь эксперт Шмак, выкладывая содержимое чемоданчика, побрякивал коробкой со шприцами.
– Оттащи его куда-нибудь, – кивнув на кобеля, приказал Горелов шоферу.
Попков отрезал ременную привязку и поволок пса на улицу.
– А ну вас… – выматерился Иван Вальков и пошел к кузне. – Я бы уговорить мог.
Он сел на приступку у входа в кузницу и стряхнул кровь с укушенной руки. Шмак неторопливо вскрыл ампулу, наполнил шприц и пошел к Валькову. Старик Кулагин стоял, вжавшись спиной в стену стайки, и, озираясь по сторонам, сглатывал сухим горлом. Щека его начинала дергаться, перекашивая глаз, и, чтобы унять ее, он зажимал лицо корявой, раненой рукой.
Горелов, сидя на ступеньке крыльца рядом с трупом, писал протокол осмотра места происшествия.
Не доходя Кулагинской пашни, он свернул с дороги, оглянулся – не заметил ли кто? – и пошел лесом. Под ногами захрустела прошлогодняя трава, кое-где в тенистых местах от земли еще тянуло холодом. Однако в воздухе было не по-весеннему знойно, березовая мелкота, наступающая на пашню, метала первые листья, на солнцепеках синела медуница, пахло землей. Сквозь частокол подлеска он заметил рыжие пятна стерни на пашне – значит, еще не пахали, а ведь время уже! Отогрелась земля… Он прибавил шагу, далеко выбрасывая клюку и подволакивая ноги. Сейчас, сейчас за узким перелеском, за Кулагинской пашней, покажется заветная полоска с черемуховым кустом посередине. Помнится, мать сколько раз просила отца выкорчевать этот куст – торчит, как бельмо в глазу, пахать мешает, землю сушит, и хлеб оттого вокруг убогонький, – да отец все упрямился, дескать, под кустом-то тенек, поснедать хорошо и примета всегда на глазах: если буйно цветет черемуха – и урожай будет. И потом он все этот куст отстаивал, когда уж в Чарочке колхоз организовался и от единоличных земель остались одни названия – Кулагинская пашня, Тимофеева полоса…
Куст стоял. Показалось даже, что он разросся, раздался вширь и полыхал теперь среди желтой стерни зеленым пламенем, как бывает в кузнечном горне, если в огонь попадает медь.
Он оперся о клюку, перевел дух и на мгновение прикрыл глаза. Еще не верилось. Он боялся, что откроет глаза – и пропадет полоса земли с черемухой, и останется только зыбкое марево, а сам он снова окажется там, за колючей проволокой…
Нет, на сей раз нет! Это не сон, не бред, не видение, вдруг явившееся в воспаленном мозгу, которое так походило на явь, что он даже чуял запах цветущей черемухи. Отбросив клюку и механически переставляя ноги, он одолел последние метры и рухнул на землю. Руки поискали вокруг, ощупали шуршащую листвой землю и мертво вцепились в старый, матерый ствол куста.
Он лежал долго. По лицу, по рукам и гимнастерке ползали муравьи, на щеке красной рябью отпечатался полевой мусор, и земля на губах высохла до беловатой пыли. Затем, стараясь не выпускать из рук шершавого ствола черемухи, он перевернулся на спину и открыл глаза. Над лицом свешивались подернутые зеленью ветки. Листья были еще маленькие, еще не выгнало стрелы молодых побегов, но кисти цвета сидели густо, и просяная россыпь бутонов вот-вот должна была выметать бель лепестков. Сквозь замысловатую решетку ветвей он видел голубые пятна неба, словно непаханые пашни и полосы, и чем дальше ввысь уходил его взгляд, тем сильнее кружилась голова. Это ощущение было знакомо с детства, с той самой поры, когда они вдвоем с отцом ковыряли тощий подзол лесной пашни или когда жали всей семьей свою полосу. Чтобы кто-нибудь случайно не наступил босой ногой на серпы, мать убирала их под черемуху и каждый раз забывала, испуганно спохватываясь – ой, куда ж я серпы-то дела?.. Он вспомнил об этом и инстинктивно пошарил рукой под деревом…
Реальность возвращалась медленно, напомнила болью в позвоночнике: вещмешок хоть и полупустой, однако давил в спину, и лежать на нем было неудобно. Упершись локтями, он осторожно сел и огляделся. Солнце опустилось к вершинам бора, протаяв в хвое ослепительный круг. Неожиданно он услышал далекие голоса, больше похожие на весенний журавлиный клекот, и обернулся назад, туда, где Тимофеева полоса соединялась с другими пашнями. В полуверсте, возле самого леса, начинали пахать. Коровы, запряженные в плуги, медленно тащились по стерне, и даже с такого расстояния была заметна прерывистая ниточка борозды. Чуть подальше от пахарей он заметил женщин, волокущих на пашню плуг. Женщины остановились в начале борозды, посуетились и, надев на себя постромки, потянулись вслед за коровами. До него долетело пение…
Первой мыслью было бежать туда, к пахарям, и он уже сделал попытку подняться, встал на колени, но, помедлив, отполз под черемуху и затаился. В угасающем мареве женские силуэты проступили четче. Можно было различить цвет одежды и пятна на коровьих боках. Между баб он заметил двух парнишек. Один вел корову, а другой шел за плугом, в который впряглись женщины.
«А ну как мать там?» – ожгла радостная мысль и уже потом не давала покоя. Он до слез, до рези в глазах всматривался в фигуры мельтешащих женщин, смаргивал и смотрел снова, подавляя желание выйти из-под куста и – хоть бегом, хоть ползком – достичь борозды.
Между тем солнце село. Пахари выпрягли коров и удалились за перелесок. Он знал, каким путем они пошли в Чарочку. От того конца пашни начиналась полевая дорога, которая выходила за огороды. А там остается только перелезть через городьбу, и вот он – дом.
Казалось, ждать ночи невыносимо. Вечер таял медленно, чистый закат полыхал в полнеба, не давая места сумеркам. Он сидел под черемухой, прижавшись спиной к ее стволу, а перед глазами стояли приземистая и широкая изба с окнами на реку, двор, вечно захламленный боронами, плугами, полуразбитыми ходками и тележными колесами. Кузница была на отшибе двора, за баней, однако там всегда не хватало места, и битый, коверканый инвентарь постепенно обжил все подворье. Перед войной в колхозе построили новую кузню, но старая, отцовская, оставшаяся еще от единоличного хозяйства, работала помаленьку, все больше по мелкому ремонту. А вместе с ней остался и инвентарь, который ладить бесполезно и выбросить жалко. Накопившись за многие годы, он медленно дряхлел, ржавел, гнил и прорастал травой. Много раз отец собирался очистить двор, но почему-то откладывал, может быть, уже привык, прижился к ненужным в хозяйстве вещам. Очисти, так и пропадет жилой дух во дворе…
Сейчас он вспоминал довоенную жизнь, и в памяти обязательно возникал этот двор, словно все самое важное происходило там. Утро начиналось со звона наковальни. Отец поднимался часов в шесть и сразу шел разжигать горн. Проснешься, а он уже что-то настукивает. И от этого стука совестно было лежать. Скорее с полатей и к нему. Черенок у «старшого» – пудовой кувалды – гладкий, руки так и влипают. Ахнешь – брызги летят. Солнце еще не встало, а в кузне светло, как днем.
– Окороти! Окороти! – прикрикнет отец. – Экой ты балованный…
А потом еще сестренка, Марейка, прибежит мехи качать. И начинается у них вроде как соревнование. Огонь в горне белый, железку сунешь – и тащи скорей назад, не то сгорит. «Старшой» в руках будто пушинка, искры мечутся по кузне, секут лицо, замирают светлячками на стенах. Отец уж махнет рукой на баловство и только приговаривает:
– От бясы! От бясы!
Как она там теперь, Марейка? Поди, уж замуж вышла. А может, все еще в девках ходит. Парни-то на фронте, только-то лько отпускать начали… Кузня-то, верно, пустая теперь стоит. Если и появился в Чарочке кузнец, то в новой работать будет. Отец перед самой войной, как всегда, утром пошел разжигать горн, разжег, сунул заготовку, но вытащить уже не успел. Так и умер возле наковальни с клещами в руках. Сердце остановилось…
Наконец дотаял последний обмылок зари, ветер ворохнул черемуху над головой и сшиб на колени заскорузлого майского жука. Человек подобрал клюку, забросил вещмешок за спину и пошел к полевой дороге, к чернеющему в сумерках сосновому бору. Отдых под черемухой принес облегчение и покой. Все еще было впереди: встреча с матерью и сестрой, недоумения, слезы, хлопоты. Но, еще лежа на земле, он ощутил, что вернулся, и теперь шел так, словно ходил не за тридевять земель и не исчезал в тех землях, а просто вышел глянуть на свою полоску с черемухой, да припозднился. И уже не клокотало так сердце, подкатываясь к горлу, и боль в позвоночнике отпустила. Он вышел из леса и остановился, прислонившись к обглоданной скотом сосенке.
На фоне неба угловато вырисовывались избы с банями на задах, в огородах темнели кучи навоза, тянуло дымком горящей соломы, где-то на другом краю деревни одиноко взлаивала собака. Он отыскал взглядом свою избу с темно отсвечивающими окнами, отметил, что кузня жива, и даже скворешня, поставленная им много лет назад, так и торчит на жерди, словно опознавательный знак. Выбрав место, где изгородь пониже, он перелез в огород и направился к кузне. Может, еще не нарушили горн, может, и инструмент цел, и «старшой» жив? Поднять-то вряд ли поднимешь, но хоть за черенок подержаться.
Он тихо приблизился к «предбаннику» кузни, всегда заваленному железным хламьем, и нашарил скобку двери. Но прежде чем открыть дверь, заметил веревку, протянутую вдоль забора. На ней висело белье – чудное, непривычное в деревне. Уж не Марейка ли рядится? Он потянул дверь на себя, однако, никогда не запираемая, кузня оказалась закрытой изнутри. Дверь стукнула неведомым затвором, и в ту же секунду он услышал говор…
Попятившись, он запнулся о вросшее в землю колесо, упал и отполз к городьбе. Под руки угодила ржавая полоса от обода, кривая, будто сабля, и острая. В кузне говорили по-немецки. Он вытер ладонью лицо, отбросил железку. Этого не могло быть. Откуда взяться немцам? Нет, видно, послышалось. Вот же изба стоит, кузня, вон скворешня торчит. И черемуха на полосе тоже была… Он встал на ноги и, держась за городьбу, подошел к избе. Двор за войну еще пуще захламился. От калитки до крыльца лишь тропка осталась. Кругом валялись березовые комли и сучковатые чурбаки. Такие дрова и сырыми-то не больно расколешь, а видно, кто-то недавно тюкал их топором, пообщипал лучину с краев. Он снял котомку и прислушался. В избе тихо, слышно только – корова в стайке жует сено, шелестит объедьями. То ли постучаться сразу, то ли посидеть еще, собраться с духом. А то ведь и напугать можно. Мать-то с Марейкой, поди, и не ждут…
Он перевернул комлевый чурбак, намереваясь сесть, и замер. В проеме растворенной калитки стояла мать. Он узнал ее, хотя в потемках не было видно ни лица, ни рук. Только силуэт в длиннополой одежине и платке шалашиком.
– Это я вернулся, мама, – сказал он.
Мать перекрестилась, ухватилась за столбик калитки.
– Да ты не пугайся, не с того света. Пришел вот, – добавил он. – Поди, и не ждали…
Бог весть как, но наутро вся Чарочка уже знала, что вернулся Бес – Сашка Великоречанин. Его проводили на фронт осенью сорок первого, а летом, на будущий год, Великоречаниха получила похоронку. То была первая похоронка, принесенная в Чарочку. Смерть Сашки словно отрезвила. Его оплакивали всей деревней, народ в избе Великоречаниных колготился с утра до ночи. Мужики, уходившие на фронт, смурнели, перешептывались – война чище, поди, империалистической. Если уж такого парня ухлопала, значит, серьезная война…
Казалось, сносу ему не будет, Сашке-Бесу. В пятнадцать лет на его плечах отцовы рубахи трещали. К действительной под потолок выдурил. В какую избу ни зайдет – лбом косяк чуть не выбьет. Попал служить в кавалерию, да недолга вышла: на занятиях по случайности срубил он ухо коню, так под самый корень и снес. Испортил, можно сказать, строевую лошадь, за что и списали его в кузницу, к горну. Три года ковалем отслужил, пришел домой – рассказать нечего. Митька Кулагин, с которым вместе без штанов бегали, так тот аж повоевать успел на Халхин-Голе. Парни вечером соберутся, он им про бои рассказывает, про японцев – слушают, рты разинув. Федор Малышев, тоже одногодок, про танки. И все у них так складно получается. Раззадорили Сашку Великоречанина, он взял и брякнул, как шашкой лозу рубил да ухо коню по нечаянности отхватил. Вся деревня смеялась.
Однажды в Чарочку приехал уполномоченный по заготовкам, лошадь у него по дороге расковалась. Позвали кузнеца. Отец Сашкин, Тимофей Великоречанин, еще живой был. Взял он жеребца под уздцы, привел к станку, поставил и только начал копыто чистить, как жеребец словно взбесился. Ломится в станке – столбы трещат, все растяжки изорвал.
– Гляди, зашибет, – предупредил уполномоченный. – Конь-то породистый, нервный.
Тимофей и так и эдак к нему – ни в какую! Носовертку надеть не дает, чуть руку не откусил. Тимофей был мужик настырный, пластом ляжет, в мать-перемать изругается, но своего достигнет. А тут – хоть убейся. Жеребец уже хрипит, бьется, ни уговором не взять, ни силой. Народ вокруг собрался, глядит, уполномоченный из себя выходит.
– Тять, дай-ка мне лошака, – попросил Сашка. – А ты покури пока.
Тимофей в сердцах всех богов помянул, однако отошел в сторонку и сел на землю с мужиками. Сашка вывел жеребца из станка, привязал повод к столбику и под пузо к коню полез. Тот стоит как вкопанный, и только бока ходят – умаялся. Народ притих, дохнуть боится. А Сашка зажал заднюю ногу жеребца между колен, спокойно так копыто вычистил, стрелку подрезал и начал ковать. Он гвозди бьет – у мужиков самокрутки пальцы обжигают, а жеребец стоит себе и только головой качает. С одним копытом управился, пот со лба смахнул, а конь-то другую ногу сам подставляет, да еще и оглядывается, дескать, бери, что стоишь. Сашка взял ее, поглядел и стал отрывать старую подкову. Отрывает и поругивается, мол, кто же это ковал так? Будто к чурке подкова приколочена, а не к копыту. Полчаса не прошло – жеребец перекованный стоит.
– От бес! От бес! – спохватился Тимофей Великоречанин, и народ зашевелился – колдовство какое-то. – Ты что ж, Шурка, слово знаешь какое?
Сашка пожал плечами, собрал инструменты и пошел в кузню. Слова он не знал, но еще в армии понял, что породистые лошади смерть как не любят станка. Это колхозную клячу можно в станке ковать, ей воля-то не в привычку, да и нерв не тот. А чистой крови жеребца подвешивать в станке не смей. Он только чуть землю под копытами потерял – взбесится, сам убьется, но веревки не стерпит.
Отец же после этого целый день ходил будто ужаленный, хлопал себя по бокам и восклицал: «От бес!» – и всем подряд рассказывал, как его Сашка сладил с норовистым жеребцом. А деревенским прозвище только в рот положи – так и присохнет к языку…
И вот Сашка, убитый еще в сорок втором, вернулся в Чарочку.
Списанный «по чистой» и недавно выбранный деревней председатель сельсовета Дмитрий Кулагин чистил от навоза стайку, когда к нему пришел безрукий, с обгорелым лицом танкист Федор Малышев.
– Слыхал – нет, Бес-то вернулся! – радостно выпалил он. Федор, видимо, улыбался, но Кулагин еще не успел научиться различать улыбку на обезображенном, безгубом лице.
– Слыхал. – Дмитрий воткнул вилы. – Прибегали уж.
– Говорят, в плену был, в Германии.
– А где ж еще, если ночью домой крался, как вор. – Дмитрий оперся на вилы и прикрыл глаза. Голова кружилась, стреляло в ушах, и ком тошноты подпирал горло.
– Пошли, что ль? Я четушечку с собой прихватил, – то ли радовался, то ли злился бывший танкист. – Думаю, Великоречаниха-то не ждала Сашку. Откуда у ней? Дай, думаю, возьму.
Кулагин пересилил боль, выбрался из стайки на воздух и сел на завалинку. От залежавшего навоза пахло порохом, вернее, дымом только что разорвавшегося снаряда, и этот запах будил оставшуюся после контузии боль, царапал нервы. Дмитрий отдышался, сплевывая неприятный вкус меди во рту, помог заправить Федору выбившиеся из-под ремня рукава гимнастерки.
– Ну, айда? – позвал Федор. – Глянем на Беса. Говорят, и он калеченый, с палкой пришел.
Кулагин зашел в избу и стал одеваться. Синие армейские галифе и гимнастерка повисли на нем как на колу, отчего плотный ряд начищенных медалей заехал куда-то под мышку. Дмитрий словно истерся, измылился на госпитальных койках. Впору были лишь хромовые довоенные сапоги, шитые чарочинским сапожником к свадьбе. Кулагин затянулся широким командирским ремнем с медными цацками для кобуры, прогулялся бархоткой по голенищам сапог и смял их в гармошку.
– Ты, Митька, будто на парад собираешься, – то ли одобрил, то ли осудил Федор Малышев. – Эка вырядился.
Дмитрий оглядел себя в темном, с ржавыми потеками, зеркале и тряхнул головой.
– Парад не парад, а мы должны показать ему…
– Чего показать? – не понял Федор.
– Показать, что мы с тобой воевали, Отчизну, значит, защищали, – объяснил Кулагин. – А не по пленам отсиживались.
– Так он, поди, не нарочно, – подумав, сказал Малышев. – Случай вышел. Кто сам к немцам пошел – тех домой не пускают.
– Что теперь толковать: нарочно, нет! – рубанул Дмитрий. – В плену был – факт! А вот ты зря награды не надел. Иди надевай. Пускай на твой орден поглядит! И нашивки за ранения.
– Что нашивки, – отмахнулся Федор. – У меня на морде все нашито.
– Тогда хоть орден надень, – сказал Кулагин. – Пускай знает, как мы воевали. Мне тоже за последний бой орден посулили. Комиссар так и сказал: к Красной Звезде представлю тебя, товарищ Кулагин… Должон прийти.
– Придет, – успокоил Малышев. – Айда скорей.
Федор шагал быстро, уверенно, махая в такт культями рук, спрятанными в гимнастерку. Кулагин, опираясь на палку, подволакивал ногу, однако не отставал. Звенели медали, скрипели довоенные сапоги…
До последнего боя Кулагин и царапины от войны не получил. Всяко бывало. Под Псковом среди чистого поля угодил под такую бомбежку, что уж живым не чаял выйти. Целый час земля не успевала оседать, воздух прогрелся от взрывов, насквозь пропитался вонью горелого тола – дышать нечем было. У кулагинского пулемета щиток осколком своротило, кожух, как решето, второго номера землей засыпало – убило, а ему, Дмитрию Кулагину, хоть бы что. В другой раз – в обороне стояли – пять атак за день выдержал.
В пулеметчики Дмитрий попал по своей охоте. Еще в запасном полку сообразил, что воевать с «максимом» легче, чем пехотинцу с трехлинейкой: что ни говори, все-таки щиток есть, да и палит – близко не подойдешь. Это уж потом убедился и понял, куда угодил. Пулемет у немца всегда как бельмо в глазу, он и из минометов по нему хлещет, и из пушек бьет, и бомбы сверху сыплет. Тут еще одно неудобство: пулеметчиков-то всегда вперед траншей выдвигают, в ячейку, и получается, что свои сзади, впереди немцы, а ты – посередине. Кругом пальба – свету белого не видать, а ты ползаешь с «максимом» от одной позиции к другой как вошь на гребешке. Так вот, стоя в обороне, Кулагин пять атак выдержал, пять обстрелов пушечных пережил. И пять раз командир роты «хоронил» пулеметчика. Вроде все, ему кажется, накрыло ячейку прямым попаданием, но только немец в атаку – пулемет заработал. После пятой атаки кончились патроны, а немцы в шестую пошли, и не просто пехотой – с огнеметами. Дмитрий видел, как подносчик боеприпасов заживо вспыхнул, уронил ящики и остался лежать черной головешкой. Ну, подумал Кулагин, теперь-то уж точно конец. Стащил пулемет в ячейку, вжался телом в нишу и замер. Второй номер аж завыл от бессилия. Хоть бы граната какая осталась или трехлинейка на худой случай. Обидно же просто так лежать и ждать, когда подпалят. Но тут вздрогнула земля, плесканулся горячий воздух, и где цепь огнеметчиков шла – только клубы пыли и пламя. Снаряды в полсотне метров от окопа ложились, «свои» осколки визжали над головой ничуть не безопаснее немецких, но не ошиблись пушкари, выручили, хоть и страху нагнали.
Зато под селом Кицканы в Молдавии, о котором Кулагин и не слышал-то сроду, все разом и обвалилось на него. Рота заняла высоту – бугор с обгорелым виноградником, – залегла, окопалась в полный профиль и стала ждать кухню. Немцы с румынами тоже сидят в окопах, но кухонь своих, видно, не ждут, потому что сами в котле. И только кашу на передовую принесли, как начался артобстрел. Котелки смело, а которые остались, так землей кашу испортило. Кулагин второго номера под бок – и к пулемету: сейчас полезут! (Так он всю войну и продержался за пулемет. Была возможность на трехлинейку поменять, да после «максима» винтовка в руках хлопушкой-мухобойкой кажется. То ли дело пулемет: взял в руки, так работу почуял. Не зря Кулагину казалось, что «максим» на плуг похож. Если уж пропашешь – настоящая борозда получается.) И точно, лишь обстрел кончился – румыны в атаку пошли. Кулагин распахал их в хвост и в гриву, однако за румынами немцы очутились, и, видно, здорово пьяные. Лезут цепь за цепью, слышно, песни орут. Здесь-то и начались для Дмитрия Кулагина все несчастья. Сначала продырявили пулеметный кожух. Вода вытекла, и ствол перегрелся. Затем позицию засекли, и посыпались мины. Кулагин пулемет в руки и айда на запасную. Виноградники повалены, танками потоптаны, лозы, как веревки кругом, за колеса цепляются, ноги путаются. А жара, пыль – ползти невмоготу. Только привстал Кулагин, чтобы рывок сделать, осколок в руку попал, разворотил ладонь. Боли Дмитрий не почуял, а словно ошалел в первую минуту, когда свою кровь увидел. Сел и глядит на руку. Второй номер повалил его, сделал перевязку, и пока канителились – немцы вот они, по винограднику скачут. Отстрелялись вроде от них. Второй номер говорит: ты, мол, ползи в траншею, а то кровью изойдешь. Кровь и в самом деле хлещет струей, хоть рука перетянута. Кулагин пополз. Но и трех сажен не успел отползти, как по ноге словно поленом ударили. Поглядел – мать моя! Штанина вместе с бедром разорвана, и нога чуть шевелится. Замотал одной рукой как попало и дальше. До траншеи одного метра не дополз. Снаряд ударил сзади, взрыв отшвырнул Дмитрия и смешал с землей.
В один день за все сразу посчиталась с ним война…
После долгих разговоров-расспросов, после слез с причитаниями и бессонной ночи Великоречаниха будто помолодела. Утром – уж солнце взошло и ор петушиный, колыхнувшись, затих – она спохватилась, оторвала Марейку от братца и сама, насилу оторвавшись, принялась готовить на стол. Марейка с подойником – под корову, подергала худое вымя, поширкала синеватыми струйками молока – едва кружка надоилась.
– Зимой отелилась, а молочка-то нет, – застонала Великоречаниха. – И попоить-то вволю нечем… Да и какое уж молочко, спасибо, хоть плуг тянет.
А у самой щеки пылают, глаза светятся. Давай картошку на драники тереть да второпях-то казанками пальцев о терку. Терка самодельная, зубастая – кровь так и брызнула. А Великоречаниха только засмеялась:
– Эка, полоротая!
Ничего, перетерпела, тряпицей пальцы завязала и снова за драники. Муки наполовину подмешала, топленого масла – угощать так угощать. Теперь-то, когда Сашка вернулся, они выживут! Вчера еще картошку берегли, травой сами обходились. Крапива по загородью пошла, едва снег стаял; в лесу колбы и медуницы полно. А нынче что ее беречь? Сашка вернулся – завтра блины есть будут. Кузнеца в деревне до сей поры нету, а Сашка хоть и больной пришел, но помаленьку стучать может. «Я, – говорит, – день и ночь работать буду, все равно по ночам спать не могу. Мне б только парнишку в подмогу взять, молотобойцем».
– Ой, Сашка! – вспомнила Велкоречаниха. – Ты Вальковых парнишку-то помнишь? Ему уж шестнадцатый пошел, на вид мужик мужиком. Возьми-ка его себе. И мать радая будет!.. Марейка! Ну-ка сбегай за Ванечкой, покличь к нам.
– Погоди, мать, – остановил сын. – Неудобно звать-то. Сам схожу потом.
Великоречаниха нажарила драчиков, укрыла миску полотенцем, чтобы не остыли, пока картошка доваривается, и собралась было в погреб сала принести, но в это время в избу зашла немка Кристина Шнар, сухопарая пожилая женщина.
– Трастфуйте, – старательно проговорила она, окидывая взглядом избу.