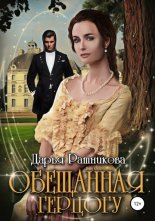Мои современницы Достоевская Любовь
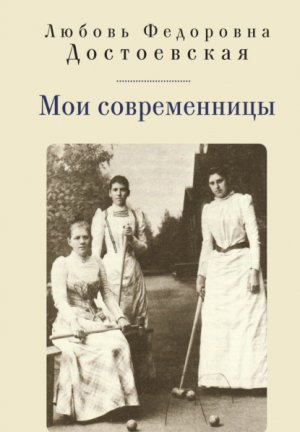
Жалость
– Ляля!
Молчание. Худенькая белокурая девочка сидит на полу возле раскрытого книжного шкафа и жадно читает.
– Ляля! Ты меня слышишь? Брось книгу и иди обедать! Ляля! Да очнись же, матушка!
Лялю, наконец, отрывают от книги и ведут обедать. За столом она сидит молча, тупо смотря на родных. Лицо ее опухло и покраснело, наклоняясь над книгой. Всё тело болит от неловкой позы, но она ничего не замечает. Ум ее продолжает еще витать в том прекрасном сказочном мире, куда его перенесло чтение. Действительная жизнь маленькой Ляли так скучна, так бесцветна, так однообразна! Так надоели одни и те же приевшиеся лица! Других же нет и пойти некуда. У Ляли Радванович нет ни знакомых, ни подруг. Ее никуда не возят; она не знает ни детских балов, ни игр. Ее родители люди серьезные, бедные, трудящиеся. Им не до праздников и не до увеселений.
Ляля еще не поступила в гимназию и учится дома. Учение мало ее интересует. Вся ее радость, всё ее счастье – книги. Она читает с утра до вечера, с трудом отрываясь от книг для обеда, уроков и прогулки. Никто не контролирует ее чтения. Книжный шкаф стоит без ключа. Ляля берет из него, что хочет: «Анну Каренину», «Историю жирондистов», «Нана»[44], «Путешествие инока Парфения»[45] и т. п. Многого она, разумеется, не понимает; иногда, соскучившись, пропускает целые страницы. Впрочем, это ничуть не мешает интересу чтения. Часто она развертывает книгу на половине и тотчас же погружается в интригу романа; читает его до конца, а, затем кончив, прочитывает начало. Голова ее всегда полна героями и героинями; картины гор, морей, разных городов витают перед нею. Она отвечает родным невпопад, глядит, не видя ничего перед собою, бледнеет, худеет, жалуется на головную боль. Встревоженные родители находят, что Лялю следует развлечь, свести в театр. Долго выбирают пьесу и, наконец, везут ее смотреть… «Отелло», с участием заезжего знаменитого трагика. Театр действует на Лялю еще сильнее, чем книги. Она живет на сцене, не отрывает глаз от актеров, негодует на антракты. В сцене удушения Дездемоны она дрожит и плачет. Ночью Ляля не спит и со страхом смотрит в темноту. Ей чудится, что кто-то приближается к ней, наклоняется и хочет задушить. Ляля вскрикивает и просыпается в холодном поту…
Вот Ляле минуло 15 лет. Путешествия исторические и политические и сочинения не интересуют ее более. Она предпочитает им романы, в особенности объяснение в любви. Это и понятно: ведь Ляля влюблена. Случилось это внезапно. Два года тому назад один дальний родственник, моряк, перед отъездом в кругосветное плавание заехал к родителям Ляли проститься и подарил им свой портрет. Моряка угостили обедом, а портрет вставили в красную плюшевую рамку и повесили на стену. На Лялю моряк не произвел никакого впечатления; она в то время увлекалась чтением «Тысячи и одной ночи» и жила больше в Персии, чем в Петербурге. Но через два года, случайно взглянув на его портрет, Ляля вдруг почувствовала, как затрепетало ее сердце. Она стала всё чаще и чаще подходить к портрету и через неделю была влюблена в Константина Р-ского. Целый день, сидя за уроками, играя на рояле гаммы, гуляя по улицам, а особенно вечером, ложась спать и погасив свечу, она мечтала о нем и рисовала картину будущего счастья, когда Р-ский вернется из плавания и женится на ней. Почему-то в ее мечтах родители не соглашались на этот брак; тогда милый, дорогой Костя похищал ее из окна, по веревочной лестнице. Они вместе бежали в Италию, в Венецию и, Боже, какое счастье ждало их там! Ляля рисовала себе их объяснение в любви, их ласки, их образ жизни. Несмотря на беспорядочное чтение, Ляля была так наивна и невинна, что в мечтах ее после целого дня горячих поцелуев они вечером желали друг другу спокойной ночи и расходились по своим комнатам…
Вскоре, однако, Лялины подруги по гимназии, в которую она год тому назад поступила, нашли нужным ее «просветить». Во всю свою последующую жизнь Ляля не могла забыть этого «просвещения». Как-то раз в большую рекреацию, во время завтрака, разговор зашел о любви. Девочкам было 14–15 лет, и тема эта одинаково всех интересовала. Ляля горячо, с пафосом, о ней говорила, называя любовь «святым» чувством. Товарки ее переглядывались между собою и хихикали:
– Да она совсем еще дурочка, – решила одна из них, – послушай, Варя, ты сидишь с ней на одной скамейке, тебе следует «все» ей объяснить.
Варя отнекивалась, девочки настаивали. Ляля, широко раскрыв глаза, удивленно переводила их с одной на другую. Наконец Варя сдалась на доводы товарок, обняла Лялю за талию, увела ее в уголок и шепнула несколько слов на ухо. Девочки с интересом следили за «просвещением». Ляля побледнела, зашаталась и с диким видом смотрела на Варю. Всё помутилось в ее глазах, и она бы упала, если бы не подхватили подруги.
– Воды скорей, бегите за Августой Петровной! – испуганно кричали девочки.
За классной дамой побежали.
– Радванович, голубушка, не выдавай нас! – растерянно шептали гимназистки.
Классная дама испугалась, увидав Лялю. Она сама свела ее вниз, помогла одеться и отправила домой на извозчике в сопровождении школьного сторожа.
Дома Лялю мигом раздели, напоили малиной и уложили в постель. Ляля ничего не говорила и молча всему повиновалась. Она чувствовала себя раздавленной и не могла собрать мыслей. Только ночью, когда все уже уснули, она, наконец, сообразила, в чем дело, и горько заплакала, забившись в подушку и изо всех сил сдерживаясь, чтобы ее не услышали.
«Кончено, всё кончено! Прощай, светлая мечта о Косте! Всё погибло: она обречена на вечное девичество, на вечное одиночество». Это было первое большое горе в жизни Ляли, и долго не могла она оправиться и забыть его. Тяжелее всего было то, что не о чем стало больше мечтать. Мечты были насущной потребностью Лялиной жизни.
Отнимите табак у ярого курильщика или вино у пьяницы, и вы поймете ее состояние. Страдания Ляли к концу второй недели стали невыносимы, и неизвестно, чем бы они кончились, если бы, вдруг, блестящая комбинация не пришла ей в голову.
Ляля решила, что когда Костя Р-ский сделает ей предложение, то она его примет, но затем, через несколько дней, уведет его в сад, в старую беседку, и там скажет ему, что она случайно, в гимназии, узнала в чем заключается брак. Что «это» противно ее убеждением, и она никак согласиться на то не может. Вместо того Ляля предложит Косте жить по-братски, но так как без детей им будет скучно, то после свадьбы они оба поедут в Воспитательный дом и выберут там себе по вкусу девочку и мальчика. Костя наверно согласится. Он ведь такой деликатный! Ему самому наверно всё «это» противно. Ляля была в восторге от своей идеи. Обрадованное воображение заработало с новой силой, и картины их будущей жизни и семейного счастья замелькали перед Лялей, радуя и веселя ее и скрашивая ее грустную молодость.
К девятнадцати годам судьба Ляли круто изменилась. Родители ее умерли, и Лялю взяла к себе тетка, бездетная вдова. Она горячо полюбила племянницу и решила сделать ее наследницей своего состояния. Ляля стала богатой невестой. К этому времени она кончила гимназию, и тетка решила, что пора вывозить ее в свет. Ляля сама мечтала о людях. Она выросла в одиночестве, а потому люди интересовали ее больше всего: больше книг, больше театра. К тому же она всё более и более мечтала о любимом человеке и надеялась встретить его в обществе. Константин Р-ский давно уже женился в Севастополе, где служил, вернувшись из плавания. Ляля горько плакала, узнав о его женитьбе. О, глупый человек! Он и не подозревал, какое счастье ждало его в Петербурге!
После этой измены Ляле пришлось испытать еще две сильные страсти: одну к Борису Троекурову, герою «Перелома» романа Маркевича[46]; другую – к шведскому наследному принцу[47], портрет которого случайно попался ей в руки. Но теперь оба эти увлечения уже прошли, и Ляля мечтала, как встретит она прекрасного, доброго, умного человека, который откроет ей свою душу и оценит ее сердце.
Тетушка Ляли принадлежала к так называемому «хорошему обществу». Люди, принимаемые ею, были прекрасно воспитаны, тщательно вымыты и нарядно одеты. Ляля любовалась на блестящую отделку их ногтей и безукоризненные проборы волос, но очень удивлялась ничтожеству их разговора. Не то, чтобы не было между ними умных людей; встречались и умные, хоть и не в большем числе. Но они тщательно старались подавить в себе всякую оригинальность и своеобразность. У всех была одна цель: ничем не выдаваться и во всем походить на других. Удивлялась Ляля также тому, как плохо они были образованы в литературном отношении и как мало они читали. Они знали все знаменитые произведения по названию, но, по-видимому, не нашли еще времени, чтобы их прочесть. Плоские шуточки, глупенькое балагурство, ничтожный flirt – вот всё, чем наполняли они вечера и собрания.
Два-три человека принялись было серьезно ухаживать за Лялей, но она с негодованием их отвергла. «Им не я нужна, а ваши деньги, – заявила она тетке, – меня же берут лишь в придачу».
Ляля отчасти была права. Ее женихи не настаивали, не отчаивались, а найдя через несколько месяцев (а иногда и недель) более сговорчивую невесту с хорошими средствами, посылали Ляле пригласительный билет на свою свадьбу.
Раз как-то она поехала на журфикс к одной из своих приятельниц. Народу собралось немного. Выпив чай, молодежь из столовой перешла в гостиную и хотела было начать игру в «secretaire»[48]. В это время из кабинета хозяина дома, где сидели «большие», к молодежи присоединился Виктор Б-в. Он, впрочем, и сам был еще молод, лет 27–28, не более, но удивительно серьезен и сосредоточен для своих лет. Он некоторое время молча присматривался к игре, и вдруг заговорил. По какому-то поводу он затеял спор с кем-то из присутствующих. Тот было отвечал ему, но скоро замолк, и разговор перешел в монолог Б-ва. Он говорил горячо, пылко, волнуясь о Боге, о любви, о христианстве. Голос его, глухой вначале, звенел, его смуглое, бледное лицо покраснело, черные глаза сверкали. Все молча слушали, не смея пошевелиться, и, как очарованные, не сводили глаз с оратора. На Лялю он произвел глубокое впечатление. Ей едва удалось обменяться с ним несколькими словами, но образ его, как живой, стоял перед нею. Ляля сделалась усердной посетительницей журфиксов своей подруги, но увы, Б-в более не появлялся. Поборов свою стыдливость, Ляля начала про него расспрашивать. Ей сказали, что он начинающий писатель и очень странный человек: то вздумает ходить каждый день, то исчезает по целым годам. Ляля тотчас купила его повести и принялась читать. Несмотря на всю симпатию к автору, литературное чутье Ляли, развитое многочисленным и разнообразным чтением, подсказало ей, что у Б-ва не было художественного таланта. Его герои были холодны, неуклюжи и прямолинейны. Они напоминали наивные рисунки древних египтян. Но прекрасная душа автора сквозила в каждой строчке; горячее сердце, любовь к правде, жажда справедливости – всё это пленило Лялю. Она уже любила Б-ва; она искала встречи с ним на улице, в театре, в обществе и тосковала, не находя его – Б-в исчез бесследно.
Прошло больше года. Однажды осенью Ляля, просматривая утром газету, наткнулась на известие, которое заставило ее похолодеть. Вот что там стояло:
«Наш молодой, подающий большие надежды, писатель, Виктор Б-в, находится в настоящее время в Киеве, в больнице. По дороге на юг, куда она ехал лечиться от чахотки, он схватил воспаление легких. Средств у него нет никаких, и он испытывает большую нужду. Следовало бы литературному фонду обратить внимание на грустное положение молодого писателя».
Газета выпала из рук Ляли. В сильном волнении принялась она ходить по комнате. Наконец, обдумав, подошла к письменному столу и принялась писать Б-ву. Она писала, что любит его, предлагает ему себя в жены, а если он не хочет, то в сиделки, в сестры милосердия. Сообщала, что выезжает немедленно вслед за письмом, с тем, чтобы ухаживать за ним в Киеве.
Ляля писала, не заботясь о слоге, с кляксами и помарками. Только окончив письмо, она сообразила, что не знает, куда адресовать его. Даже отчество Б-ва было ей неизвестно. Она решила пойти в редакцию газеты, чтобы узнать его адрес. На беду, подошло два праздника подряд и лишь на третий день могла открыться редакция.
Ляля почти не волновалась. Ничего не говоря тетке, она потихоньку укладывала самое необходимое в дороге и считала деньги. Их у нее было немного, но Ляля надеялась заложить где-нибудь подаренные ей теткой драгоценности. Отсутствие паспорта мало ее беспокоило. В Киеве она тотчас пойдет к губернатору и всё ему объяснит, а там приедет тетка и всё уладится.
Настал, наконец, третий день – решительный, но действовать Ляле не пришлось: газета извещала о смерти Б-ва… Ляля не плакала, но строго себя судила. «Этот прекрасный человек страдал, умирал, погибал от бедности, а ты в то время мечтала и строила воздушные замки. Надо было давно откинуть девичью стыдливость и отыскать его. Не следовало ждать, когда он придет к тебе просить сочувствия; гордые люди ни к кому со своим горем не ходят. Надо было самой прийти и предложить помощь. С своим приданым ты могла бы свезти его в Египет или Алжир. Он был молод; при тщательном лечении и комфорте он мог поправиться, и вот ты бы спасла хорошего человека».
Ляля не оправдывалась перед своей совестью; она лишь дала себе слово запомнить этот урок.
Ляля по-прежнему продолжала выезжать, отчасти по настоянию тетки, отчасти по личному желанию, так как любила людей, и их общество ей было необходимо. Но помимо балов и вечеров ее домашняя жизнь мало отличалась от прежней, детской. По-прежнему она много читала и много думала. Она любила также гулять, причем могла много ходить. Для прогулок Ляля никогда не выбирала Невский, Морскую, Набережную, т. е. те места, где могла встретить людей своего круга. Она предпочитала другие улицы. Лялю забавляло определять характер разных частей Петербурга.
На Мойке, Миллионной, Конюшенной всё было барское, старинное, времен Пушкина. В домах с колоннами, в стиле Empire, казалось, жили еще франтихи 20-х годов. Так и чудилось, что вот выйдут они из подъезда садиться в карету в своих горностаевых салопах и буклях. На всех углах виднелись отметки о наводнении 1824 года. Жители этой части города всё еще жили наводнением, да и вообще, мало по-видимому изменились с тех пор.
Казанская часть казалась ей мещанской и вульгарной. Тут всё больше попадались немцы-ремесленники, угрюмые, сосредоточенные, куда-то спешащие по делу. Дома все были в мелких квартирах, низких, мрачных, угрюмых. Никто не думал о красоте и комфорте – было бы чем прожить.
На Песках всё было добродушно, по-провинциальному. Вокруг маленьких деревянных домиков зеленели садики и палисадники, лаяли собаки, кричали петухи, пахло жареным кофе. Жители домиков выходили на улицу по-домашнему, знали друг друга в лицо и с недоумением и любопытством смотрели на чужого.
По Лиговке, за Николаевским вокзалом, шла сторона фабричная. Ляля любила ходить сюда по праздникам около вечерен. Рабочие в ярких рубашках играли на гармонике; их жены с грудными детьми на руках щелкали семечки; старшие дети барахтались и играли возле, и звучный здоровый хохот, песни и шутки слышались со всех сторон. Ляле часто казалось, что здесь, может быть, живут самые веселые, счастливые и беззаботные петербуржцы.
Ляля любила свой Петербург и горячо принимала к сердцу его красоту и благоустройство. Каждое новое украшение – мост, памятник, музей, она считала личным себе подарком, тревожилась и интересовалась, пока они строились, и торжествовала, когда их кончали.
Гуляя по улицам, Ляля с увлечением всматривалась в лица попадавшихся ей на встречу людей. Ей нравилось догадываться, кто могут быть эти люди, где живут они, что думают, чем занимаются. Часто она создавала так целые романы.
Порой встречалась ей военная музыка. Куда бы она ни шла, Ляля тотчас поворачивала вслед за нею и бодро шагала в такт. Мысли ее неслись вихрем и всегда были героического содержания. Вот она на войне: приезжает туда в качестве сестры милосердия. Сначала исполняет свои обязанности, но когда наступает решительная битва, то Ляля одевает солдатскую шинель и фуражку и идет в бой. Вот она во главе роты. «За мной, братцы, за мной!» – кричит она и бежит вперед со знаменем. Вражеская пуля ранит ее, и она умирает, прижимая знамя к сердцу. Слезы умиления и восторга туманят ее глаза, грудь сжимается, сердце бьется… но музыка кончается, и Ляля возвращается на землю. С недоумением оглядывается она вокруг: ни солдат, ни битвы, ни знамени. Она стоит в какой-то неведомой улице, куда ей совсем не нужно было заходить. И смешно становится Ляле и стыдно своей горничной, которая по приказу тетушки всюду ее сопровождает и почтительно следует за барышней.
Как-то раз, зайдя чуть не за город, Ляля нечаянно оглянулась и увидала залитое слезами лицо своей молоденькой служанки.
– Что с вами, Дуняша? – с удивлением спросила она.
– Я очень устала, барышня, – всхлипывала бедная девушка, – ноги у меня болят.
Ляля тотчас взяла извозчика и с раскаянием смотрела на горничную.
«Ведь этакий чудовищный у меня эгоизм, – упрекала она себя. – Я увлеклась своими мечтами, а об ней и забыла. И какая нелепость давать мне, здоровой, взрослой девушке, охрану в виде слабой малокровной крестьянки! Ну, как она может меня защитить? Да и кто меня обидит?»
Ляле даже смешно стало при мысли, что ее кто-либо может обидеть. Она хорошо понимала свой характер.
Ляля была смела и решительна; людей ничуть не боялась; к общественному мнению относилась с презрением или, вернее, оно совсем для нее не существовало. Людские приличия, обычаи и даже законы считала она делом рук человеческих, a следовательно, хрупким и несовершенным и не задумалась бы их нарушить, если бы того потребовала ее совесть. Таким натурам люди не страшны – страшна идея. Раз поразив их, идея способна испортить, исковеркать всю их жизнь.
Между тем в доме Лялиной тетки появился человек, которому суждено было сыграть большую роль в жизни Ляли. Он сразу обратил на себя ее внимание. То был молодой инженер, лет 27–28, белокурый и черноглазый, с умным и добрым лицом. Но не это поразило Лялю. Поразила ее его изумительная ребячливость. Он шалил, острил и веселился, как бы мог веселиться пятнадцатилетний мальчик. И вместе с тем Ляля чувствовала, что он не только умен, но много читал, много знал и способен был задумываться над глубокими и серьезными вопросами. Это-то и удивило Лялю. Она привыкла, чтобы к ней относились как к умной девушке и недоумевала, почему Кевлич так старательно избегал всяких серьезных тем, предпочитая пустые разговоры и неудачные остроты, над которыми сам же первый смеялся. Ляля недоумевала, сердилась, обижалась и, наконец, стала отдаляться от Кевлича, который по-видимому ничего не замечал и аккуратно посещал ее журфиксы, находя большое удовольствие в веселой толпе Лялиных подруг и знакомых.
Так прошла зима. Однажды весною, вернувшись с прогулки, Ляля нашла свою тетушку в большой ажитации. Она ходила в волнении по кабинету, пила воду и обмахивалась веером. Увидав племянницу, она взяла со стола письмо и молча ей протянула. Письмо было от Кевлича. Ляля с удивлением принялась читать и с каждым словом удивление ее росло.
«Многоуважаемая Евдокия Сергеевна, – писал Кевлич. – Вы пригласили меня провести у вас вечер в прошлую среду, – я отказался; я сказался больным, между тем я был здоров. Не пришел же я потому, что убоялся излишней любезности, которую встречаю в доме Вашем. Любезность эта напрасна. Простите, что откровенно говорю Вам это, но, мне кажется, лучше, чтобы меж нами не было больше недоразумений».
Окончив это удивительное послание, Ляля молча посмотрела на тетку. Лицо ее было красно от негодования и стыда.
– Ты понимаешь, – пылко и волнуясь, заговорила Евдокия Сергеевна, – этот мальчишка вообразил себе, что я хочу женить его на тебе. Ничтожный инженер, без копейки денег, серьезно думает, что я тебя, мою Лялю, ему отдам. Мало того, стану за ним бегать! Это только мужчины способны на подобное самомнение. Ну, уж, и проучу же я его! Вот я тут набросала черновое письмо. Выслушай и скажи твое мнение.
Тетушка с торжеством, отчеканивая каждое слово, принялась читать, видимо гордясь своим произведением. Письмо, действительно было прекрасно написано и, без сомнения, должно было уничтожить Кевлича. Племянница дала свое согласие и письмо немедленно отправили с посыльным.
Ляля заперлась в своей комнате. Стыд и обида охватили ее. «За что такой позор, – горестно восклицала она, – что я сделала, чем его заслужила?» Обвинить ее, гордую честную Лялю, в беготне за мужчинами, за женихами. Господи! Да если бы она кого и любила, и была бы любима, то и тогда она долго раздумывала бы и строго себя проверяла, прежде чем решиться на брак.
Неужели же и другие мужчины также мало ее понимают? О, Боже мой! Да стоит ли, стоит ли жить среди этих ничтожных людей?
Долго плакала и горевала бедная девушка. Совсем уже стемнело; пора было обедать. Вдруг дверь отворилась и в комнату вошла Евдокия Сергеевна с весьма сконфуженным видом.
– Прочти, – сказала она, протягивая Ляле письмо, – вот ответ Кевлича.
С замиранием сердца принялась Ляля за чтение, и с первых же слов всё стало ей ясно. Письмо несомненно было написано больным человеком. Обрывки мыслей, недоконченные фразы, перемешанные с текстами из Евангелия, просьба о прощении, мольба об участи – всё это представляло хаос, ярко рисующий состояние больной души.
– Он или сошел с ума, или сойдет на днях, – заговорила Евдокия Сергеевна, – бедный, бедный мальчик! И как это я сразу не поняла, в чем дело. Как тяжело теперь думать, что я обидела его моим ответом! И зачем я так поспешила его послать!
Кевлич, действительно, заболел и был помещен в N-скую больницу для душевнобольных. Его все любили и все искренно жалели, но, как водится, пожалев, забыли. Не то было с Лялей. На ее болезненную нервную натуру весь этот эпизод произвел глубокое впечатление. Она взяла у тетки второе письмо Кевлича и не расставалась с ним. Она перечитывала его, вдумываясь в каждое слово, и яркая картина погибающей человеческой души восставала перед нею. Ляля переживала его тоску и отчаяние, сознание подступающей болезни, борьбу с нею, страстное желание услышать от людей слово сочувствия и утешения. Но беспощадная болезнь сломила его; люди, ради собственной безопасности, поспешили запереть его в больницу, предоставив его докторам. Сами же они по-прежнему веселились и наслаждались жизнью, о нем не думая. Что за беда, что в этой «course du flambeau»[49] один упал? Не останавливаться же ради него! Отбросим его и побежим далее!
– Но неужели же и я также поступлю, – думала Ляля, – пожалею о нем, a затем буду продолжать прежнюю жизнь со всеми петербургскими увеселениями? Честно ли это? Справедливо ли?
И Ляля вновь перечитывала письмо, и ей казалось, что в этом последнем обращении Кевлича к людям, он звал ее на помощь, звал идти за ним. Неужели она ему откажет?
И Ляля решилась. Она разом прекратила все свои выезды, порвала со знакомыми и затворилась у себя в доме. Каждую неделю она ездила в N-скую больницу. К Кевличу пока не пускали, но Ляля перезнакомилась со всеми докторами, сторожами и больничной прислугой. Она читала книги о душевных болезнях, стараясь составить себе понятие о их лечении, и присматриваясь к тем больным, что выходили на прогулку. Мало-помалу весь интерес ее жизни перешел в N-скую больницу. Ляля начала чувствовать отвращение к здоровым людям. С ненавистью вглядывалась она в красивых, румяных мужчин, что встречались ей на улице.
– Я ненавижу вас, самодовольных, веселых прожигателей жизни! – говорила она про себя, – вы думаете, что вы счастливы? Правда, вам везет по службе и в любви, но знаете ли вы, что ваши жены любят вас лишь за ваши деньги и служебное положение. Никогда, никогда не узнаете вы любви лучших девушек, которые любили бы вас за ваше сердце и душу! Все истинно хорошие женщины принадлежат не вам, a тем, другим, которых вы так презираете: больным, арестантам, униженным жизнью или законом. Те люди никогда одни не останутся. У них не будет ваших жалований, повышений, орденов, но они, одни только они, узнают, что такое настоящая женская любовь и преданность.
К Кевличу, наконец, пустили. Ляля готовилась увидеть больного, услышать дикие слова, бессвязные речи и очень удивилась, увидав перед собою светского человека, прекрасно собою владеющего, сохранившего весь свой ум, остроумие и веселость. Проговорив с ним четверть часа, она пошла давать отчет доктору.
– Да он совсем здоров, – с недоумением говорила ему Ляля.
Доктор печально качал головой. Он разрешил еще несколько свиданий. Ляля с восторгом смотрела, как поправлялся Кевлич. Она посылала ему книги, цветы. Ей так хотелось сказать ему, что она любит его, что он в ее глазах выше, умнее, прекраснее всех мужчин в мире. Но она боялась взволновать Кевлича и тщательно взвешивала всякое слово. Разговор их был обыкновенным светским разговором, что ведется в любой гостиной. Но эти беседы доставляли Ляле глубокое счастье и довольство. Она порозовела и похорошела, ходила с сияющим счастливым лицом, напевая про себя. Тетка с некоторым удивлением к ней приглядывалась. Она и не подозревала о Лялиных посещениях N-ской больницы. Ляля давно уже освободилась от своей дуэньи – горничной и гуляла одна. Тетка, занятая своими делами, не замечала, что племянница раз в неделю пропадает на 4–5 часов. Она, вообще, мало понимала Лялю и часто дивилась фантастичности ее характера. У племянницы ее не было ни поклонников, ни женихов, ни flirt’oв, как у всех ее сверстниц. Она не имела подруг и тщательно таила про себя свои чувства и мысли. Тетушка дивилась, глядя, как Ляля то сидела по целым часам в темной комнате, не отводя глаз от лампадки, теплившейся перед образом, то шла гулять и, вернувшись через три часа, не помнила, по каким улицам ходила; то откапывала в шкафу какую-нибудь допотопную книгу в роде «Mmoires d’outre tombe»[50] и говорила об авторе ее, Шатобриане, с таким увлечением и восторгом, как будто он был ее лучшим другом и жил в соседнем доме. То, разложив на столе план города Виндавы[51], с интересом его рассматривала, стараясь решить важный вопрос, в какую сторону, на север или на запад ему суждено расширяться. То принималась беспокоиться, удастся ли жителям города Майнца скупить и разрушить дома, окружающие знаменитый майнцский собор и скрывающие его архитектурную красоту; то спрашивала тетку, почему не подают обедать, и с удивлением узнавала, что она, Ляля, уже пообедала полтора часа тому назад. Были минуты, когда тетка начинала сомневаться в нормальности своей племянницы. Она хладнокровно отнеслась к решению племянницы прекратить выезды; ей и самой надоело вывозить Лялю. Евдокия Сергеевна наделась, что племянница примется за какое-нибудь серьезное дело. Сама она была деятельная и энергичная женщина, устраивала ясли, народные библиотеки, чтение с волшебными фонарями, склады теплой одежды и дешевые столовые. Она ждала, что племянница, покончив с выездами, начнет ей помогать и с горестью увидала, что ошиблась. Ляля оставалась равнодушной к ее деятельности, и всякий раз, как тетка о ней заговаривала, принималась думать о другом. То были два разные типа: деятельница и мечтательница. Такие женщины никогда друг друга не поймут. Ляля любила и уважала свою тетку, но не в силах была рассказать ей ту сложную работу ума и сердца, которую в те дни переживала. Она была стыдлива и целомудренна до дикости и боялась прикосновения холодного практического разума тетки. Ее любовь к Кевличу была так возвышенна и идеальна, наполняла таким счастьем ее душу, давала такой яркий смысл и цель ее жизни! Несколько раз пробовала она отдаленно объяснить тетке свои чувства, но, увы, на словах они выходили такими пошлыми и вульгарными, и так стыдно становилось за них бедной Ляле! Она вновь замолкала и сердилась про себя, что тетка сама о них не догадывается. A Евдокия Сергеевна тем временем горестно думала, что ее племянница пустая ленивая девчонка и невольно презирала ее. Эти две хорошие женщины, у которых так много было общего, не понимали друг друга и с каждым днем отдалялись.
Между тем Кевличу опять стало хуже, и его перевели в буйное отделение. Доктора печально качали головой и считали его почти безнадежным, Ляля бродила по церквам, служила молебны о выздоровлении раба Божия Бориса и горячо молилась перед образами. Дома она была раздражительна, печальна и еще более рассеянна. Тетушка, видя ее заплаканные глаза, сердилась и обижалась на племянницу.
– И чего ей еще надо? – думала она про себя, не подозревая о Лялином горе, – кажется, ни в чем ей отказу нет – ни в нарядах, ни в увеселениях; живет себе в полном довольстве и покое. Всё это одна блажь и происходит лишь от праздности.
Евдокия Сергеевна решила наставить племянницу на путь истины. Раз зайдя в ее комнату и найдя Лялю по обыкновению в горьких слезах, тетушка принялась доказывать ей, что ее печаль послана Богом в наказание за то, что она недостаточно уважает тетку и не помогает ей в ее занятиях, что Бог строго наказывает за непочтительность к родственникам и т. д., и т. д.
Ляля слушала с диким видом. «Как, она плачет о несчастии любимого человека, а ей говорят, что печаль эта послана Богом в наказание за то, что она живет своим умом и не хочет жить чужим? Нет, это уж слишком!»
И Ляля, не слушая тетушкиных наставлений, поспешно одевает пальто, шляпу и с плачем бежит из дому. Прохожие с изумлением смотрят на эту нарядно одетую барышню, громко рыдающую на улице. Некоторые останавливаются и хотят заговорить с ней, но Ляля опускает на глаза вуалетку и спешит вперед, подальше от нарядных улиц, на Гороховую, Садовую, к Сенной. Там у прохожих много своего горя, своих страданий и тревог, и чужие печали мало их интересуют.
Короткий ноябрьский день быстро темнеет; фонари слабо горят среди мокрого тумана, что начинает подниматься с земли и заволакивать улицы. Ляля идет всё вперед, без всякой цели. Слезы ее обсохли; но сырость и дождь еще больше раздражают ее. Вдруг, среди тумана, вырисовывается перед нею лицо, столь поразительное, что Ляля невольно останавливается. Лицо это принадлежит мужчине средних лет, мещанину или рабочему, бедно одетому. Он стоит у окна магазина и жадно в него смотрит. Столько страстного внимания, столько отчаяния выражают черты его худого изнуренного лица, что, кажется, вся жизнь, вся судьба этого человека зависит от того, что виднеется ему в окне. Ляля тоже заглядывает туда, но ничего особенного в магазине не происходит. Он почти пуст; лишь двое рабочих стоят у прилавка и о чем-то говорят с приказчиком. Ляля оборачивается на поразившего ее человека. Они стоят теперь рядом у окна, близко друг к другу, но так поглощено его внимание, что он не замечает ни Ляли, ни ее вопросительного взгляда.
– Что это вы так смотрите? – вдруг нечаянно, помимо воли, вырывается у Ляли.
Человек оборачивается, глядит на нее, и, улыбнувшись доброй, почти детской улыбкой, отвечает, по-видимому ничуть не удивившись вопросу:
– А коробочники мы, барышня; коробки клеим и по лавкам продавать носим. Всем-то входить несподручно; вот, я тут и стою и жду товарищей.
Ляле всё сделалось ясно. Двое коробочников в магазине предлагали свой товар приказчику, а этот несчастный с замиранием сердца следил у окна за успехом их торговли. Как знать, может, они с утра ходят и безуспешно предлагают, а дома голодная семья, жена, дети… Ляля вынула кошелек, нашла в нем три рубля и протянула их коробочнику.
– Вот, возьмите – смутясь и краснея, проговорила она.
Коробочник нисколько не удивился. Он взял деньги, снял шапку и мерным, ровным голосом отвечал:
– Спасибо вам, добрая барышня, за вашу помощь!.. – и вдруг всё лицо его перекосилось, слезы хлынули и глаз и он отвернулся.
А Ляля бросилась от него бежать. Сердце ее разрывалось от восторга. Наконец-то, наконец совершилось то, о чем она всю жизнь мечтала.
Две человеческие души встретились и поняли друг друга.
Все преграды пали между ними: не было тут ни мужчины, ни женщины, ни бедного рабочего, ни богатой барышни; было лишь два человека, и Бог между ними. Они заглянули друг другу в сердце и не постыдились этого. «О, как это хорошо! Как чудесно! Какое счастье! Благодарю Тебя, Боже, что дал мне его!»
Ляля шла вперед и ликовала, но вдруг, новая мысль пришла ей на ум и остановила ее.
– Что ж это я? Дала три рубля и тем кончила? На долго ли их хватит, а там опять нищета и отчаяние. Скорей назад, разузнать о нем, спросить его адрес, пойти к нему.
Ляля в страхе спешит назад, но, увы, коробочников и след простыл. Тщетно ходит она у магазина, тщетно расспрашивает о них приказчика!
– И вот всегда, всегда так бывает! – с горестью восклицает бедная девушка, – столько у меня прекрасных мыслей, и никому-то пользы от них нет!
Между тем Кевличу стало лучше. Несмотря на мрачные предсказания докторов, несмотря на их грустные покачивания головой, Кевлич медленными, но верными шагами шел к выздоровлению.
Ляля была счастлива безмерно. Самыми яркими красками рисовалось перед нею будущее. Она отлично понимала, что не может быть женою Кевлича, но это мало ее тревожило. Те юные годы, когда она мечтала о возможности братски жить с мужем, давно прошли. Ляля смутно сознавала, что это невозможно и что, выйдя замуж, ей придется во многом поступиться своими убеждениями. Но мысль о физическом браке была столь отвратительна, что она старалась не думать о ней и прогонять ее.
Таким образом мысль о том, что Кевлич – больной человек и не может жениться, не только не мешала ее любви, а, напротив, увеличивала ее. Мечтала же Ляля, главным образом, о «родстве душ».
– Наконец-то, наконец, – восторженно думала она, – я встретила человека, который откроет мне свою душу и расскажет всё, что у него на сердце. Я не останусь более одинока в этом мире. Мне будет кому рассказать свои сомнения, мечты и надежды. Я узнаю, наконец, что такое счастье!
Но пока Ляля берегла Кевлича, боялась сказать ему лишнее слово, взволновать его и помешать его выздоровлению.
– После, после! Когда он вполне выздоровеет, мы объяснимся и навеки поймем друг друга!
Но, увы, ее мечтам не суждено было сбыться!
Как-то раз Ляля, по своему обыкновению, приехала навестить Кевлича. Он уже вышел из больницы и жил у своих родных. Начался общий разговор и коснулся чьей-то свадьбы.
– Не понимаю я этой женитьбы, – сказал вдруг Кевлич, долго перед тем молчавший, – по-моему, если уж жениться, то или на хорошенькой, или же на хорошей хозяйке.
Молча, с широко раскрытыми глазами, слушала Ляля это неожиданное profession de foi[52].
– Как, и это всё, что он видит в женщине? Или хорошенькая наложница или услужливая экономка. А сердце, а душа, а ум? Боже мой, да они и за людей – то нас женщин, не признают! – В первый раз в жизни пришлось столкнуться бедной Ляле со всем цинизмом мужского взгляда на женщину, и он глубоко поразил ее.
– Ну, пусть бы кто-нибудь другой сказал эти слова, – с грустью думала она, – мало ли есть на свете несчастных мужчин, которые никогда не встречали на своем пути хороших честных женщин, но он-то, Кевлич, как смел так думать после всего, что дали ему женщины? Более чем кто-либо он имел случай оценить женское сердце и преданность, и верность, и заботливое внимание. И тем не менее он остался верен основным мужским принципам: «хорошенькая одалиска, или заботливая ключница».
Что-то оборвалось в Лялином сердце. Человек, столь высоко возведенный ею, скатился с пьедестала. С горьким чувством смотрела она на разбитые мечты и надежды свои. Ей хотелось бежать и никогда не видеть больше своего героя… но чувство долга взяло верх над отчаянием.
– Я не имею права бросать его теперь, – говорила она себе, – он еще болен, ему необходимы заботы и внимание.
И по-прежнему она навещала Кевлича, посылала ему книги, писала нежные, заботливые письма и только тогда, когда Кевлич совершенно поправился, и друзья с восторгом приняли его вновь в свое общество, Ляля про себя от всего сердца пожелала ему счастья и… оставила его.
Пусто стало на душе у бедной Ляли. Страшные мысли волновали ее. Точно занавес раздвинулся перед нею, и она увидела действительную жизнь во всей ее наготе и бедности.
Сомнения во всем, чему она до сих пор веровала, охватили ее.
– Да правда ли всё то, во что нас учат веровать с детства? – с отчаянием спрашивала себя Ляля. – Существует ли Бог, и будущая жизнь, и Святые, и Страшный Суд? Что если это всё мифы, которыми издавна привыкли утешать себя люди?
Человеческие души! Мы так много говорим и хлопочем о них, а между тем, кто их видел, и существовали ли они когда-нибудь? Что, если человек всего только животное, лишь несколько выше и развитее обезьяны? Что, если все мои мечты, отчаяние, горе – есть лишь последствия неправильной жизни? Как знать, счастье, быть может, у меня под рукою, стоит лишь отказаться от всех человеческих требований и превратиться в животное. Выбрать себе самца, наиболее красивого и сильного, удалиться с ним в берлогу и начать выводить там детенышей? И не лучше ли мне поспешить сделать это теперь же, пока я еще молода и могу произвести наибольшее количество детей? Может, единственное возможное на земле счастье находится в одной лишь животной жизни?
Так раздумывала Ляля, но тут произошел случай, который вновь опрокинул все ее мечты и соображения.
Несмотря на свои сомнения, Ляля по-прежнему, в силу привычки, ходила в церковь и усердно молилась. В посту, как всегда, она говела и пошла на исповедь. У нее так много накопилось в сердце сомнений и тревог, и так ей хотелось высказать их и услыхать слово утешения. Кто-то похвалил в ее присутствии священника N-ской церкви, рекомендуя его, как строгого исповедника, и она решила пойти к нему, вместо своего обычного духовника, который знал ее с детства и слишком уж по-детски, как казалось Ляле, исповедывал ее.
Придя на исповедь, она по своему обыкновению, не ожидая вопросов, стала говорить про то, что волновало ее: про свои сомнения в существовании Бога и будущей жизни, про свои думы относительно того, имеет ли человек душу, или же он просто животное. Священник молча слушал. Когда Ляля кончила, он строго сказал:
– Ну, всё это вздор. Вы мне лучше скажите, какие у вас отношение к мужчинам?
– К мужчинам? – удивилась Ляля, – что ж, у меня хорошие к ним отношения. Я, вообще, их очень люблю, даже, пожалуй, больше женщин, потому что они не так мелочны.
– Я вас не о том спрашиваю. Я спрашиваю о любовных отношениях.
– О любовных?! – И Ляля широко раскрыла глаза, – ведь я же вам сказала, батюшка, что – я девушка. Какие же у меня могут быть любовные отношения к мужчинам?
– Ну, положим, это ничему не мешает, – отвечал священник, – но если вы, действительно, их не знаете, то я вас поздравляю! Вы – счастливый человек. Нам, священникам, столько приходится видеть несчастных девушек и женщин, которые приходят к нам и плачут и молят спасти их, а мы меж тем знаем, что всякая помощь бесполезна, что страсть сильнее, и что всё равно падение их неизбежно.
Ляля в глубоком недоумении слушала священника. Вдруг блестящая мысль осенила ее: «Он ведь меня не знает; я же сегодня нарочно так скромно оделась. Не принимает ли он меня за какую-нибудь портниху, судомойку или горничную?» Она дала ему кончить и несколько обиженно отвечала:
– В том обществе, к которому я принадлежу, батюшка, таких случаев не бывает.
– Как не бывает? – в свою очередь удивился священник. – К какому же такому обществу вы принадлежите? Все люди одинаковы, что вверху, что внизу. Страсти везде одни и те же. Если же вы их не испытываете, то благодарите ежечасно Создателя, что он вас так особенно создал и избавил от ужасных страданий любви и страсти.
В страшном негодовании вышла Ляля из церкви. Она даже забыла помолиться перед иконами, как всегда делала после исповеди. Она шагала по темным улицам, не замечая холодного ветра, что забивался в ее расстегнутое пальто. Стыд и обида разрумянили ее. Она шла, громко говоря с собою и забывая про прохожих. Никогда еще не была Ляля в таком негодовании!
– А, так я феномен! А, так я особенно создана! Все женщины любят, и падение их неизбежно, только я одна не могу пасть? Ну, так я ж докажу, что я такая же, как все. Сегодня же или самое позднее завтра, я тоже «паду», a затем пойду к этому священнику и скажу ему: вы думали, что я – феномен, ну, так знайте же, что я тоже «пала».
«Только как же это сделать? – соображала Ляля, – кажется, в подобных случаях едут в маскарад и приглашают какого-нибудь мужчину ужинать в отдельном кабинете. Или, может, это он должен пригласить? Ну, да всё равно, – я там после разузнаю, кто кого приглашает. Беда только, что теперь пост и маскарадов нет. Как же быть? Всё равно, наверно есть такие дома, куда женщины ездят для падений. Я узнаю, я наведу справки и непременно туда поеду».
И яркое воображение Ляли пылко заработало, представляя ей, как она едет в подобный «дом» и что там с нею случится. Но при виде этой яркой картины ее охватило такое отвращение, что она невольно остановилась посреди тротуара.
«Боже мой! Да неужели же я действительно феномен? – с горечью восклицала бедная Ляля. – Каким же образом то чувство, которое неудержимо влечет всех женщин (сам священник об этом говорит, кому же и знать, как не ему?), во мне возбуждает лишь одно отвращение? Зачем же ты меня создал такою, о, Господи! Зачем же послал на землю? Какая цель в моем существовании?»
Стыд и унижение охватили Лялю. До сих пор, в глубине души, она считала себя выше других женщин; теперь же, увы, оказывается, что она – ниже их. Она – нравственный урод, она ненормальна, а, следовательно стоит ниже других здоровых людей. Это было новое, неиспытанное еще горькое чувство и больно кольнуло оно Лялю! «Уродец, – презрительно шептала она про себя, – в банку со спиртом тебя посадить и пожертвовать Академии Наук в назидание потомству!»
С этого времени Ляля перестала исповедываться. Последняя исповедь оставила по себе слишком тяжелое впечатление!
Как многим людям, ей надо было священника, стоящего на недосягаемой высоте и громящего оттуда ее пороки. В этот же раз она невольно чувствовала, что была чище душой своего духовника.
– Как знать, быть может, следующий священник, исповедуя меня, будет поздравлять и умиляться сердцем, что я не краду платков из карманов моих добрых знакомых, – с горечью думала Ляля.
Тетушка Ляли Радванович умерла, и она осталась одна на свете. У нее были лишь знакомые, но друзей не было, как не бывает их у людей сдержанных и целомудренных, никому своего внутреннего «я» не открывающих. Первое время после смерти тетки, Ляля как-то опешила, не зная, что предпринять и куда себя деть. Кто-то надоумил ее поехать за границу. Она выбрала Италию, где еще не была. Ее поездки за границу ограничивались до сих пор посещением немецких вод, куда врачи посылали лечиться ее тетку, a затем Nachkur’ами[53] в Швейцарии. В Германии Ляля отчаянно скучала, а, приехав в Швейцарию, немедленно простужалась и проводила свои дни в комнате. Всё это не оставило в ней доброго воспоминания и теперь, отправляясь в Италию, она ждала повторения прежних заграничных впечатлений.
Но с первых же шагов Ляля поняла, что Италия не похожа на остальную Европу, и что она близка и дорога ей, как Россия. Итальянская красота восхитила ее. Она бросилась осматривать музеи, руины, церкви и, странное дело, всё в этой чарующей природе говорило ей о Боге гораздо более, чем в темных и мрачных петербургских церквах. Новые, неведомые доселе мысли приходили ей на ум. Часто, сидя задумавшись на каких-нибудь развалинах, Ляля слышала голос, говоривший ей:
«Ты мучаешься одиночеством; ты считаешь себя выше людей; ты презираешь их, как вульгарных и пошлых существ, но так ли это? Права ли ты? Неужто вульгарен тот народ, что создал Христа? Ты отвечаешь, что Христос – Бог, а не человек. Пусть будет так. Но те люди, что с восторгом приняли его ученье, готовы были подвергаться гонениям и идти на смерть ради него, – что же, они тоже были вульгарны и пошлы? Психоз, говоришь ты, гипнотизм толпы. О, ваша наука всё умеет объяснить и принизить! Но отчего же тот же психоз так мало имеет власти над людьми, когда их зовут на разбой, грабежи и низость? Почему даже ту небольшую горсть людей, которая отвечает на этот призыв, могут увлечь, лишь обманув великими словами свободы, равенства и братства, а иначе и она не пойдет. И как скоро наступает разочарование! Как скоро спешат люди возвратиться к правде и порядку! Сравни, сколько лет продолжаются революции и сколько лет продолжается христианство. Так неужели вульгарны те люди, что столько веков сохранили Евангелие, как великий дар, которым они пока еще не умеют пользоваться, но который берегут, как великий завет на будущее время.
Ты удивляешься вульгарности и пошлости людской и считаешь себя выше их; но ведь это оттого, что ты знаешь свой ум и сердце. Другие же люди, которым они неизвестны, быть может, считают тебя такой же ничтожной и вульгарной. Они несправедливы к тебе, как и ты к ним. В том-то и горе, что человек из гордости, стыдливости, самолюбия глубоко затаивает в себе все лучшие свои чувства, поступки, мысли и стремления. Каждый старается быть как можно ординарнее, как можно больше походить на всех. Лишь мне не стыдятся они открывать свои души и я знаю, как прекрасны, как простодушны и наивны все эти пошлые на вид люди. Они приходят в церковь и плачут и горько жалуются мне друг на друга, и не знают что счастье в них самих. О, если бы они захотели наконец победить свою гордость и застенчивость, как бы быстро прекратились их страдания! Помнишь, как поражена ты была, почувствовав себя в минуту умиления близкой бедному, жалкому коробочнику. Так и тогда легко всем было бы стать братьями, и ничтожны и пусты показались бы им те якобы пропасти, что разделяют людей на классы и сословия.
Но не пришло еще время, и долго еще человечество будет страдать в слепоте своей. Ты не увидишь того дня, но верь, он наступит. Пока же страдай, ты не одна страдаешь. Вот ты любуешься на все эти картины, статуи, здания, а, знаешь ли, сколько слез и отчаяния легло в их создание? Оскорбленные, измученные люди выливали свое горе в великих творениях. Чтобы создать кроткое, невинное лицо мадонны, экстаз святого, поэму, повесть, роман, сколько нужно было пережить, перемучиться, переходить от отчаяния к надежде! От того-то и вечны великие творения искусства, что в основу их легло человеческое горе.
Не отказывайся же от своих убеждений потому лишь, что люди не оценили их. Есть другой суд и другая оценка, и верь, что ни одно твое доброе слово, ни один истинно-прекрасный поступок не будет забыт. За всё отплатится тебе сторицей. А пока живи, живи! Наслаждайся солнцем, голубым небом и горами. Ведь всё это для вас же создано, для вашего счастья, чтобы утешить и поддержать вас во дни уныния и сомнения».
Ляля пробыла в Италии год, и это было самое счастливое время в ее жизни. Она возвратилась в Петербург поздоровевшей и повеселевшей. Она не мучила себя больше вопросами, зачем жить, и какой смысл в жизни. Поздоровевший организм сам придумывал предлоги для дальнейшего существования.
– Что ж, если люди во мне не нуждаются, то я буду жить для самой себя, – думала она, – судьба дала мне независимость – стану ею наслаждаться. Буду читать, ходить в театр, путешествовать.
Увы, несмотря на свои годы, Ляля всё еще была наивна и не понимала, что характер свой переменить нельзя и что, несмотря на все благоразумные намерения и твердые решения, он всегда возьмет над ними верх. Ляля рождена была, чтобы болеть жалостью и должна была мучиться ею до могилы.
Но жалость ее приняла теперь новую форму. До сих пор Ляля жалела одних мужчин; к женщинам же относились с враждебностью и презрением. Но теперь глаза ее открылись, и какую бездну отчаяния и страдания увидала она перед собою! Бедные, бедные девушки, как горька их участь! Они растут с мечтами найти себе любимого человека, быть ему верной, преданной женой, и что встречают они в ответ? Недоверие, обиды, боязнь попасть в сети. Их любовь принимается с насмешкой, их законное желание иметь семью называется ловлей выгодного жениха. Не сделав ничего дурного, они испытывают незаслуженные унижения. Сердце их ожесточается; светлый образ мужа и друга тускнеет; его заменяет вражда и ненависть к мужчинам. Наиболее гордые остаются в девушках и влачат жалкое, бесцельное существование; другие, не выдержав одиночества, выходят за первого попавшегося, без любви, даже без уважения. Что ждет их в таком браке, и какое семейное счастье может существовать при этих условиях?
Иной раз Ляля, наблюдая какую-нибудь молоденькую девушку, только что начинающую выезжать в свет и милым, доверчивым взглядом смотрящую на мир, с ужасом рисовала себе ее дальнейшую судьбу. Она видела это свежее личико, покрытое преждевременными морщинами и светлые глазки измученными и полными тоски; и так страшно становилось Ляле, что она в отчаянии молилась:
«Избави ее от страдания, Господи! Лучше уж отдай ей мою долю счастья. Мое сердце так измучено и истерзано, что всё равно я уже не могу испытывать радость. Отдай же ей мою долю! Пошли ей теперь же, в ее юные годы, хорошего человека. Пусть она гордится им и считает его самым благородным существом в мире. Только при этих условиях и может существовать правильная семья. Не правда, Господи, что страдания необходимы. Страдание – уродливое ненормальное явление, и не должно существовать на свете. Пусть большинство людей будет счастливо и радостно, и тогда мы, несчастные, станем любоваться на них и примем свои страдания со смирением. Клянусь тебе в том, Господи!»
Ее жалость к девушкам приняла странную, несколько далее смешную форму. Ляля принялась их сватать, устраивая на своих вечерах встречи людей, которые, по ее мнению, могли подойти друг к другу. Она усердно хвалила своих приятельниц мужчинам, часто преувеличивая их достоинства, чтобы усилить впечатление. Она радовалась, когда ее подруги хорошели, и повсюду говорила об этом. Грустила, если замечала, что они старели и дурнели. Ее собственные морщины мало интересовали ее, но чужие огорчали чрезвычайно. Она волновалась, суетилась и смешила своих знакомых. Часто люди, видя ее хлопоты, с недоумением спрашивали Лялю:
– Да вам то что за дело, выйдут ли ваши подруги замуж; вы то о чем хлопочете?
– Как, о чем? О глупые, глупые люди! – возмущалась и негодовала Ляля, – как же они не понимают, что если бы мне удалось устроить несколько счастливых браков, то какое бы это было утешение в тяжелые минуты жизни! Разве не имела бы я тогда права сказать: прочь тоска! отойди, отчаяние! Неправда, что я бесцельно живу на свете. Вот там блаженствуют люди, и мне обязаны они своим счастьем. Без меня они, может быть, никогда бы и не встретились!
Жалость к девушкам мучила Лялю не только наяву, но и во сне. Ей снились страшные кошмары, и она просыпалась измученной и разбитой. Снилось ей, что она живет в каком-то монастыре или общежитии. Вдруг среди обитательниц появляются слухи, что какая-то девушка, находящаяся под стражей, приговорена к смертной казни. Ляля пугливо прислушивается. С ужасом узнает она, что эту приговоренную поведут перед казнью по всему монастырю, и она со всеми простится. Мрачно звонят колокола, торжественно льются звуки органа, слышится издали шум приближающейся толпы, и вот «она» показывается, окруженная стражей…
Ляля приглядывается к преступнице и видит перед собою испуганного ребенка, страшно потерявшегося и ничего не понимающего. Ляля пробует сказать ей несколько ласковых слов, но девушка не слушает ее. Она ничего не сознает и не слышит, и все силы ума ее направлены инстинктивно лишь на то, чтобы как можно дольше продлить свою жизнь. Ляля машинально следует за толпой. Вот вышли они на площадь, вдали виднеется эшафот… Преступница пугливо оглянулась и, видя, что никто не держит ее, бросается бежать. О, как засмеялась толпа! Ляля поняла, что они нарочно, для забавы, отпустили бежать бедную девушку. Со всех сторон ее настигают, окружают, и вот уж она бьется в их руках, как испуганная птичка. Ляля в негодовании кричит: «Оставьте ее, не мучьте!» Тоска разрывает ей сердце, и она просыпается вся в слезах.
– О, Боже! – в отчаянии молится Ляля, – зачем ты дал мне такой несчастный характер! Мало того, что я наяву тоскую за девушек, но и по ночам вижу несуществующие страдания, чтобы еще более растравить свое сердце! Зачем мне дана эта доля!
Время шло, а Леля всё не могла устроить ничьего счастья. Ни одна свадьба не удавалась ей, ни одну из своих приятельниц не могла она утешить или уберечь от горя. Тоска всё сильнее охватывала ее. Ляля полюбила заходить в церкви днем, часа в три, когда службы нет. Таинственно мерцали лампадки перед иконами, тихо шептались немногие посетители. Ляля становилась перед каким-нибудь, особенно чтимым, образом и молча наблюдала, как молились ему люди. С страстной мольбой, с горькими рыданиями кланялись они в землю, тихо шепча про себя и рассказывая Богу свое горе. Ляля с досадой смотрела на них.
– Ведь вы же сами нарисовали эти иконы; чего же покланяетесь им и ждете помощи? Смотрите, я живой человек, я создана Богом; мое сердце болит за вас. Отчего же не открываете вы своего горя мне и не даете вас утешить?
Но люди холодно смотрели на Лялю и проходили мимо. Так давно, столько уж столетий, человечество привыкло не доверять друг другу и прятать свои страдания, чтобы люди не осмеяли их злорадными словами. Лишь Богу несли они свои горести, лишь от Него ждали помощи. Если же не получали ее, то уходили в отчаянии и некуда им было больше обратиться…
А Ляля всё чего-то ждала. И вдруг бросалась на колени перед тем же образом и жарко молилась:
– Господи! сжалься надо мной! Дай мне кого-нибудь любить и жалеть. Я не могу жить с пустым сердцем. Господи, ты видишь мою душу! Ведь я же погибаю, погибаю!
Вампир
Как-то раз осенью я поехала на журфикс к знакомым. Было скучно и банально, как на всех, вообще, петербургских журфиксах. Молодежь толпилась в одном конце большой красной гостиной, смеялась и флиртовала. В другом конце тихо и чинно разговаривали старики. Не принадлежа уже по моим годам к первым и не подходя еще ко вторым, я заняла нейтральную позицию посреди гостиной, у окна, под сенью большой пальмы. Я люблю оставаться так одной и молча наблюдать. Прелюбопытные попадаются иногда типы!
На этот раз мое внимание привлекла красивая румяная дама с черными оживленными глазами, высокая, полная, величественная. Ей можно было бы дать лет тридцать пять, если бы не седые, как серебро, чудесные волосы, еще более оттенявшие ее южную красоту. Она казалась маркизою времен Louis XV[54]. Одета она была очень своеобразно, в глубоком трауре, с креповой наколкой на белых волосах и в длинном траурном вуале. Я видела такой костюм за границей на знатных вдовствующих леди.
Траурная дама завладела всеобщим вниманием и горячо о чем-то рассказывала. Я подвинулась послушать. Речь шла о какой-то несчастной матери, только что потерявшей единственного сына. Дама рассказывала о ее страданиях с жаром, картинно, волнуясь и заражая волнением других. У многих показались слезы; все, видимо, были растроганы.
– Верно она сама недавно потеряла ребенка, оттого так и волнуется, – сказала я знакомой, сидевшей рядом со мной.
– О, нет! Она носит траур по муже, который пятнадцать лет назад застрелился в припадке меланхолии. Это – Элен Корецкая. Вы разве ее никогда не встречали? Она несчастнейшая женщина в мире. После смерти мужа она всю себя посвятила воспитанию своих двух дочерей. И вообразите: старшая дочь второй год, как в сумасшедшем доме, а вторая здорова пока… но какая-то странная, что-то в роде истерички, и с дьявольским характером. Бедная мать, Бог знает, что от нее выносит. Да, вот она сидит среди молодежи, блондинка, в зеленом платье.
Я внимательно посмотрела на молодую Корецкую. Трудно было представить большого контраста с матерью; худенькая, бледная, маленькая, истощенная, с большими, несколько на выкате светло-серыми глазами, длинным тонким носом с горбинкой и белокурыми волосами. Бледно-зеленое, очень изящное платье еще более оттеняло ее прозрачную белизну и хрупкость. Она была недурна, красотой молодости и свежести, но, Боже, какой это был жалкий, петербургский, болотистый цветок!
Молодая Корецкая сидела молча, вытянув длинные, костлявые, полуобнаженные руки на коленях. Глаза ее смотрели без цели; видимо, она была в другом мире. Должно быть, мой пристальный взгляд разбудил ее; она внимательно посмотрела на меня, затем встала, подошла и принялась молча разглядывать пальму, под которой я сидела.
– Эта бедная пальма очень больна, – слабым звенящим голосом заговорила она, обращаясь ко мне. – Ей нужен свет и воздух, а ее спрятали за ширму, в золоченое кашпо. Ее дни сочтены; она погибнет, даже если бы ее вынести теперь на солнце.
Корецкая говорила о пальме, как о живом существе и так серьезно, что я невольно улыбнулась.
– Вы, должно быть, любите цветы, – сказала я ей.
– Цветы? О, да! – и такая прелестная добрая улыбка вдруг осветила ее бледное худое личико, что я невольно почувствовала к ней симпатию. Мы разговорились. Я тоже люблю цветы, и мы скоро сошлись на этой почве.
Я рассказала ей, как пробрела недавно дачу по Ириновской дороге, и каких трудов стоило мне развести цветник и огород на песчаной земле. Корецкая слушала внимательно, подробно расспрашивая про каждый цветок. Видимо, она хорошо знала нравы и обычаи растений.
– Какая вы счастливая, – сказала она, – как бы мне хотелось пожить на вашей даче! Мечта моей жизни, эго провести лето в деревне так, чтобы был свой сад, и я могла бы смотреть за цветами и ходить без шляпы.
– Какая скромная мечта, – засмеялась я, – кто же мешает вам привести ее в исполнение?
– О, нет! Это невозможно! – И лицо ее затуманилось. – Maman не может жить без заграницы. Мы всегда в мае туда уезжаем и лишь к ноябрю возвращаемся. Я не имею понятия о деревенской жизни. Я всё лето провожу по отелям и хожу в шляпке, вуале и перчатках.
Я вновь перевела разговор на цветы; девушка опять оживилась. Между тем m-me Корецкая давно уже перестала разговаривать и очень пристально и внимательно рассматривала нас в золотой лорнет. Заметив ее взгляд, дочь вдруг прервала разговор и, нахмурясь, отвернулась. М-те Корецкая поднялась и красивой эффектной походкой подошла к нам.
– О чем это вы разговариваете? – любезно обратилась она ко мне. – Вы так оживили мою Зику, я прямо ее не узнаю. Мы ведь страшные дикарки; ко всему миру относимся враждебно, ни с кем не хотим говорить.
Я сообщила ей сюжет нашей беседы.
– Опять цветы! – и ее красивое лицо омрачилось. – Как я ненавижу эти цветы! Из-за них она весь мир, родную мать готова забыть! Вообразите, на днях я лежала в жестокой инфлуэнце; жар, бред, сорок градусов. И в это время моя дочь занималась поливкою своих обожаемых растений!
– Ведь поливка берет всего десять минут времени, – хмурясь и не смотря на мать, сказала Зика.
– Душа моя, когда родная мать больна, то никакие посторонние интересы не должны существовать. Ведь когда ты лежишь больная, я весь мир для тебя забываю. Впрочем, разве можно сравнивать любовь матери с любовью дочери? Между ними пропасть! Только тот, кто был матерью и может ее понять. Вы – замужем? – обратилась она ко мне.
Я отвечала отрицательно.
– Ну, так вам эти чувства недоступны, – с легким презрением сказала Корецкая. – Прощайся, однако, Зика, нам пора домой, – и небрежно кивнув мне своей красивой головой, она направилась в переднюю. Зика крепко пожала мне руку; она даже наклонилась, чтобы меня поцеловать, но, видимо, не решилась, покраснела, смутилась и поспешила за матерью.
Прошел месяц. Раз, вечером, около двенадцати часов, я допивала чай, готовясь ложиться спать, как вдруг неожиданный звонок удивил меня. Кто мог прийти в такой поздний час? В передней начались переговоры; затем горничная просила меня выйти, говоря, что какая-то барышня желает меня на минуту видеть. Я вышла и, к большому моему изумлению, увидела перед собою Зику Корецкую. Она была чрезвычайно смущена и, запинаясь на каждом слове, даже заикаясь от волнения, заговорила:
– Простите… вы, верно, очень удивлены… помните, мы говорили с вами о цветах на вечере у П-х… вы мне показались такой доброй… пожалуйста, не удивляйтесь, но… можно мне переночевать у вас сегодня?
Я действительно была удивлена такой просьбой, но, посмотрев на ее бледное лицо, красные заплаканные глаза, дрожащие от волнения губы, поняла, что с бедной девочкой случилось что-то необычайное. Я обняла и крепко поцеловала ее, сказала, что очень рада видеть, что моя «комната для гостей» как раз свободна, так как приятельница, занимавшая ее, вчера уехала на юг; попросила раздеться и выпить со мною чаю, пока приготовят для нее постель. Зика ободрилась. Губки ее всё еще дрожали, на глаза набегали слезы, но, выпив чаю, она понемногу успокоилась, разговорилась и даже стала смеяться, глядя на забавные прыжки и шалости моего фокстерьера. Я провела ее в приготовленную для нее комнату.
– Как здесь хорошо, как уютно и мирно! Мне кажется, я здесь наверно усну. Я, вы знаете, уже три ночи не сплю, всё мучает бессонница.
– Вы, верно, чем-нибудь расстроены?
– Нет… так… разные обстоятельства…
Я принесла ей сахарной воды и пожелала доброй ночи. Зика мигом разделась и скоро в полуотворенную дверь я услышала ее ровное дыхание. «Бедная девочка! – подумала я, ложась спать, – как рано начались для тебя драмы!»
Прошло часа два. Вдруг резкий звонок и громкий повелительный голос разбудили меня. Я вскочила, наскоро оделась и бросилась в переднюю. Элен Корецкая в сильном волнении расспрашивала мою горничную.
– Скажите, пожалуйста, – обратилась она ко мне, – как могло случиться, что моя дочь пришла к вам ночевать? Разве вы с ней знакомы?
Я объяснила, как было дело.
– Но, как же вы, сударыня, не сказали ей, что ее место в доме родной матери, а не у чужих? Вы должны были подумать о моем беспокойстве, о моем отчаяньи. Зика воспользовалась минутой, когда я лежала в сильной истерике, до которой она же меня и довела своими капризами и дьявольским характером. Мои служанки оттирали меня, и никто не видел, как Зика проскользнула в дверь. Я чуть с ума не сошла от ужаса; мы разослали во все стороны искать ее. Хорошо еще, что дежурный дворник слышал, куда она нанимала извозчика. Где она? Покажите мне мою дочь!
– Но ведь она теперь спит. Не лучше ли отложить объяснение до утра? Ее нервы успокоятся и ваши также.
– Вы меня удивляете, сударыня! Неужели вы думаете, что я способна заснуть в эту ночь? Мне необходимо видеть мою дочь, необходимо узнать, что происходит в ее сердце, какие причины побудили ее оставить дом родной матери. Вы не имеете права меня удерживать; не заставляйте меня обратиться за помощью полиции!
Ее громкий резкий голос разбудил Зику. Из-за дверей спальни послышался ее слабый голосок.
– Кто это? Неужели это опять maman? О, какие вы все жестокие! Я так сладко уснула, зачем вы меня разбудили!
– Зика, mon enfant![55] – бурно ворвалась в комнату m-me Корецкая, – что это значит, объясни мне! Как могла ты так безжалостно бросить родную мать?
– Maman, вы четыре дня подряд делаете мне сцены. Сжальтесь надо мною! Дайте мне хоть одну ночь провести покойно; мы завтра доссоримся!
И бедная девочка горько зарыдала.
– Успокойся, Бога ради, не устраивай сцен в чужом доме, не позорь меня. Я, родная мать, могу простить тебя, но чужие никогда тебя не поймут и осудят. И Бог жестоко накажет тебя за твою злобу к матери. Вспомни, как Он наказал твоего отца за его измены и бесчеловечное отношение ко мне, его верной и преданной жене. Вспомни, как Он наказал твою сварливую сестру. Берегись, как бы и с тобой того же не случилось. Покайся, пока есть время!
– Как вы странно представляете себе Бога, maman! Неужели Он только для того и существует, чтобы мстить за ваши обиды?
– Бог, моя милая, существует, чтобы защищать невинных и обиженных. Он видит, что я никогда, никому зла не делала, напротив, всем приносила себя в жертву. Когда умер твой отец, мне было всего тридцать лет. Я была красавица и могла выйти замуж за кого хотела…
– Зачем же вы не вышли?
– Потому что я не хотела дать моим детям злого отчима! Я решила посвятить себя вам, вашему воспитанию. Вы росли злыми, скверными, испорченными девчонками; вы мучили и терзали меня! Все знакомые, видя мои страдания, советовали мне поместить вас в институт…
– Отчего же вы не поместили?
– Потому что я жалела вас. Я не хотела лишать вас материнской ласки. Теперь ты сама знаешь, что доктора советуют мне жить зимою в Ницце, и однако я ради тебя живу в этом чухонском болоте и, не щадя сил и здоровья, вывожу тебя на твои глупые балы и собранья.
– Вы сами знаете, что эти балы мне не нужны. Они меня утомляют и усиливают мои мигрени.
– Но я не хочу, чтобы люди говорили, будто я приношу тебя в жертву своему здоровью! О, я знаю, тебе очень хотелось бы изобразить из себя несчастную страдалицу и возбуждать всеобщее сожаление. Но успокойся, это тебе не удастся. Я надорву свои силы, испорчу навек здоровье и всё же стану вывозить тебя, пока какой-нибудь идиот не освободит меня от твоего присутствия! Подумать только, что я теперь жила бы счастливой и довольной в моей прелестной Ницце, если бы ты не отказала Андрею Викторовичу. Такой чудесный человек, столько ума, такая превосходная партия!
– Вы сами знаете, почему я ему отказала.