Случайные жизни Радзинский Олег
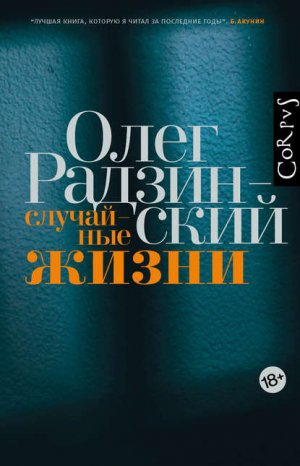
Жизнь первая
Советский репис
1958–1973
Детство реписа
Все советские дети были счастливы одинаково. Каждый несоветский ребенок был несчастлив по-своему.
Советское детство – безоблачное и беззаботное – парило над школами и пионерлагерями, детскими садами и московскими дворами, придавленными зимой снегом и шумящими пыльной листвой тихим задумчивым городским летом, когда дворы пустели – дети уезжали в пионерлагеря и по сельским родственникам. Москву заносило тополиным пухом, словно продолжал идти снег, но снег тот был мягкий и пушистый. И как тополиный пух, наше детство было мягким и пушистым; оно обволакивало, убаюкивало и обещало, что такой же будет и юность.
Несоветские дети жили много хуже: они не могли учиться в школах, потому что за образование нужно было платить. Они не могли болеть и подолгу оставаться дома, чихая, кашляя и отпаиваясь горячим молоком с медом, потому что за лечение нужно было платить. Их несоветские родители были безработными или батраками на плантациях сытых противных буржуинов, которых у нас давно прогнал Мальчиш-Кибальчиш. Да и сами дети должны были разносить буржуинам газеты, мыть буржуинские машины или работать на буржуинских заводах. Советские же дети учились и играли, выполняя тем самым свой советский детский долг.
Кроме безмятежности, в советском детстве всегда оставалось место подвигу: тот же Мальчиш-Кибальчиш, Тимур и его команда, Павлик Морозов и его тезка Павел Корчагин звали, манили, трубили в горны и обещали нечто большее, чем игра во дворах и манная каша в детских садах. Они обещали причастность к чему-то несравнимо грандиознее, чем ты сам, обещали возможность возвеличивающей тебя жертвы и увековечивания твоей памяти в гранитном монументе, к которому придут пионеры и положат цветы, а затем застынут в пионерском салюте, вскинув детские руки к отглаженным и ладно сидящим пилоткам с красной звездочкой. Подвиг, как советское знамя, реял над нашим детством. Но даже подвигу не удавалось испортить его безмятежность и связанное с ней ощущение безопасности: подвиг подвигом, а сейчас кино и мороженое.
Дети, как любили напоминать наши учителя и воспитатели, были единственным привилегированным классом в СССР. Оттого и советское детство было таким счастливым.
Мое детство оказалось привилегированным вдвойне: я рос не простым советским ребенком. Я рос реписом.
“Репис” – на жаргоне сотрудников Литературного фонда СССР, Литфонда, – означало “ребенок писателя”. Жены писателей назывались столь же малопонятно, но более неблагозвучно – “жёпис”. Жёписы были наши мамы. Если, конечно, они сами не были писательницами.
Интересно, что для мужей писательниц не существовало похожего термина, например, “мупис”. Мужья оставались без названия – неопределенное семейное приложение к жрицам словесности – и в качестве таковых, как и писательские жены, могли пользоваться всеми благами, дарованными советской властью творческой интеллигенции. Которая, кстати, и была настоящим привилегированным классом в СССР.
Советская власть, как никакая другая, ценила творческую интеллигенцию. Эту традицию советская власть переняла у власти царской, которая также ценила искусство, и русские цари лично занимались судьбами писателей, приближая их ко двору либо ссылая в разные отдаленные места империи. Творческой интеллигенции выпала задача создать симулякр советской жизни в словах, картинах, скульптуре, музыке и кино. Ей поручили рассказать стране, как трудно та жила раньше, как – под мудрым руководством партии – преодолела эти невзгоды, пройдя через пламенные горнила революции и разных войн, и как хорошо, идя от свершений к свершениям, страна живет сейчас, а главное, каким замечательным станет ее будущее. За это творческой интеллигенции предоставлялись разные блага: квартиры с дополнительной площадью, ведь творцам нужно место, чтобы творить; путевки в дома творчества и прочие привилегии. Между властью и творческой интеллигенцией существовал социальный контракт: мы дадим вам дополнительные блага и даже позволим определенные творческие вольности, а вы оставайтесь лояльны. Или по крайней мере нейтральны. Этот контракт действовал до конца советской жизни и умер, став ненужным. Как стала ненужной и сама творческая интеллигенция.
Нынешней российской власти не нужна идеологическая обслуга, поскольку у нее нет идеологии. Она никого не боится и не собирается ни перед кем отчитываться. Ее социальный контракт не с интеллигенцией, а с олигархами: оставайтесь лояльны или нейтральны, и вам позволят вести вашу олигархическую жизнь. Или не позволят.
При советской власти писатели жили особенно хорошо. У писателей были своя поликлиника, где они могли всласть лечиться, чтобы сохранить столь ценимую советской властью творческую активность, свои детские сады и пионерлагеря, в которых взрастали реписы, свои дома творчества и дома отдыха, где писатели творили, а устав – отдыхали.
Поликлиника Литфонда на метро “Аэропорт” была самым посещаемым писателями местом: там можно было получить оплачиваемый бюллетень. Этот бюллетень относился в Литфонд, где окололитературные дамы – многие из них жёписы – выписывали квиток на оплату, и писатели отправлялись в кассу, чтобы получить заслуженные недугом рубли. Получив, литераторы шли в свой Центральный Дом на улице Воровского, где когда-то заседали московские масоны, а теперь находился известный всей творческой Москве ресторан ЦДЛ, и просаживали там заработанные болезнью деньги. Оттого, думаю, бюллетени и оплачивались щедро, что знала власть: принесут рублики обратно и потратят на водку и жюльены.
В детстве я не видел вокруг никого, кроме писателей, их жёписов и реписов. Иногда в мое детство забредали театральные режиссеры (мой отец был драматург, а мама – актриса), но они оставались гостями в нашей тщательно отгороженной от действительности жизни, и жизнь эта тянулась параллельно настоящей жизни страны, не пытаясь с нею смешаться, а подменяя ее другой – придуманной, написанной, книжной. Наша жизнь была полна литературных аллюзий, метафор и образов, и оттого другая, настоящая жизнь казалась много скучнее, бледнее, беднее. Настоящая жизнь была интересна лишь как отголосок жизни книжной, как слабое отражение мира, описанного литературой. В жизни моей семьи Тургенев продолжал жить в русской деревне, и деревня та все еще стояла у тихих речек с навсегда поселившимися в ней Хорями и Калинычами, с усадьбами, где бесконечно тянулись детство, отрочество и юность Николиньки Иртеньева и где в прудах росли кувшинки, а не квакали лягушки. Единственные лягушки, допущенные в нашу жизнь, были заколдованные царевны. И вся жизнь казалась оттого заколдованной, вечной, застывшей в ожидании новых литературных героев. Этими литературными героями должны были стать мы сами. Нас ждали постаменты.
Детство мое – а за ним и вся жизнь – могло пройти совершенно по-другому.
Мне исполнилось четыре года, когда, устав от моих бесконечных бронхитов, родители решили, что пора перестать укутывать меня шарфами и мучать банками, а нужно докопаться до причины моего кашля, и докопались: я оказался астматиком. После разных обследований и осмотров врачи посоветовали увезти меня из Москвы: ребенку необходим морской климат, сообщили они родителям. Их рекомендация носила чисто теоретический характер, поскольку кто же поедет из Москвы в морской климат? Да и куда?
Куда, однако, нашлось: аул Головинка под Сочи, в устье реки Шахе, впадающей в Черное море на окраине поселка. Меня привезли туда ранним июнем, мама сняла две комнаты у черкесской семьи и оставила меня с бабушкой Лией. В августе бабушку Лию сменили приехавшие в отпуск родители, а в сентябре им на смену приехала другая бабушка – Соня.
Так – с несущими вахту родственниками – я прожил в Головинке до школы, проводя там восемь – десять месяцев в году и уезжая в Москву на Новый год и в июне, чтобы отправиться с родным писательским детским садом в летний лагерь в Малеевке, где пятилетние дети обсуждали, какими тиражами печатаются их родители. “Чтобы не отставал от жизни, – говорила мама. – А то совсем одичал”. Папа звал меня “кавказский пленник”.
Я и вправду одичал в Головинке. До позднего октября я бегал босиком с черкесскими детьми, собаками и козами. Мы купались в море, прыгая с волнореза и презрительно посматривая на бледных туристов-дикарей, задорого покупающих полуспелую алычу у местных женщин в черных платках, бродивших с ведрами вдоль рассыпанных по пляжу приезжих тел.
Все приезжие назывались “курортники”. Курортников можно было распознать по отсутствию загара и наличию полотенца. Никто из уважающих себя местных не пользовался полотенцами. Мы располагались или на крупной, нагретой кавказским солнцем гальке, или на волнорезе и оттуда наблюдали курортную жизнь, купаясь до посинения и обсыхая на теплом морском ветру. Из жизни отдыхающих – это было мое черкесское детство. К семи годам, когда я распрощался с Головинкой и окончательно вернулся в Москву – школа! – я сносно говорил на адыгейском, мог прыгать в море ласточкой и хорошо сидел на лошади, хотя в ночное – на ночной выпас лошадей – бабушки меня не отпускали.
С лошадьми получилось не сразу. Мы поселились у тети Фатимы и дяди Джантемира, у которых было шесть дочерей, но не было сыновей. Вернее, был один, но умер в младенчестве, и жизнь их проходила в окружении черноглазых красавиц и ожидании их замужеств и уходов в семьи мужей. Я же, блондин с льняными волосами и голубыми глазами, что по причине редкости нравилось местному населению, был мальчик, и тетя Фатима и дядя Джантемир хлопотали, пытаясь впихнуть в меня побольше жирной баранины и козьего молока.
Я был мужчина. А мужчина должен сидеть на лошади. Понимая это, дядя Джантемир где-то через неделю после начала нашей северокавказской жизни вывел из сарая свою кобылу Зарку, позвал меня и, легко подкинув, посадил на нее верхом.
До этого я видел лошадей только в книжках. Вообще все, что я видел до этого, я видел в книжках. Или мне об этом читали. Зарка была смирная старая кобыла и спокойно стояла подо мной, но я был страшно напуган: сверху казалось, что я сижу очень высоко над землей и неминуемо упаду.
Дядя Джантемир сунул мне в руки уздечку и похлопал по спине.
– Абрек, – приободрил он меня (я не знал, что такое “абрек”, и думал, что он так произносит мое имя Олег), – хочешь прокатиться?
Я не хотел. Я хотел вниз, на землю, и убежать в сад, где сидела ничего не подозревающая бабушка Лия и читала любимого ею Стендаля. Она читала Стендаля мне вслух, поскольку ребенок должен вырасти на хорошей литературе. Я тоже так считал и был готов слушать про жизнь в Пармской обители, лишь бы меня сняли с огромной страшной лошади и поставили на землю.
– Прокатись, – уговаривал меня безжалостный и, судя по всему, не разделяющий бабушкиных литературных вкусов дядя Джантемир, – уздечку держи крепко. Ногами ее по бокам – и пойдет.
Я боялся, но я был вежливый московский ребенок. Я был репис. Я не хотел обидеть старшего, тем более старшего, который мог снять меня с лошади и поставить на землю. Оттого я и произнес фразу, ставшую потом в ауле легендой и передававшуюся из дома в дом:
– Скажите, а если ногами по бокам, родственники этой лошади не обидятся? – спросил я.
С той минуты дядя Джантемир меня полюбил.
Он и тетя Фатима не отпускали меня ни на секунду, пытались отравить обилием еды и поручили шефствовать надо мной своему пятилетнему племяннику Мухе, жившему в соседнем доме. Долгое время я думал, что Муха – настоящее имя, и только года через два узнал, что это сокращение от Мухаммед. В делах же, которые Мухе не доверялись, – например, пойти в горы набрать желудей – за меня отвечала их пятнадцатилетняя дочь Мадина, сводившая с ума своей красотой окрестное мужское население и приезжих.
– Бэла, – прищурившись на Мадину, говорила моя литературная бабушка-драматург Лия, сидя в саду под навесом из винограда. – Вылитая печоринская Бэла.
Перед бабушкой лежали три книги. Читать одну казалось недостаточно. Почитав, бабушка откладывала книгу и выносила из дома пишущую машинку. Она громко стучала по клавишам в саду, разговаривая сама с собой, и сочиняла истории про жизнь, которая никогда не случилась. Чтобы в мире было больше книг и меньше жизни.
Бабушка Лия не выглядела как бабушка. В юности она слыла красавицей, что подтверждали портреты, висевшие на стенах ее московской квартиры. Бабушка Лия была брюнетка со светло-серыми глазами и – в пору нашей жизни в Головинке – в свои с небольшим пятьдесят все еще сохраняла фигуру танцовщицы. Она была похожа на Весну с картины Боттичелли “Аллегория Весны”, но тогда я этого не знал. Она была красива той семитской красотой, что старые итальянские мастера придавали библейским женщинам, рисуя их с итальянских матрон.
Интересно, что сама бабушка Лия почти стала итальянкой. Ее жизнь, как и моя, могла повернуться совсем по-другому. Если бы не мандарины.
Мандарины во всем виноваты.
Бабушка Лия и мандарины
В 1917-м, когда революция заполыхала в России, бабушке Лии было семь лет. Она росла второй дочерью в семье Берке Квартирмейстера и его жены Мариам в приморском городе Новороссийске и, как большинство детей, думала, что проживет там всю жизнь.
Мой прадед Берке Квартирмейстер – часовщик и ювелир – был донельзя странным для провинциальной еврейской жизни человеком: высокий стройный красавец со светло-пепельными волосами и зелеными глазами, Берке был франт и бабник. Никакие эвфемизмы типа “ценитель женской красоты” к Берке не подходили: он попросту был бабник.
Мариам – маленькая, темноглазая, похожая на напуганную газель – все ему прощала. Она была младше мужа на двадцать лет и боготворила его. Берке вел светскую жизнь, играя в местном любительском театре и играя в биллиард на деньги. Он одевался у старого французского портного, шившего ему на заказ костюмы и рубашки по картинкам из позапрошлогодних модных парижских журналов, а Мариам, Маня, с двумя дочерями – Дорой и Лией – ждала его с ужином дома. Иногда Берке пропадал по нескольку дней, неожиданно уезжая с одной из актрис театра, скажем, в Одессу – вероятно, репетировать. Маня никогда не спрашивала, где он провел эти дни, и молча подавала на стол. Ужин всегда ждал Берке дома, как ждала его дома и сама Маня.
Берке любил спорт: он играл в крикет и стал первым человеком в России, освоившим водные лыжи.
Берке зарабатывал много денег, выполняя муниципальные заказы: он делал городские часы, некоторые из них еще ходят, как большие вокзальные часы в Бердянске. Часы Берке висели по всей южной России и отсчитывали время его веселой жизни, пока не наступила революция. Тут часы пробили и остановились.
Берке Квартирмейстер не полюбил революцию. У него не было особых политических пристрастий, и он не отдавал предпочтения ни красным, ни белым. Он просто хотел, чтобы за часы платили. Платить же больше никто ни за что не собирался. И те, и другие – по разные стороны идеологических баррикад – брали, что хотели или считали нужным. Оттого Берке затосковал и решил эмигрировать в Италию.
Один из его партнеров по биллиарду, осевший в итальянском портовом городе Триесте, видно, напоминавшем ему родной Новороссийск, прислал Берке письмо о беззаботной итальянской жизни. Дольче фар ниенте – сладкое ничегонеделанье, искусство, доведенное итальянцами до совершенства, – манило Берке из разорванного гражданской войной Новороссийска, где не оставалось ни любительского театра с любвеобильными женами местных чиновников, под руководством Берке пробующими себя на сцене и вне ее, ни веселой и доходной игры в биллиард, ни милых его сердцу водных лыж с облегающим стройное мускулистое тело купальным костюмом.
В августе 18-го года после недолгих и хаотичных боев деникинская Добровольческая армия взяла Новороссийск, назначила Черноморским военным губернатором полковника Кутепова и начала расстрелы сочувствующих большевикам граждан. По городу поползли слухи о готовящихся еврейских погромах, и казаки из 3-го Донского казачьего корпуса недобро покачивались на лошадях, патрулируя центр и порт. Берке понял, что водных лыж ожидать не приходится. Он вздохнул и объявил Мане, что они едут в Италию.
Берке договорился с капитаном греческого грузового судна и, заплатив ему денег, ночью погрузил Маню и девочек в лодку и на веслах направился к стоявшему на рейде “греку”. Белые запретили выезд из города без разрешения вновь собранной ими управы. Белые хотели восстановить славную дореволюционную жизнь империи, а для этого были нужны подданные. Оттого подданным не позволялось убегать от готовящейся для них славной жизни.
Ранним утром – еще в полутьме, висящей зыбкой дымкой над стальной черноморской водой, – греческое грузовое судно снялось с рейда и отправилось на юг, чтобы выйти через контролируемые турками Босфор и Дарданеллы в Средиземное море. В трюме судна сидели Берке, Маня, Дора и Лия Квартирмейстеры. Они плыли в свою новую итальянскую жизнь. Так бы и получилось, кабы не мандарины.
Доплыв до Батума, “грек” встал на погрузку. Батум был оккупирован турецкими войсками, упразднившими за ненадобностью Закавказскую Демократическую Федеративную Республику, и, несмотря на недавние бои, в городе царила обстановка опереточного веселья, которой способствовало многоязычие толпы, экзотичность пейзажа и театральность турецких униформ.
Берке следил за жизнью, разыгрывавшей для него очередной спектакль, и через два дня решился сойти на берег, чтобы купить девочкам мандарины. Ни Дора, ни Лия мандарины никогда не ели и ждали возвращения отца с нетерпением.
Берке вернулся часа через четыре, без мандаринов, но с новым планом жизни. “Маня, – закричал он еще с трапа, – собирай вещи, мы сходим здесь. Остаемся в Батуме”. Маня, не спросив ни о чем мужа, молча пошла собирать вещи.
Они погрузились в ожидавшую их в порту повозку с грустным аджарским возницей и отправились в гостиницу.
Что случилось? Где мандарины? И как же сладкая жизнь в Триесте? Все это мой прадедушка Берке мгновенно забыл, и вот почему: отправившись за мандаринами, он встретил на рынке также пришедшего за мандаринами (а возможно, вовсе и не за ними) бежавшего из Одессы человека по имени Йося Либергауз, который с ним познакомился, напоил Берке вязким сладким турецким кофе в кофейне на набережной, а затем предложил ему остаться в Батуме и совместно – “на паях” – открыть кинотеатр. Берке послушался Йосю, остался в Батуме и открыл кинотеатр.
Через год в батумский порт вошли корабли со странным, невиданным Берке флагом – Юнион Джек. С одного из кораблей сошел генерал Кук-Колисс, объявивший себя военным губернатором, а город и прилегающий к нему округ – зоной британской оккупации. В городе стало еще многолюднее и веселее, цены на продукты взлетели в очередной раз, и в кинотеатре у Берке и Йоси музыкальная программа перед демонстрацией немых фильмов с похожими на кукол актерами зазвучала песнями на английском.
Маленькая Лия пробиралась на задние ряды и смотрела одно и то же кино в двадцатый раз. Она внимательно разглядывала публику, заполнявшую темный зал, и придумывала им жизни, похожие на мелькавшие на экране фильмы. Британские офицеры приходили смотреть кино с местными дамами, брошенными отступившей Кавказской армией, и Лия помнила, как те же дамы раньше приходили в кино с оттоманскими военными, и гадала, с кем дамы придут в следующий раз. Утром она и Дора отправлялись в гимназию для девочек, где мадам Костанеди учила их быть девочками, и две старые грузинские девы, проведшие давно закончившуюся юность в Марселе, погружали их в таинственный мир французских глаголов. После гимназии Лию ждал урок фортепиано с маэстро Чхеишвили и игры с Дорой в большом тенистом саду, где у старой смоковницы жил привязанный к ней тонкой цепью попугай-ара, купленный неизвестно зачем Берке на базаре. Возможно, Берке надеялся, что попугай выучится говорить, но говорить попугай отказывался и недобро глядел на мир выпученными глазами-бусинками. Девочкам запрещалось к нему подходить близко: попугай клевался и убил у них на глазах подбежавшего к нему соседского щенка.
Британцы скоро ушли, и турецкая армия снова заняла Батум, способствуя очередному росту цен и подъему энтузиазма у посещавших кинотеатр дам. Вся эта мелкобуржуазная идиллия длилась до марта 21-го года, когда генерал Мазниашвили выбил турок из города, восстановив Грузинскую Демократическую Республику. Восстановил он ее, правда, ненадолго, поскольку уже через три дня в празднующий очередное освобождение город вошли войска 9-й Стрелковой дивизии Красной Армии и освободили Батум от дальнейших освобождений на следующие семьдесят лет.
Спектакль батумской жизни закончился – опустили занавес.
Томные дамы перестали посещать кинотеатр, который скоро реквизировали под революционный лекторий, и Берке заскучал от победившей революции. Пару месяцев он раздумывал, не последовать ли ему за своей младшей сестрой Бетти в принадлежавшую туркам Палестину, но, пока он раздумывал, ревком под управлением Сергея Кавтарадзе закрыл границу.
Берке Квартирмейстер в очередной раз горько вздохнул и увез семью в Екатеринодар.
Опереточная жизнь в Батуми навсегда наложила на мою бабушку Лию отпечаток театральности существования. Она в конце концов стала драматургом и писала легкие, искрящиеся неглубокой радостью музыкальные комедии, пользовавшиеся в 50-е и 60-е годы большим успехом и шедшие во всех музыкальных театрах страны. Позже, устав от театра, бабушка Лия обратилась к детской литературе, и ее книга “В стране невыученных уроков”, написанная в качестве поучения для меня, приобрела огромную популярность и была включена в школьную программу. Так бабушка Лия стала классиком при жизни.
Итальянкой бабушка, правда, все же не стала, и в том виноваты мандарины.
Жизнь не удалась
В последний год моей приморской жизни, когда пришло время окончательно возвращаться в Москву, за мной приехали родители. Тетя Фатима и дядя Джантемир накрыли стол, долго поили маму и папу домашним вином “изабелла”, расспрашивали про жизнь в столице (в основном про цены) и, когда над садом нависла вишневая южная тьма, решив, что момент пришел, приступили к главному:
– Алла, – обратился к моей маме дядя Джантемир, понимая, что, в отличие от его семьи, в нашей все решает мама, – вы с Эдвардом молодые еще. Продай, хорошо?
– Что? – спросила мама. – У меня ничего нет, дядя Джантемир. Я ничего из Москвы не привезла, только вам подарки.
– Олежку продай, – вступила тетя Фатима. – Вы молодые, себе еще родите, а я не могу уже.
– Ему здесь хорошо, – аргументировал свою просьбу заботой обо мне дядя Джантемир, – он не кашляет, как у вас в городе, на море будет жить, фрукты свежие всегда. Молоко от козы.
– А вы с Эдиком приезжайте, отдыхайте бесплатно, на него смотрите, – предложила тетя Фатима. – Только не в сезон: в сезон курортникам сдаем.
– Ему у нас лучше, – закончил дядя Джантемир. – Продайте, да?
– А за сколько? – поинтересовался мой отец, которого страшно забавляла эта ситуация. – Какая ему, по-вашему, цена?
– Эдька! – закричала мама. – Прекрати свои идиотские шутки! Люди здесь неправильно понимают. Никогда! – повернувшись к хозяевам, отрезала мама. – Олег наш и будет нашим. Я скорее умру.
Смерти моей маме никто не желал, и потому я остался у своих родителей.
Вечером того дня, ложась спать, мой папа задумчиво бормотал:
– Интересно все-таки, сколько они хотели предложить?..
Меня не продали, а увезли обратно в московское детство, где оно постаралось затеряться меж уютных книжных страниц, не торопясь выбраться на холодный ветер настоящей жизни. Я не стал черкесским абреком, и мое детство продолжалось в симулякре, тщательно выстроенном из книг и населявших их героев. Так бы оно и продолжалось, но у жизни оказались свои планы относительно моего воспитания.
Конфликт города и деревни
Я не заметил развода родителей: последний год совместной жизни папа появлялся дома все реже. Это объяснялось тем, что ему удобнее работать в другом месте. Потом он перестал появляться совсем, и меня возили к его родителям – бабушке Соне и дедушке Стасе – встречаться с ним раз в неделю. Он не знал, о чем со мной разговаривать, спрашивал, что я читаю, и потом долго говорил об этих книгах сам с собой. В нашей семье все чувствовали себя уютнее, говоря о книгах.
Мама скоро вышла замуж, и с нами стал жить другой папа – папа Тема. Рустем Губайдулин вырастил меня, и я верю, что если во мне и есть что-то хорошее, этому меня научил папа Тема. Он и мама работали вместе на телевидении в литературно-драматической редакции (литдраме) и придумали первый советский ситком – “Кабачок 13 стульев”. И стали писать для него сценарии вместе со своим другом и коллегой Толей Корешковым. Они писали сценарии по очереди: каждый месяц – другой человек. За сценарий платили сто пятьдесят рублей, что стало ощутимым подспорьем к ста двадцати рублям их редакторской зарплаты, и скоро мы переехали из комнаты в коммунальной квартире в Сокольниках в купленную на заработанные зрительским смехом деньги кооперативную квартиру на окраине тогдашней Москвы – в Дегунине.
Кооператив этот был ведомственный, выстроенный для работников недавно созданного в то время Министерства газовой промышленности СССР, ставшего впоследствии российской компанией “Газпром” (и национальным достоянием). В министерстве каким-то важным инженером-разработчиком трудился отец папы Темы. Он и помог родителям купить трехкомнатную квартиру в этом кооперативе, в которой прошли мое поменявшееся детство, затем и юность.
Мы были единственной семьей в доме, не имевшей отношения к газовой, да и к никакой другой промышленности; остальные жители могли говорить о трубах, прокладке, укладке и суровом Севере, мы же могли говорить только о книгах. Тут я повстречался с настоящей жизнью, и она мне решительно не понравилась.
Дегунино в конце 60-х годов все еще было деревней. Вдоль Коровинского шоссе стояли недавно построенные коробки девяти- и двенадцатиэтажных домов, но чуть вглубь лежала деревня Коровино с деревянными избами, огородами, грязными дворами и жившими в них курами, козами и коровами. Население делилось на “новостроечных” и “деревенских”, и конфликт между ними обозначился в первый же день в школе, куда я отправился в четвертый класс.
Деревенские не любили новостроечных. Рациональных причин для нелюбви не было, но когда рациональность мешала нелюбви? Как, впрочем, и любви. Они нас не любили, и всё.
Деревенские были сплоченной группой, знали друг друга с детства, и их родители и деды знали друг друга с детства. Между ними тоже шла непонятная нам, приезжим, вражда: жившие за карьером, поросшим лопухами и жестким кустарником, воевали с жившими ближе к шоссе, но эти мелкие местные распри были мгновенно забыты перед лицом увлекательной нелюбви – к нам, новостроечным. Они часто нас били, но все с меньшим ожесточением, и к середине года этот конфликт между городом и деревней потерялся, стерся среди других, более актуальных школьных конфликтов. Кроме того, город последовательно и неизбежно наступал на деревню, избы сносили, и деревенским давали квартиры в построенных на месте их изб девятиэтажках. Все знали, что в девятиэтажках квартиры дают, а двенадцатиэтажки – ведомственные кооперативы, и в них квартиры покупают. Оттого конфликт между деревенскими и новостроечными скоро подменился глухой классовой враждой населения девятиэтажек к нам, кооперативным. Нелюбовь, как вода, находит способ всюду проникнуть и заполнить собой открывшееся пространство: было бы кого не любить.
А кого не любить – всегда найдется.
Каждое утро я отправлялся в другой мир, в странную, непонятную реальность, где не говорили о книгах. В этом мире дети дрались, мирились, отнимали друг у друга выданные на школьный обед деньги и интересовались, кто сильнее кого. И совсем не интересовались жизнями книжных героев. Или биографиями создавших этих героев писателей, их влиянием на жизнь страны, их противостоянием этой жизни, или, на худой конец, кто что в каком театре поставил, и что цензура в лице Московского управления культуры “пропустила”, а что “не пропустила”, то есть всем тем, что наполняло наши семейные разговоры и заботы. В этом мире не говорили о новых рассказах Шукшина, его самобытности, почвенности, нелитературности, о новых романах Трифонова или конфликте Аксенова с властью, о театре “Современник” и его конфликте с властью, о конфликте писателей-деревенщиков с “городскими” писателями, о Василии Белове и Андрее Битове, о Таганке и конфликте Любимова с властью, или о том, что в очередной раз не позволили снять Тарковскому. В мире, куда я отправлялся по утрам, были важны другие конфликты, и их реальность, их нелитературность утверждала себя синяками на моем удивленном этим миром лице каждый день.
Я знал только один путь борьбы с неприятной мне жизнью: убежать в книги поглубже. Оттого, придя из школы, я не садился за скучные уроки, а, погуляв с собакой – шотландским колли, подаренным мне на десятый день рождения, поскольку я тогда зачитывался шотландским писателем Вальтером Скоттом, – утаскивал полную сахарницу и кирпичик любимого бородинского хлеба на диван, где читал, читал, читал. Родители приходили домой, когда я уже спал, – у них часто были ночные тракты – записи передач, а я уходил в школу, когда они еще спали, потому мы виделись редко – на выходные.
Моими родителями стали прочитанные и многократно перечитанные книги, меня вырастили Айвенго, герои рыбаковских “Кортика” и “Бронзовой птицы”, гувернер Карл Иванович из толстовского “Детства” и прочие населявшие мою жизнь персонажи.
Такой ущербной, раздвоенной жизнью я и продолжал жить, не осознавая ее ущербности, отказываясь от предложенного мне реального существования и подменяя его придуманным другими людьми миром. Или скорее мирами, оттого что жизнь в лесковских рассказах была вовсе иной, нежели жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим. Я жил во многих мирах и жалел тех, кому выпало жить лишь в одном, и притом неприятном, мире повседневности.
Мир этот, однако, вскоре сумел пробудить меня от моего литературного сна, но – в отличие от заколдованных принцесс – не поцелуями, а кулаками.
1 сентября следующего года, надев жаркую не по погоде школьную форму, я отправился в пятый класс. Тут – на торжественной линейке – выяснилось, что в нашем классе теперь будет учиться Юра Конкин.
Конкина все знали: он был хулиган, которого постоянно наказывали и обсуждали на педсоветах. Конкин был коровинский, деревенский. Он уже однажды учился в пятом классе, но учителей это не убедило, и его оставили на второй год. Конкину было все равно: он водился с большими ребятами и курил.
На третьей, длинной, перемене Конкин собрал мальчиков вокруг себя. Он был не выше остальных, но как-то шире в плечах. Его форма была старой, прошлогодней, и от нее пахло. Конкин не носил пионерский галстук: он был исключен из пионеров.
– Значит, так. – У него был хрипловатый, приятный голос. – Всем на обеды деньги дают?
Давали всем, кроме Саши Капитаненко: его мать была алкоголичкой, и Сашу кормили по специальному талону, который раз в неделю он получал в учительской. Остальным давали по сорок копеек: пятнадцать на суп, пятнадцать на второе и десять на компот и булку.
– Значит, так. – Когда говорил, Конкин немного брызгал слюной. – Сегодня ешьте, а завтра принесли мне по десять копеек. Соберу на большой перемене.
– На что? – поинтересовался длинный и худой Гена Ермолаев. – На что собираем?
– Ты чо, мудак, что ли? – Конкин не понижал голос, когда говорил матом, как делали другие мальчики в нашем классе. – В ебло захотел? Сейчас оформлю.
Ермолаев не хотел. Остальные, подумав, решили не интересоваться, на что Конкин собирает деньги, и разошлись тихо, размышляя, от чего лучше отказаться – от супа или от компота.
Я не очень понял, что произошло, и решил посоветоваться с папой Темой.
Тот выслушал все и не удивился.
Он оглядел меня как-то по-новому и затем, подставив открытую ладонь, попросил ударить в нее со всей силы.
– Зачем? – не понял я.
Обычно мы обсуждали, где находятся какие столицы, какая страна с кем граничит, или говорили о любимых и не очень писателях. Раньше в нашей семье никто никого никогда не бил по ладоням.
– Хочу посмотреть, какой у тебя удар, – сказал папа Тема.
Я замахнулся и ударил. Получилось звонко и как будто сильно.
– Плохо, – вздохнул папа Тема. – Будем учиться.
В конце 30-х его отца, известного инженера, и политработницу-мать отправили в лагеря, а папу Тему – в детский дом для детей врагов народа. Нравы там мало отличались от тюремных, и он выжил, потому что научился драться, и драться жестоко.
В тот вечер он показал мне, как правильно ставить ноги перед ударом, как отталкиваться и разворачивать бедро, чтобы ударить всем весом, а не просто рукой. Он учил меня бить коротко и без замаха. Он учил меня бить куда больнее.
– Завтра, – сказал папа Тема, – когда твой второгодник подойдет за деньгами, скажи ему, что от тебя пусть денег не ждет. Он начнет “качать”, – это я не понял, но слушал внимательно, – тут сразу бей. Старайся попасть в подбородок, чтобы он потерял равновесие, а потом в нос, чтобы в кровь. Бей, не бойся; с мамой я поговорю.
Думаю, маме он так никогда ничего и не сказал.
Утром перед школой я занервничал. Я не хотел драться: я боялся и надеялся, что Конкин не придет в школу. Потом решил, что проще не ходить в школу самому.
Я постучал в дверь родительской спальни и сказался больным.
– Глупости. – Мама потрогала мой лоб сухими со сна губами. – Ничего у тебя нет. Абсолютно здоров.
Расстроившись, я пошел на кухню, и туда сразу вышел папа Тема. Он сел напротив и молча смотрел, как я ем гречневую кашу с молоком.
Затем сказал:
– Не бойся, все через это проходят. Сейчас побежишь – всю жизнь будешь бегать.
На большой перемене мальчики собрались вокруг Конкина в дальнем углу и сдавали ему по десять копеек. Ермолаев отдал первым и остался стоять рядом, кивая каждый раз, когда очередной мальчик протягивал деньги.
Я не пошел. Я ушел в другой конец коридора, ближе к учительской, и надеялся, что Конкин про меня забудет.
Он не забыл и отыскал меня сам. Конкин был в хорошем настроении и не собирался конфликтовать.
– Гони гривенник, – сказал Конкин. – Я после географии сваливаю.
– Нет. – От страха я не услышал свой голос.
– Чего нет? – удивился Конкин. – Тебе что, на обед не дают?
– Мне дают. – Помня вечерний урок, я поставил ноги параллельно и чуть согнул колени, отступать было некуда. – Это я тебе не даю.
Конкин стоял в фас, чуть сбоку, удобно, под правую руку. Он смотрел на меня удивленно и не знал, что сказать, не ожидая такого поворота дел. Я понял, что не могу больше ждать, оттого что был напуган и хотел убежать.
Я ударил Конкина точно в центр подбородка с правой руки, правильно перенеся вес на левую ногу; этот удар я вчера отрабатывал больше часа. Затем слева боковым и снова с правой прямым, но оба удара ушли в воздух. Я остановился: не понял, что произошло.
Конкин лежал на полу. Он упал после первого удара и стукнулся затылком о пол. Я не знал, что делать: такую возможность мы с папой Темой не обсуждали. По плану, Конкин должен был оставаться на ногах, чтобы в него можно было бить сериями, сдвигаясь в сторону после каждых трех ударов, пока он терял время на разворот. Но Конкин лежал на полу и никуда не разворачивался.
Нас обступили, и где-то совсем недалеко уже были слышны голоса взрослых.
Конкин медленно поднялся на ноги, странно помотал головой из стороны в сторону и молча бросился на меня. Он сбил меня с ног, и мы покатились по полу. Конкин старался освободить руки и ударить в лицо, но я цепко держал пальцы замком у него на спине, не давая вырваться. Затем нас обоих – за воротники школьных пиджаков – поднял учитель физкультуры, и все кончилось.
Меня особенно не ругали и ни о чем не спрашивали: всем в учительской было ясно, что виноват, как всегда, Конкин. Меня скоро отправили в класс, а Конкина оставили до прихода завуча.
В классе все глядели на меня с удивлением, и Ермолаев крутил у виска пальцем.
Они ждали меня после уроков, на узкой тропинке, что вела от школьного двора к гаражам. Их было трое: Конкин, худой шестиклассник по кличке Аким и Ермолаев. Когда я их увидел, я хотел – еще мог – свернуть в сторону и пройти между домами. Но потом вспомнил слова папы Темы и решил не бежать.
Все равно завтра в школу.
Мне мешал портфель. Я не знал, куда деть портфель. Конкина я теперь не очень боялся, но их было трое. В конце концов я решил, что портфелем можно будет закрыться как щитом.
Первым ударил шестиклассник. Этого я не ожидал: я думал, мы с Конкиным будем драться один на один. Они набросились на меня и стали бить со всех сторон. Я успел ударить в ответ пару раз, но не сильно, без прицела, мажа и не причиняя особого вреда. Конкин и Аким прижали меня к стене гаража, держа за руки, и Конкин кивнул Ермолаеву. Тот всю драку прыгал вокруг и махал длинными руками, выкрикивая что-то на выдохе.
– Давай! – приказал Конкин. – Дай ему, Ермола!
Ермолаев съежился и, странно взвизгнув, ударил меня по лицу раскрытой ладонью. Аким засмеялся.
Конкин плюнул на мой портфель и сказал:
– Еще раз прыгнешь – изуродую, блядь. Ты мне теперь рубль должен.
Вечером, когда мама начала допытываться, я соврал что-то про велосипед. Мать хотела намазать меня зеленкой, но я не дал. Было больно, но с зеленкой на лице я не мог пойти в школу.
Папа Тема пришел с работы, как всегда, поздно; я уже лежал в постели, но не мог заснуть. Поговорив с мамой на кухне, он прошел в мою комнату и сел на кровать. Мы помолчали в темноте, потом папа Тема включил свет.
Он осмотрел меня и спросил:
– Он один тебя так?
Я рассказал про события прошедшего дня, и папа Тема стал смеяться. Я не понял: я ожидал жалости и сочувствия.
– Глупый, – отсмеявшись, сказал папа Тема. – Он же тебя испугался, сразу. Вставай, будем учиться.
В тот вечер он научил меня бить носком ноги под колено, а потом серию из двух боковых. И мы выработали план.
На следующее утро я пошел за школу, где курили. Там уже стояли ребята постарше, пряча окурки в кулаках, и с ними курил Конкин. Я оставил портфель за углом и пошел прямо к курящим. Я здесь раньше никогда не был: все мальчики в школе знали, что это место лучше обходить.
Конкин стоял ко мне спиной, и другие не обратили на меня внимания: я был никто и не мог им ничем угрожать. Они громко матерились между собой и о чем-то незлобно смеялись.
Я подошел к Конкину сзади и позвал:
– Юр!
Конкин обернулся, и мне показалось, что он чуть дернулся от неожиданности. Я подождал, пока он полностью развернется: он был нужен мне в фас. Затем я вдохнул и на выдохе ударил Конкина правым кулаком в лицо.
Нас никто не разнимал. Мы дрались молча, окруженные курящей шпаной, которая тоже молчала.
Конкин победил: он сбил меня с ног и, сев верхом, долго бил по лицу, пока я старался ловить его руки. Потом прозвенел звонок, и Конкин меня отпустил.
Мы оба бежали в класс с разбитыми лицами, и Конкин, задыхаясь от злости, подвывал сзади:
– Рубашку, падла, рубашку порвал. Меня мать за эту рубашку убьет, сука. Измордую после уроков, блядь. Пиздец тебе, Радзинский.
Он оказался человек слова.
Так продолжалось неделю: я находил Конкина утром и успевал ударить несколько раз. Конкин был сильнее и дрался лучше. Он обычно побеждал в утренней драке, но все с меньшим перевесом, и все чаще мне удавалось разбить ему нос или сильно ударить в челюсть. После уроков Конкин ждал за гаражами с кем-то из своих, и они били меня сколько могли. Следующим утром я снова ловил Конкина, чтобы успеть ударить хотя бы несколько раз в лицо.
Про деньги Конкин больше не заикался; он ничего не хотел – только чтобы я отстал.
В конце второй недели он начал от меня прятаться.
С тех пор я знал: бежать нельзя.
Так шло мое детство – собаки и книги, да драки из-за неясных, чужих мне конфликтов, казавшихся ненастоящими по сравнению с конфликтами и страстями, поселившимися в черных значках на белой бумаге книжных страниц.
Затем детство плавно перешло в московскую юность 70-х, озаренную невероятной легкостью бытия.
Жизнь вторая
Советский мажор
1973–1978
Невероятная легкость бытия
Восьмой класс – переломный момент в советской жизни тех лет. Кто не собирался учиться дальше, шел работать либо уходил в профтехучилища – ПТУ, и в девятом классе оставались лишь готовящиеся поступать в институты.
После восьмого класса я пошел в спецшколу с углубленным изучением гуманитарных предметов, в основном литературы. Пошел я туда вопреки своему первоначальному намерению, и эта, как и все последующие перемены в судьбе, произошла случайно, непреднамеренно и потому может рассматриваться как изначальная модель моей жизни.
Моих жизней. Так правильнее.
Не думал, не гадал. Не планировал. Само случилось. Помимо меня.
Казалось бы, пойти в школу, где преподают литературу более углубленно, чем другие предметы, было логичным для меня шагом. Но нет: к восьмому классу я собирался стать биологом, вернее, этологом – специалистом по поведению животных.
Как? Почему? Естественно, я решил стать этологом, потому что прочел об этом в книгах. Как и обо всем другом.
Лет в десять я открыл для себя Джеральда Даррелла и его веселый мир, населенный экзотичной живностью и приключениями в разных далеких странах, его всепонимающей и всеразрешающей мамой, несуразным братом Ларри и своевольной сестрой Марго. Я заинтересовался животными, стал наблюдать за поведением собак и кошек, мирно уживавшихся в нашей квартире, и скоро начал читать книги Конрада Лоренца, основателя науки этологии. Я твердо решил, что стану этологом, буду ездить по разным странам, как Даррелл, и проводить поведенческие эксперименты с собаками и волками, как Лоренц.
Мир книг – мир доступного. Сказано – сделано, и весь восьмой класс я готовился к поступлению в школу с биологическим уклоном при МГУ. Мне наняли репетиторшу по биологии и химии – несчастную, озабоченную бытовой неустроенностью аспирантку из какого-то НИИ. Раз в неделю она приезжала к нам домой, и мы погружались в мир клеток, анатомию человека и заполнявшие страницы тетради длинные химические уравнения.
Родители остались довольны моим выбором: будет в семье хоть один нормальный, не зависящий от идеологии человек, не связанный с раздвоенным, шизофреническим миром советской творческой интеллигенции, находившейся в постоянном конфликте с кормившей ее властью. Чистое, хорошее дело, говорили родители. Биологи ездят по полям и лесам, рассказывала мне мама, в жизни не видевшая ни одного биолога. Еще лучше стать океанологом, добавлял папа Тема. Все время в воде. На дне. Думаю, ему нравилась идея, что под водой тебя не достанет никакая идеология.
Папа Эдик тоже одобрил мой выбор: “Подальше от всей этой омерзительной литературно-театральной возни, – сказал он. – Хоть не будешь от этих зависеть”.
“Этими” была советская власть. Моя заблудившаяся в литературе семья была твердо уверена, что у всех в стране, кроме творческой интеллигенции, спокойная, уверенная и устойчивая, не зависящая от власти жизнь. Какой эта жизнь была в действительности, моя семья не интересовалась, как не интересовалась и любой не своей действительностью. На самом деле “этими”, “другими”, “чужими” для них была не власть, а все остальные, не жившие гуманитарным творчеством. Этих “других” они не знали и знать не хотели и придумывали их жизнь заново, населяя ее собственными тревогами, мыслями и чаяниями. Которые, в свою очередь, не знала и знать не хотела страна.
Власть же была для интеллигенции своей, родной, неотъемлемым компонентом экзистенциальной дихотомии населенного ими симулякра. Не стало той власти – не стало и их. Советская интеллигенция была по-настоящему советской: кровь от крови и плоть от плоти режима. Когда кровь та перестала течь, оказалось, что другой крови у них в жилах нет. Как не было у товарища Сталина других писателей, кроме тех, что были.
Мне могло посчастливиться вырваться из созданного творчеством химерного мира и войти в мир настоящий, кабы я стал биологом. На самом деле мой придуманный мир биологии был тоже мир книг, мир, созданный на их страницах и, скорее всего, не имевший отношения к настоящему миру. Я хотел убежать из одной химеры в другую. Из одной придуманной жизни – в другую, не менее придуманную.
Не тут-то было. Даже этого я не смог.
В восьмом классе меня отправили на районную литературную олимпиаду – то ли потому, что я хорошо учился по литературе, то ли оттого, что никто больше не хотел ехать. Мне сообщили, что я должен поехать и защитить честь школы. Я поехал и защитил.
Через две недели оказалось, что я выиграл олимпиаду, и меня отправили на московскую городскую олимпиаду по литературе. Ее я тоже выиграл, но не обратил на победу должного внимания, поскольку дело было в мае и я усердно готовился к выпускным экзаменам за восьмой класс и, главное, к вступительным экзаменам в биологическую школу.
Первый экзамен в ту школу оказался не по биологии, а по химии. Я его провалил – получил четверку. На следующий меня не позвали: получившие четверки были не нужны. Так я не стал этологом, и оттого поведение животных остается для людей загадкой.
Возвращаться в дегунинскую школу я не хотел: стыд, позор, да и неинтересно. Отыскав диплом победителя московской городской олимпиады, я отправился поступать в школу с углубленным изучением гуманитарных предметов на Кутузовском проспекте. Меня – ввиду олимпиадных заслуг – приняли без экзамена, и я уверенно, хоть и незапланированно, вступил на скользкую и опасную тропу высокой гуманитарности. И катился по ней еще восемь лет аж до самой посадки в тюрьму.
Советские мажоры
Москва 70-х годов – золотой поры советского застоя – жила удивительно богатой и насыщенной жизнью. По крайней мере так казалось населявшим ее детям известных родителей. Моя фамилия вызывала безошибочное узнавание, и путь в эту увлекательную жизнь оказался мне открыт.
Мы все были чьими-то дочерями и сыновьями и – за неимением других достоинств – старательно пользовались своими фамилиями. Больше-то у нас ничего не было.
Деньги не играли особой роли в советской жизни, поскольку их было не на что тратить. Статус определялся привилегиями, причастностью к когорте избранных и вхожих. Советская власть старательно создавала и поддерживала эту кастовость, и мы, дети РОДИТЕЛЕЙ, воспринимали подобную социальную стратификацию как данность и непреложность. Мне стыдно об этом вспоминать и в этом признаваться, но врать еще более стыдно.
Мир “центровых” был миром больших квартир в ведомственных домах внутри Садового кольца, где не полагалось случайных соседей. Все соседи носили известные фамилии и были кем-то. Забредшие в этот мир случайные люди с окраин должны были заслужить свою к нему принадлежность. Красивым девочкам из отдаленных мест столицы это давалось легче, от мальчиков же требовалось быть кем-то, кому – несмотря на отсутствие правильных родителей – дозволялось в этом мире остаться.
Такое случалось нечасто: наш мир функционировал по законам дарвиновского естественного отбора, где выживание сильнейших было заменено на выживание причастных. Это я заявляю как неслучившийся биолог.
Мой опыт, однако, отличался от опыта моих друзей: я вырос в Дегунине, а не в центре. Я вырос в окружении чужих, не сливаясь с ними, но и не особо выделяясь, научившись говорить их языком, но не став ими. Мой мир до девятого класса случался летом, во время каникул, когда меня отправляли в родной пионерский лагерь Литфонда СССР, куда каждый год съезжались все, кого я знал еще с детского сада того же Литфонда. Все, кто рос в заботливо сплетенном их родителями коконе чужой стране жизни, состоящей из книг, спектаклей, сценариев фильмов, – жизни из чужих слов. Мои друзья по прослойке ходили в столичные языковые спецшколы, где сидели за партами с детьми из других советских каст; у них не отнимали на перемене деньги, и их не били после уроков у грязных гаражей. Их вообще пока не били. Эти уроки им еще предстояло выучить.
С одной стороны, я был такой же, как они: обладатель правильной фамилии, чьи родители работали в правильном месте и говорили правильным языком на правильные темы. С другой стороны, я чувствовал себя взрослее, опытнее и злее. Я был чужим среди своих, никогда, впрочем, не став своим среди чужих. Я мог сойти за своего, но им не был.
Эта отдельность от окружения, нетождественность ему стали парадигмой всей моей жизни: мое черкесское младенчество отдалило меня от детсадовского литературного окружения, мое дегунинское школьное детство воспитало меня по иным законам, чем законы московских элитных школ, и дальше я жил и продолжаю жить отдельно от окружающего меня мира. Уже больше тридцати лет я живу в чужих странах, живу жизнью этих стран, оставаясь чужим – вечным приезжим. Я говорю на чужом языке, ставшим мне вторым родным, и мои дети, родившиеся и выросшие в этих странах, выросли под чужие колыбельные и считались под чужие считалки: Mini, mini, mani mo, catch the tiger by the toe… Мини, мини, мани мо, кэтч дзе тайгер бай дзе то…
О чем это?
О чужом.
Моей страны больше нет. Как со свойственной ему элегантностью слов, написанных за него спичрайтерами, сказал президент Рейган: “The Soviet Union is no more”. Нет его больше, и все тут. На месте моей страны, занимая бльшую ее часть, лежит другая страна – Россия. Иногда – изредка – я приезжаю туда и, как обычно, чувствую себя чужим. Я говорю на том же языке, но говорю о другом. Я не пережил с этой новой страной весь ее путь перемен, развалов, вставаний с колен и оттого не могу быть таким, как друзья моего детства и моей юности, прожившие и продолжающие проживать со своей страной все перемены, измены, горести и радости. У них есть Родина – такая, сякая, но в ней они дома, как были дома в своих “центровых” языковых школах и в своих “центровых” ведомственных домах. Они были и остаются тождественны своей жизни. Я же не был дома ни тогда, ни потом – чужой среди почти своих. Не свой среди совсем чужих.
Я привык. Даже нравится.
Тогда, в разгульных 70-х, я прибился к новой-старой группе золотой молодежи моей юности. В новой школе, находившейся во дворе дома, в котором жил дорогой Леонид Ильич Брежнев и прочая партийная элита, я нашел и старых, и новых друзей. Старше меня на год учился Паша Брюн, которого я знал по пионерскому лагерю Литфонда, – впоследствии художественный директор знаменитого Cirque du Soleil, с которым дружил и продолжаю дружить до сих пор. 1 сентября, опаздывая на первый урок и заблудившись в новой для меня школе, я встретил в коридоре такого же новенького и также заблудившегося, но совершенно не тревожившегося по этому пустячному поводу Сашу Лебедева, ставшего моим вечным другом. С ним и Пашей, и с другими, навсегда оставшимися моими друзьями, прошла моя золотомолодежная юность – привезенные чьими-то родителями из-за границы диски рок-групп, “Джизус Крайст Супер Стар”, джинсы “Левайс”, дешевый алкоголь и торопливый секс со случайными и менее случайными девочками в просторных квартирах внутри Садового кольца – пока не вернулись с работы взрослые.
Мы много пили, много курили и много говорили – радостные, упоенные своей юностью и незаработанной нами привилегированностью, будущие хозяева советского будущего, не подозревая, что будущее это окончится раньше, чем через двадцать лет.






