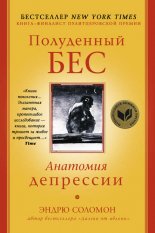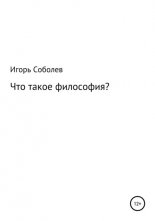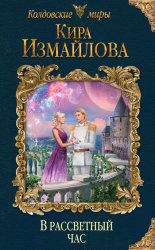Семнадцатая руна Рёснес Ольга

1
Здесь, над неприветливо рокочущим возле скал морем, в отданной ветру бесприютности никем не обжитого, веками пустующего, безымянного берега, можно сложить с себя все обязательства перед жизнью, отдав ей напоследок свою самую жгучую, пылающую мечту… но как призрачен ее таяший вдали горизонт, как велики расстояния от ее сегодняшнего «никогда» до теряющегося в неизвестности «всегда». Мечта о любви и свободе. Ради нее жизнь зазывает каждого на истощенную жадностью, скукой и слепотой землю, не обещая ничего, кроме вечного повторения одного и того же… слепоты, скуки, жадности. Но кто-то ведь должен призвать жизнь к ответу: зачем? И если это не сделаешь ты, другим и подавно это не нужно. Здесь, на самом краю.
Застывшее в немом вопросе время домогается ответа у сухой травы и заросших вереском трещин в гранитных скалах, которые были тут всегда, никому в мире не нужные, отданные непогоде и солнцу, и чайки кричат ветру одно и то же, пронзительно и настойчиво, кричат о возвращении всего к своему началу.
Этот вопрос живет с Герд почти уже семьдесят лет, вопрос о причинах видимого, таинственно ткущих необъятную панораму жизни. И хотя сама жизнь учит без устали каждого, что всё в ней – одно лишь страдание, начиная с рождения и кончая смертью, Герд подозревает, что это не так, ведь через рождение явился на землю Христос, указав своей смертью на новое, теперь уже в духе, рождение и тем самым поставив смерть в ряд жизненных метаморфоз… если бы только удержать в себе эту мысль!.. удержать не рассудком, но сердцем. Так много нужно раздробить в себе камней, растворить их соками своего прорастания и цветения, соками невинной, лишенной эгоизма устремленности к солнцу. От сердца к солнцу, и никак иначе.
В этом нет ничего личного, думать о себе как о командированном на землю страннике, и в самой бессрочности этого проекта угадывается намек на слишком уж большое для одной только жизни одиночество. Это не то, что обычно имеют в виду, говоря о бестолковости судьбы, это как раз тот самый мир, тишина и спокойствие, от которых шарахается уверенное в себе благополучие. Это к тому же ни на миг не стихающая боль какой-то очень большой утраты… утраты, быть может, самого себя. Ведь стоит только впустить в свою жизнь другого, как сам ты становишься всего лишь «половиной», чаще всего не пригодной для беспристрастного взгляда на это сожительство и потому всецело зависимой от того, другого, нередко чужого. Тем не менее, это противостояние другому является для каждого школой, хорошей или плохой, и тут каждый сам для себя учитель. Тому же, кто, выдрав себя с корнем из застойной рутины общежития, безоглядно устремлен к подобному себе свободному духу, приходится начинать всё сначала, снова и снова, подтверждая тем самым свою способность дышать далекими от сиюминутности идеалами. Их приносит, должно быть, каждому его ангел, эти едва только касающиеся земли идеалы, и каждый волен поступать с ними по-своему, да хоть бы и вовсе отвернувшись от них. А кто все же рискнет и потянется вверх, теряя на ходу ставшее уже ненужным броское, кричащее о себе «моё», тот сразу становится одиноким, и лишь тоска о любви и остается для него действительностью.
Здесь, на ветру, среди камней. Не надо смотреть вниз, предъявляя счет пологим и крутым ступеням, зовя, быть может, себя обратно… вниз. Там нет уже ничего, там, внизу, разве что какие-то, теперь уже не твои, имена… Обернувшись, Герд смотрит на едва поспевающую за ней собаку, такую же, может, старую, живущую скорее по привычке, чем из надобности. Они вместе уже лет пятнадцать, и у этого срока есть свои обязательства перед временем: эта последняя, самая последняя осень.
– Ну что ты, в самом деле, отстаешь?
Стоит лишь заглянуть старой собаке в глаза, и становится за себя стыдно: такая чисто человеческая непонятливость. Разве можно сравнить иссушенный формулами и догмами человеческий рассудок с овеваемой чудесным ясновидением собачьей душой? Когда-то еще человеку предстоит добраться до лунных высот ускользающей от рассудка собачьей мудрости! Однако ведь и животному приходится делить с людьми их сомнительную судьбу в мире смерти и разложения.
– Ты моя радость, ты умница…
Собачье тело изъедено язвами и гнойниками, и только верность движению, она-то и тянет вверх, по камням, отяжелевшее, неуклюжее тело. Ветер треплет мохнатые уши, избегая быть схваченным налету все еще крепкими волчьими зубами. Здесь пахнет морем, за которым ничего уже нет, здесь край земли.
Судьба изобретет тысячу способов, чтобы добиться своего. Она покажет свое лицо в миг твоего рождения, тут же приказав тебе все забыть ради твоей же свободы, и только изредка постукивает потом в наглухо запертые двери, представляясь безымянным случаем. Так, еще не зная, зачем, Герд стала в двенадцать лет ветеринаром, выхаживая полумертвую бездомную шавку. Затащив собаку в заброшенную, возле леса, избушку, Герд никому ничего не сказала, следуя лишь своему упрямству, и собака это поняла: ей не следовало умирать. Тогда Герд это и обнаружила: в ее руках, во всем ее теле таится необычная сила. Она вспыхивает внезапно и так же внезапно пропадает, и то, что ее пробуждает, можно сравнить лишь с любовью. Эта ничем не одолимая, врачующая сила любви! Сказать об этом кому-то Герд так и не решилась, да и как сказать о том, что не схватишь ни взглядом, ни слухом. Попробуй намекнуть слепому на то, что свет все-таки существует, и слепой обязательно придумает для тебя подходящее за эту ложь наказание.
Подождав плетущуюся сзади собаку, Герд садится на плоский, покрытый сухим мохом камень, смотрит вниз, на подбирающееся к отвесному утесу море. Ветер швыряет в лицо пену разбивающихся о скалу волн, и если сидеть тут долго, сам станешь таким же камнем, обрастешь мохом… берутся же откуда-то тролли. Мысленно глядя на себя со стороны, Герд не узнает себя, такую еще юную и пылкую, в этой невзрачной, наполовину уже седой, усталой от всего старухе. Это тело изношено, и накопленное им тепло скоро уйдет обратно в землю, отдавая жизни свой долг, и чем ближе этот миг расставания с ним, тем яснее и прозрачнее становится предчувствие следующего своего рождения, овеянного опытом прежних устремлений и ошибок.
Здесь, на краю, отпушенная на волю мысль добирается до обжигающих своей неукротимой страстностью мистерий этой северной земли, вся суть которых – воля и мужество. Воля к убийству пожирающего разум дракона, приземленного ползучего гада, огнедышащей прямой кишки, которой сам ты когда-то был, озабоченный лишь простым выживанием. Мужество узнать голос своей крови и стать выше наследственности, возгоняя кровь от сердца к солнцу. И нет в этом тебе никаких помощников, тут ты один, тут нет ни имен, ни возрастов, только чаша твоей понятливости, в которую по каплям втекает золото солнца.
Смерть заберет это тело, скрываемое непромокаемой курткой и свитером, вернет обратно в природу, развеет среди песка и камней, тогда как ты сам… ты пойдешь дальше. Об этом стоит подумать уже сейчас, пока еще не все, что должно с тобой произойти, совершилось.
Прилегшая возле ног собака внезапно вскидывает лохматую голову, и все ее отяжелевшее за последние месяцы тело дрожит от настороженного рычанья: тут рядом чужой.
2
Он поднимается по склону неспеша, то и дело оглядываясь, будто кого-то высматривая, и сокращающееся между ним и Герд расстояние торопит застигнутое врасплох воображение: охотник? Так оно и есть, иначе бы собака не зарычала. На нем кожаная, особого покроя куртка с тесненными на груди и на спине головами волков, оказавшихся добычей счастливца, и ни хищный оскал, ни стоящие торчком уши не могут больше быть знаком сказочной волчьей свободы. Почти у всех у них голубые глаза, и это придает цену ставшей им теперь уже ненужной шкуры.
Заметив Герд, охотник ускоряет шаг, машет ей рукой. Тут все друг с другом приветливы, иначе не проживешь в этих холодных краях, к тому же так легче скрыть свое недовольство соседом, правительством и даже охраняемым полицией беженцем, которого сам ты сюда не звал, но содержать обязан. И если когда-то приветливость означала готовность немедленно поделиться с соседом всем, что у тебя есть, включая последнюю сушеную треску и ведро картошки, то теперь это способ от соседа отмазаться, результат многолетней дрессировки, изымающей из каждого вертикально ставящий его стержень духа: улыбнись же, покажи зубы, как это делает за достойное вознаграждение местная всамделишная принцесса.
– Она у тебя, что, такая, хе-хе, злая? – вкрадчиво начинает охотник, подойдя уже близко, – Кусается?
Он пристально смотрит на Герд, не находя ничего привлекательного в ее отчужденно блеклой внешности, но что-то в ней его настораживает, что-то скрытое, немногословно чужое.
– Просто сообщает, что ты охотник, – придерживая собаку за ошейник, нехотя поясняет Герд, – она в этом уверена.
– Уверена? – он удовлетворенно посмеивается, он тут не просто так, он в самом деле на охоте. Стоит ему надеть эту куртку и пойти в супермаркет, как все до одной кассирши забывают от восхищения давать сдачу… вот что значит быть волкогонщиком! А сколько шкур еще предстоит содрать с вольных голубоглазых злодеев!
– Видишь, сколько серых тварей я уже уложил, – кивая себе на грудь, многозначительно сообщает он, – я бью их с вертолета и так, из засады и с бедра, мне необходимо видеть их последний волчий оскал, это бодрит и придает жизни смысл… Кстати, ты не встречала тут пацана в черной униформенной куртке с рунической стрелой на спине?
– С рунической?
– Ну да, эти паскудные нацисты сменили свастику на вроде бы безобидную, хотя ведь тоже германскую руну «тир», в алфавите под номером семнадцать, они рисуют ее на стенах и заборах, на почтовых ящиках и мусорных баках… они теперь везде, эти хищники, и даже тут, среди скал. Я бы перестрелял их всех поштучно, содрал бы с каждого из них шкуру!
– Понимаю, – крепче беря за ошейник собаку, терпеливо соглашается Герд, – ты же охотник…
– Да ты меня что-ли не знаешь? – присаживаясь рядом на корточки, он пытливо смотрит на Герд, – Не знаешь Магнуса Даля? Все эти поля, – он обводит рукой полукруг, – все лесные массивы мои, и многие местные бонды – мои арендаторы. И знаешь, – доверительно добавляет он, – я бы купил этот пустующий берег вместе с прилепившимся к утесу рыбацким домиком, видишь, вон там, его сдают на лето туристам…
Сложенные из валунов стены, крытая соломой крыша. Тот, кто строил, должно быть, знал: дом – это часть природы и не должен вступать в ней в спор. Такие дома любили строить когда-то германцы: пригодный для большой семьи и скотины «длинный дом».
– Эти немцы добрались и сюда, к нам, – сердито продолжает он, – двадцать пять тысяч племянников Гитлера!
– Я тут недавно, – все так же терпеливо поясняет Герд, – я только присматриваюсь… вон там я живу… – она указывает рукой в сторону жмущейся к еловому лесу железной дороги.
– Так это ты купила никому не нужные руины? – насмешливо, как о какой-то глупости, отзывается он, – Они ведь тоже принадлежали когда-то мне, хе-хе, тут все мне принадлежало… да! Руины почти двухсотлетней давности, еще мой прадед, тоже Магнус, в прежние времена владевший этой землей, обязан был в случае войны сдавать государству двадцать штук лошадей, и этот закон никто пока не отменял. У тебя есть лошади?
– Только собака.
Начал накрапывать мелкий дождик, и серый над морем горизонт застыл напоследок в бледно-желтой, болезненной мути, уже уступающей место натиску ночи. В ноябре здесь темнеет уже в четыре, и впереди еще самые короткие дни… Поднявшись с замшелого камня, Герд берет собаку в охапку и подсаживает на торчащий посреди тропинки валун, обходит его, идет вместе с собакой дальше, наверх, откуда видны все окрестности, с зеленой озимью полей, стоящими на отдалении друг от друга виллами и накатанными проселочными дорогами. Природа здесь издавна приспособилась к отставанию от хода времени, и даже приливы и отливы, и те постоянно запаздывают, подчиняясь незримому внутреннему дыханию земли, и смысл здесь имеет лишь то, что пребывает.
Добравшись до широкого плоского камня, забеленного пометом чаек, Герд накидывает капюшон, завязывает на шее тесемки, и надувающий куртку ветер гонит ее обратно вниз, и покатившийся из-под ног камень меряет своей тяжестью высоту.
– Он был здесь, – кричит, поднимаясь следом, Магнус, – я вижу эту проклятую стрелу!
На самом краю, возле торчащей из расселины молодой сосны, воткнут в кучу камней флаг, темно-зеленый, с черной посредине стрелой. Должно быть тому, кто затащил сюда этот флаг, хотелось сказать больше, чем это принято среди туристов, и открывающийся вид на окрестности тут же впитал в себя недостающий штрих: это место теперь помечено.
– Руна «тир», – сообщает собаке Герд, – семнадцатая руна германского алфавита, придуманного Одином, которому ведь пришлось перед этим пройти много испытаний…
Не глядя уже на Герд, охотник одолевает рывком несколько метров до края обрыва, выдергивает из кучи камней флаг, наступает ногой на древко, ломает, рвет треснувшую материю…
3
Зима приходит внезапно, как весть о неизбежном. Белизна отнимает у времени воспоминание о протяженности, стирает последний след зависимости от милости отвернувшегося от тебя мира, и нет больше сомнений в действительности приютившего тебя одиночества. Его не разделишь, одиночество, ни с кем, разве что с собакой… но жизнь собаки короче твоей. У собаки, впрочем, есть теплое место в другой постели, сбоку от бормочущего во сне Харальда, который покупает собаке еду и потому важнее всех остальных. Он покупает еду также и для Герд, и это наводит его на мысль о собственной, такой необычной в это серое время щедрости. Вот и дом, который теперь у них на двоих, он тоже поднялся кое-как из руин благодаря усердному сбору мелочи, не растраченной Герд на всякую ненужную роскошь, да и зачем это ей, здесь, вдали от всего. Так что пусть она этим домом и владеет, заранее навесив на себя тяжесть неустроенности и долгов, пусть радуется, что теперь, на старости лет, она себе хозяйка. Харальд выбрал себе в попутчики Герд не потому, что с ней веселее и проще, он разглядел в ней еще более одинокую, чем он сам, душу. А сама Герд? В чем причина ее не объяснимой никакой логикой привязанности к едва замечающему ее мужчине, гораздо более удачливому, чем она и к тому же всегда свободному? Эта неуловимая, ускользающая из рук свобода! Эта своенравная птица счастья! Потянешь за одно перо, выдернешь, прицепишь себе на шляпу, глянешь на себя в зеркало… да ты ли это? Потом можно, правда, бросить шляпу вместе с пером в печку, а зеркало разбить. Харальд давно уже так решил: не искать себе попутчиков. Женщины бывают разные, но сам он при этом один и исключительно для себя, и никому он еще ни разу не возвращал долг. Однако германская кровь отзывает его эгоизм обратно, растворяя его в понятливости, и Харальд выбалтывает во сне эту свою тайну, пугая привалившуюся к боку собаку. Во сне приходит ангел и раздувает придавленные дневной суетой сомнения: да ты ли это? Ангел смотрит уже в другую жизнь, до которой Хаоальду только еще предстоит добраться: долги придется все же отдавать. А пока только тревожные ночные странствия, со скомканным одеялом, сбитой набок подушкой и убегающей из спальни собакой.
В крови северного германца все еще бродит и пенится солнечный гиперборейский напиток, располагающий гортань к слову, а глаз – к схватыванию формы. Это не просто так, родиться на севере в последние дни декабря, в самую долгую, самую темную ночь. Родиться к тому же в хлеву, в соседстве с блеющими овцами, в запахе помета и сена, на земляном полу, наспех застланном еще не просохшими овечьими шкурами. Пока акушерка катит на мотоцикле из соседней деревни, в мир нетерпеливо врывается придирчивый, недовольный, заранее все отрицающий крик, и мать сказала тогда: а стоило ли его рожать? Оно и в самом деле, не стоило: он ведь не хотел спускаться сюда, на землю, но его заставили, да, так распорядился космос, и чем дольше он оставался на земле, тем сильнее оказывалась тягя вернуться обратно, на ту, настоящую, родину. Он тут всего лишь гость, прохожий.
Но кровь хочет от Харальда ясности: зачем тебе эта, такая одинокая женщина? Она тут чужая, она – ничья. Она давно уже с этим свыклась и втайне именно того и желает: оставаться никем не замеченной. Она приберегает это исключительно для себя: свою дерзко переступающую все препятствия волю. Приберегает для какого-то неведомого будущего скрытый в никому не доступных глубинах жар, расплавляющий скуку и эгоизм, взрывающий откровением любви сухую школьную мудрость. Ее-то, любовь, и старается обойти сегодня всезнающая, захлебывающаяся чувственностью повседневность: любовь не дает себя, словно товар, потреблять. Она там, где начинается, собствепнно, действительность, где вступает в силу подъемная сила духа. И нет у любви раз и навсегда достигнутого, пронумерованного и внесенного в договора и списки, нет даже постоянного места жительства на свалках и пустырях благоденствия, нет имени, нет возраста. Она пока еще, любовь, не здесь, она парит над головами и обледенелыми восьмитысячниками, и даже самый усердный, и тот бросает в конце концов ее искать, натыкаясь на невозможности для глаза и уха, натыкаясь на немощь собственной мысли. И сколько не лезь с обезумевшей от своих же успехов наукой в самую глубь материи, сколько не примеряй к себе рассудительную животность крысы и таракана, ничего, кроме сиюминутной сытости не получишь, и голод в конце концов перестанет тебя терзать. Голод истины. Но Герд… она успела уже уйти далеко, она бодрствует, и смерть заберет у нее только это легкое, почти уже прозрачное тело.
Вот почему Харальд так долго ее терпит, при всей своей ненависти к терпению. Он пойман, заколдован, прикован к невозможности бегства. Он к тому же должник, и платить приходится… болью. Болью растворенного в германской крови солнца. Но мир тут же спешит на помощь с имеющимися у него средствами обезболивания: переступи через это, переступи! Удостоверься, теперь уже в последний раз, что нет ничего в этом мире стоящего! Ничего, кроме смерти.
4
Поезда несутся мимо дома каждый час, до Осло и обратно, и ровно в полночь катится ярко освещенный ремонтный вагон, словно спеша на какой-то свой праздник, и за ним едва поспевает ветер и дождь, дождь и ветер… Кому-то непременно надо перемещаться в пространстве, чтобы заметить собственное в мире присутствие, хотя бежать уже некуда, всё уже здесь, в твоем доме, в постели, в тебе самом. В мир незаметно вползает всеядная деструктивность, и кто же не пал перед ее сверкающей, требовательно хватающей за шиворот, производственной необходимостью. Разве лишь тот, для кого сама эта деструктивность оказывается поводом к смене понятий, замусоренных сознанием профита, и перво-наперво ему приходится признать, что кроме людей тут всюду снуют сопровождающие их иные лица, имеющие в этой жизни свой особый, разрушительный интерес. Люди никогда сами до этого бы не додумались: чтобы вот так, добровольно, покончить всем вместе самоубийством. С чего бы это? Никто толком не знает и потому послушно следует приказу: посторонись! Сойди с рельсов, сорвись в пропасть. Поезд довезет до Осло чеченца, только что отрезавшего кому-то голову, выгрузит на промежуточной станции так и не очнувшегося от маковых грез афганца, и кондуктор-сомалиец доложит родному пакистанскому министру культуры, что в этой пока еще, увы, нордической стране все идет по плану. Тут есть еще кое-какие ресурсы, есть море и ветер, есть срывающиеся со скал водопады, и если спросить откормленного генмодифицированной соей лосося, каково ему тут, в многоместном коммерческом садке, рыба откроет безмолвно рот, желая сказать что-то о погоде, которую ведь никогда заранее не предугадаешь. Рыба все еще числится лососем или даже треской, тем самым выспрашивая у будущего вид на какое-то жительство. И сколько бы ее, рыбу, не уговаривали стать змеей и научиться ползать, покончив со своей солнечной, в воде, игривостью, рыба стоит на своем, и течению остается только бежать мимо. Рыба не вникает в разгорающиеся вокруг нее самой интеллектуальные споры: что делать с заплывшим сюда из каких-то других вод, ищущим тут себе убежище рыбообразным? Чужак, он и есть чужак, даже при хвосте и жабрах, его не перевоспитаешь ни подбрасываемой в садок соей, ни убивающим рыбью вошь антибиотиком. Тут рыба сама решает: быть ей или не быть. Хотя есть еще запасной вариант: рвануть всей рыбьей стаей к охраняемым чужими подлодками берегам. Так почему бы и тебе, едущему в данный момент в Осло, не принять к сведению, что страна эта – больше уже не твоя? И сам ты, пожалуй, тоже не свой. Вакцинированный, стерилизованный, пронумерованный. И время не спешит с ответом: за что?… почему? Поскольку ответ слишком страшен: ты сам этого хочешь. Хочешь, чтобы все было именно так: чтобы тебе не нашлось места в твоем, доставшемся тебе по наследству доме. И тысячи, тысячи, тысячи постояльцев, занявших твой стол и постель, разом указывают тебе на дверь. И это именно то, к чему ты так долго стремился, что всегда было предметом твоей гордости: стать для кого-то богатым дядей. Тебе ведь все равно, для кого, лишь бы упиваться собой, своей ошарашивающей мир щедростью. И поезд везет тебя дальше, мимо оккупировавших пляжи элитных вилл и кебабных бензоколонок, мимо вымогающих у водителей мелочь блокпостов и скрытых камер шпионского наблюдения, и глаз сохраняет образ какой-то очень большой, навязчивой бессмысленности. Но именно к этому ты сам, не успевая ничего осознать, всю жизнь и стремился, упорно отпихивая от себя свою же понятливость. Глаз видит еще много разного, что совсем еще недавно считалось уродством, и этот стандарт извращенности влезает тебе в душу и остается там в виде твоей будущей физиономии: черный квадрат, холодный блеск металла, ржавчина. Тут, в поезде, все на одно лицо, у всех к тому же одна озабоченность: чтобы и завтра было так, как сегодня.
5
Покупая руины, никогда наперед не знаешь, что теперь будет. Кто-то строил, надеялся, жил… и вот теперь ты. Над старой грушей завис военный вертолет, и вот уже к прежнему плану местности прибавляется что-то твое, чего раньше никак не могло быть. Все должно быть сначала помыслено, и уж потом… потом проявляется для глаза весь этот мир вещей, и все на свете цветы и деревья, все мудро устроенные животные, все камни, льды и вулканы, все это было однажды помыслено творящими мир существами, и теперь подходит твоя очередь, хотя ты еще даже не проснулся.
Дом этот строился в солнечное время Моцарта, и не наспех, не кое-как, хотя хозяину было куда спешить: на подходе был уже пятый ребенок. Понавезли из леса валунов, сложили фундамент, и перво-наперво – хлебную печь, она же лежанка для стариков, позатыкали мохом щели между толстыми бревнами, навесили дубовую, без замка, дверь. Так потом и пошло: рождение, смерть и снова рождение. А Моцарт тем временем едет в Париж и пишет «Дон Жуана», и ему все равно, успеет ли он в этой жизни накопить себе на похороны… Этот солнечный, вне времени, гений. Его торопит ангел, и выбора тут никакого нет: завтра уже не твое. Так думает, впрочем, и построивший дом крестьянин, у которого детей уже одиннадцать штук: завтра начнется война, отнимут землю, уведут коней… И когда домом завладел Магнус, прадед другого Магнуса, бревна с торчащим из щелей мохом так и остались лежать на своих местах, хотя лес, откуда были эти бревна, был начисто вырублен и снова вырос, наступая на расчищенные от камней поля. Начиная с первого Магнуса, все последующие землевладельцы только и делали, что пилили старые березы и сдавали землю в аренду, и никто не задается больше вопросом, есть ли еще в этих местах приличные люди…
На этих руинах всё упирается в невозможность: поваленные столбы электропередач, торчащие из земли ржавые трубы, гниющий годами мусор. И это надежная гарантия того, что сюда не сунется ни один прохожий, не говоря уже о покупателе. И вдруг, ни с того ни с сего, Герд, будто ей негде больше жить. Негде, потому что не на что. Потому что слишком много уже она в этой жизни истратила, отдавая себя не взаймы, но насовсем, и вновь себя из ничего строя, чтобы снова отдать… И эти руины, это замершее в терпеливом ожидании моцартовское время, доверительно открывают ей доступ в ничего не обещающую неизвестность. Здесь пройдут годы, здесь кончится, быть может, эта жизнь. И двести с лишним лет дремавшие в этих стенах моцартовские формы расцветают навстречу тоске по какому-то еще не завоеванному смыслу, ради которого, может, и стоит лишиться всего… то есть всего того, с чем обычно связана устремленность к счастью. Здесь выветриваются воспоминания о низменных, безобразных вещах, прилипчиво домогающихся статуса действительности, и всё имеющееся в мире постоянство укладывается в терпение и покой, покой и терпение…
Толстые бревна скрепляются заново, настилается новый пол, кладется на крышу замшелая черепица, и окна, в голубом обрамлении самодельных рам, удивленно оглядывают пустые, скошенные поля, те же, что и при Моцарте.
6
Есть еще в мире счастливые люди. Они тут, поблизости, и это ради них существует прочно заведенный в мире порядок. Никто не пройдет мимо ярко освещенной по вечерам виллы Кнута Гримстада, не подумав при этом о значительности всякого, кто занят чем-то в коммуне, ведь именно там и затевается всё самое важное: возня с налогами, благоустройство бесплатного, для наркоманов, бомжей и идиотов, жилья, размещение долгожданных со всего мира беженцев, а также изъятие у местных родителей дурно воспитываемых ими детей. Как раз Кнуту Гримстаду и поручено следить за бесперебойностью поставок молодняка в коммунальный детоприемник, и если где-то случается пробел, за дело берется Сильви Гримстад, его профессиональная жена, отлавливающая среди прибывающих в коммуну беженцев увязавшихся за ними малолеток: двоюродных, внучатых и прочих левых членов узаконенной на бумаге семьи. Она-то, Сильви, знает всем этим бородатым малолеткам цену: негров везут, как набившуюся в банку кильку, на надувных лодках по Средиземному морю, вываливают на ближайший греческий берег, и к ним тут же пристают – с деньгами, шмотками и жратвой – командированные коммуной агенты неотложной помощи, и негры – буть то араб, эфиоп или афганец – покорно следуют за своими интеллигентными спасителями, сообщая домой по смартфону, что тут, на ихнем берегу, полный порядок. Это ведь так обогащает нордическую, еще от викингов, культуру: теперь это скоростная мультиварка, с кипящим в ней, со всего мира, цветным компостом. Главное, не позволять никому сомневаться в демократичности самой этой затеи: сделать мир безрасовым. Никаких рас больше не существует, и если ты все еще белый, стыдись.
Проезжая мимо недавно посаженной еловой изгороди на серебристом тесле, Сильви неуверенно тормозит: тут что-то непонятное, как будто даже живое… Возле старой груши, торчащей посреди ежегодно зарастающего крапивой и дикой малиной пустыря, копошится кое-как одетое, в испачканных землей штанах и старой курте, тело. Здесь давно уже никто не живет, здесь просто свалка, и кто-то, видно, задумал что-то скверное… ну можно ли просто так ползать по пустырю на коленях? Это надо срочно выяснить. Приоткрыв дверцу, Сильви требовательно спрашивает:
– Что ты тут делаешь?
Сильви привыкла, чтобы ей отвечали сразу, немедленно, и теперь ей кажется странным, что ползающее на коленях тело даже не повернулось в ее сторону. И хотя старая груша на месте, крапивы и дикой малины вокруг уже нет, и на открытой солнцу полосе посажены… розы! Розы… здесь? Тут явно какая-то ошибка, надо срочно выяснить.
– Ты, что, не слышишь? – требовательно повторяет Сильви, – Что ты тут делаешь?
Сильви сдает полякам гостевой дом, и те пилят за это дрова, стригут газоны, кормят и режут бройлеров, подрезают деревья. Поляки нужны здесь хотя бы уже потому, что нормальному потомку викингов противно строить для себя икею, а поляк делает это запросто. Тем более, что потом икею приходится перестраивать и перестраивать… и снова приходит поляк, и начинается все сначала. Они-то наверняка знают, кто это самовольно сюда забрел и теперь копошится под грушей, они ведь давно уже растащили с руин все, что можно было продать.
– Я тут живу, теперь это мой дом.
– Ах, вот как… – Сильви отступает на шаг от еловой изгороди, садится в машину. Ей никто об этом не докладывал, хотя руины – всего лишь узкая полоска, зажатая со всех сторон ее, Сильви, владениями. Тут все дороги тоже ее, и перерезающий поле ручей, и все еще торчащие по обе его стороны старые березы, и даже косули в лесу, и те в курсе, что только коммуна дает лицензию на сезонный отстрел, и никак тут не обойти Гримстада.
7
Рано или поздно сосед обязательно приходит в гости. И что из того, что незвано, он же сосед. И вот он едет неспеша на тракторе с прицепом, и с ним его дочь, Брит, девчонка лет двенадцати, ей тоже охота взглянуть, как будет гореть вываленный на пустырь мусор. Кнут Гримстад давно уже так решил: нельзя оставлять соседа без внимания. И эти двое, что пытаются теперь тут обжиться – хотя жить тут попросту невозможно – пусть имеют в виду: старые законы все еще в силе. Через этот двор столетьями проезжали туда-сюда повозки и телеги, так было всем удобно, и теперь надо развернуться на тракторе прямо перед крыльцом, при этом не отдавив ноги сидящей на нижней ступени, в пижаме и домашних тапках, хозяйки… да какая она, к черту, хозяйка! Ей должно быть еще не известно, что все Гримстады были местными политиками, и от одного только слова «политик» у людей до сих пор темнеет в глазах.
Трактор ползет неспеша, и девчонка машет Герд рукой, поскольку ей, в ее двенадцать лет, уже известно, что такое хорошие манеры.
– Ты тоже будешь смотреть, как горит мусор? – весело кричит она, – Как горят мамины новогодние платья! И эти стулья, матрасы, детская коляска для кукол… – она ловко спрыгивает на землю, – Хочешь взять себе стеганое одеяло?… подушку?… коробку из-под ботинок?… они теперь никому не нужны! – она присаживается рядом с Герд на ступеньку, вытаскивает из заднего кармана джинсов телефон, – Тут мой новый альбом, хочешь взглянуть?
В свои двенадцать Брит совсем уже взрослая, и уже начинающие определяться округлые формы не вызовут даже у старухи сомнений: с телом ей чертовски повезло. Тут можно даже не напрягаться с поиском подходящей одежды, достаточно короткой, выше пупка, безрукавки и корректно облегаюших зад трусов, и то и другое безупречно черное.
– Видишь, как мне круто везет? – весело докладывает она Герд, – Я почти уже модель!
Она тут, кстати, не одна: рядом девчонки повыше и совсем малышня, и все они в черном. Черный цвет дает гарантию стиля, и если к тому же стать полуоборотом, с болтающимся по спине белокурым хвостом, можно запросто накинуть себе еще лет десять, и никто ничего не скажет.
– Мы все тут будущие модели, – охотно поясняет Брит, – и мне уже два раза заплатили… я буду много зарабатывать!
– Твой папа знает об этом? – тревожно спрашивает Герд, – Или мама?
– Ну да, мама гордится мной, и когда к нам приходит Магнус, она разрешает мне сидеть у него на коленях… Магнус, он такой славный! Он убивает волков!
– Да…
– А хочешь, я покажу тебе вот что… но только на одну секунду… вот!
Она быстро меняет картинки, и Герд успевает узнать ее в голой розовой кукле, выглядывающей из-за спины грузного старика… ведь ей уже двенадцать! Возраст прочтения будущего. Оно всё уже, будущее, тут, оно состоялось и ждет вознаграждения за обгон медленно ползущего времени, и его тайным вдохновителем является страх…страх остаться ни с чем. Поскольку все, что может предложить жизнь пока еще не сгоревшему телу, запросто умещается в таком вот смартфоне.
– Наша учительница говорит, что я секси, – продолжает щебетать Брит, – и когда мне было восемь… тебе это не интересно? Ну да, ты же старая. Тогда послушай: недавно я попросила маму сделать мне тест ДНК, и мы обе пришли в ужас… ты представляешь? Оказывается, мои гены на все сто процентов нордические! Во мне нет ни капли примеси, одни только викинги! Ни капли африканской крови… ну хотя бы китайской…
– Зачем тебе это?
– Чтобы быть более сексуальной, так мне советует мама.
Сунув в карман телефон, она забирается обратно в кабину трактора.
8
Оставляя след колес на клеверной лужайке, трактор подъезжает к крыльцу, и Герд неспеша встает и садится прямо на землю, будто так ей удобней, и Кнут слегка тормозит, продолжая ехать прямо на нее.
– Что ты тут расселась, – высунувшись из кабины, кричит он, – не видишь, что я еду?
– Вижу.
Остановившись в полутора метрах от нее, Кнут сигналит, и сидящая в кабине девчонка кричит что-то из окна, но Герд породолжает сидеть на земле.
– Я буду тут сидеть, пока ты не свалишь отсюда, – безразлично отзывается она, поудобнее обхватив колени руками, – ты заехал ко мне во двор.
– Ну и что? – кричит Кнут из кабины, – закон позволяет мне это! Прочь с дороги! Или я тебя задавлю! – он подъезжает еще на полметра и снова сигналит.
– Теперь здесь действуют только мои законы, – все так же сидя перед рычащим трактором, спокойно возражает Герд, – Мои! И если ты сейчас же не свалишь, я позвоню Архангелу Михаилу!
– А она крутая! – восхищенно констатирует девчонка.
Переглянувшись с дочерью, Кнут выключает мотор, смотрит по сторонам… ага, вон там, возле сарая, этот ее Харальд, да вот он идет сюда…
– Что за чушь она тут несет? – раздраженно кричит ему Кнут, – Какой еще Михаил?
– Какой-какой… – нехотя отзывается Харальд, – она знает, какой… Короче, катись отсюда.
– Но я жгу здесь мусор уже пятнадцать лет! Мне нужно проехать… – он снова сигналит.
Подняв с земли камень, Герд швыряет его в окно трактора, и Кнут тут же дает задний ход, неуклюже пятится вместе с прицепом на дорогу. Теперь он знает, какие у него соседи. Вот ведь, не понимают, что сами подписывают себе приговор. Да-да, это приговор!
– Какие неприветливые люди, – сердито сообщает он дочери, – ни капли вежливости!
Девчонке все равно, где жечь мусор, и обернувшись к Герд, она со всей серьезностью двенадцатилетнего ребенка напоминает:
– Только никому не говори, я покажу тебе еще кое-что…
Трактор медленно ползет обратно, сворачивает к почтовым ящикам, тащится вдоль железной дороги… и вот он снова тут, только с другой стороны забора, и пламя костра лижет ветви берез, обволакивая густым дымом клеверную лужайку.
Во двор незаметно прокрадывается, перелезая через каменную межу, самый близкий, ближайший сосед, тот, что продал Герд эти руины. Он видел все из окна, и ему любопытно, как пойдет дело дальше. Хотя он знает и так: этим двоим, Харальду и Герд, тут не жить. Он продал им руины вовсе не для жизни – тут никто не живет уже двадцать лет – но исключительно ради своей же забавы: что может радовать больше, чем ежедневное наблюдение чьих-то мучений. Сидишь у себя на кухне с чашкой кофе и ванильным кексом, смотришь в окно, как эта… как ее там… как она таскает из ручья воду, поставив ведра на тележку, как стирает на крыльце белье… делать ей больше нечего. И это ведь он, Ларс Бондевик, так ловко все придумал: выкупил долг у жившего когда-то на руинах наркомана, и тот съехал, оставив землю Ларсу. Всего каких-то тридцать тысяч, не долг, а должок, и он надежно хранится теперь в банке, потихоньку обрастая процентами. И кому же в конце концов придется платить? Разумеется, ей… как там ее… Должно быть, она долго копила свои пенсионные гроши, эти полмиллиона, чтобы отдать их Ларсу за этот ни на что не годный пустырь. Тем самым она оплатила Ларсу отпуск в Тайланде и покупку дачного фургона, вмещающего сразу штук восемь приятелей вместе с раскладными стульями и койками, в основном, как и сам Ларс, охотников. И надо ей прямо сейчас, пока еще дымит возле забора костер, посоветовать пропускать Кнута через двор, а самому наблюдать из кухонного окна, что будет…
9
В пригороде Осло появился одинокий, совсем еще молодой волк. Его видели возле мусорных баков и возле гаражей, и чья-то собака пыталась облаять его, должно быть не понимая, что этот зверь – дикий. Это явно плохой признак: волк среди людей. Это значит, что с людьми что-то не так и надо срочно принимать меры… хотя какие тут могут быть меры, кроме отстрела. Правда, кто-то уже выяснил, что волк этот вовсе не местный и скорее всего прибыл издалека, рванув прямиком через шведский лес, и если вдруг ему удастся найти себе подругу, чужие гены пойдут только на пользу потомству. Это обстоятельство притормозило наметившуюся уже было охоту, и серый чужак беспрепятственно проник дальше, в глубь крестьянских угодий, наполненных запахом овец, коз, коров и лошадей. Ему бы, одинокому, прибиться к волчьей стае, но волков отсюда давно уже выгнали на безлюдные горные склоны, где специально для них существуют олени, косули и лоси. Быть волком среди людей куда хуже, чем человеку быть среди волков. И волк это знает и потому обходит стороной дворы, где у каждого есть ружье и сторожевая собака. Собаку можно загрызть, и тогда – только бежать со всех ног, слыша позади себя выстрелы и матершину. И тот, кому посчастливится всадить серому пулю в загривок, непременно наступит ногой на окровавленный бок и бросит своему голодному псу все еще теплое волчье сердце.
Как раз о такой удачной охоте не раз задумывался Эрик Солберг, объезжая свое пастбище, тянущееся от просторного хлева до бегущего под склоном ручья, из которого пьют круглый год козы и живущая вместе с ними пони. Козы у него особенные, завезенные с Фарерских островов и дающие мягкую, шелковистую шерсть, из которой его жена Кари прядет на продажу нитки и красит их настоем трав, коры и корней. Тут же, во дворе, в просторном помещении бывшего амбара, у них магазин, куда редко кто заходит, зато цены выше чем в Осло: свитера, полушубки, платья, шарфы… и все ручной работы, из шерсти фарерских коз. Иметь свой магазин, значит, выбиться в люди, и как-то сюда нагрянула из Осло сама принцесса Ребекка, у которой тоже есть свой магазин, торгующий перьями с ангельских крыльев: перья падают с неба прямо принцессе в карман. Заказав себе деловое, в знойном африканском стиле, бубу из фарерского кашемира, принцесса Ребекка заглянула в хлев, покормила галетами пони, и вожак стаи, старый козел-производитель с огромными витыми рогами, хотел уже было с принцессой сойтись, на виду у всех коз и лично Эрика Солберга… А что тут, в самом деле, плохого? Что человек, что скот, одно. И если коза строго следует прихотям времен года, то у принцессы Ребекки свои королевские прихоти. В следующий раз она пообещала привезти с собой из Осло своего ручного негра, выдрессированного специально для блуда с королевской семьей, состоящей из недоучек, наркоманов, дебилов и предателей. Негра выловили где-то в окрестностях Чикаго, разлучив при этом с его же мужем-бойфрендом, перегнали в составе гей-балета в Лондон, и уже там, рассыпая вокруг себя ангельские перья, на него напоролась принцесса Ребекка. Какая редкая для королевской семьи удача! Гаити, Бангладеш и Перу в одном, лоснящемся от комфорта, жабьем лице, состоящем из пары выпученных глаз и розовато-черной пасти. На фоне этой кричащей мультикультурности сама принцесса Ребекка выглядит бледновато, даже облепленная ангельскими перьями, зато вместе они – вполне состоявшийся мобильный бутик, где роскошь и комфорт игриво перемешаны с навозом. Никто, впрочем, не рискнет выяснять, откуда у чикагского негра диплом косметического хирурга, поскольку королевский негр – это ничем уже не смываемый фирменный знак качества. И Эрик Солберг готов распахнуть перед негром свой хлев… нет-нет, он этого не говорил! Он не дурак и знает цену свободы слова: цена зашкаливает. Сболтнул – и ты уже не человек. Ты хуже, чем волк.
Среди ночи Эрик слышит ржание пони, и пока еще ему кажется, что это во сне… надо спросить у жены, которая тоже спит… А снаружи мороз, трава побелела от инея, и тонкий месяц, словно смеясь, висит перед самой дверью, возле которой стоит наготове ружье. Так оно, с ружьем под рукой, жить легче и веселее, бывает, прихватишь его с собой по нужде… И чего это ржет старая пони? Эта пожилая дама капризна и всегда стоит на своем, и все как одна козы ей в этом потакают. И не сядешь на нее верхом, хотя вон какой круп отъела, только лягнет: отстань! Тут даже и не знаешь, кормить ее так и дальше или сдать на колбасу.
Взяв фонарь, Эрик выходит во двор, идет к хлеву. Дверь, как и надо, заперта, но что-то там, внутри, не то… открыта выходящая прямо на пастбище калитка! Должно быть какая-то коза сообразила пихнуть калитку рогом. Пройдя через хлев, Эрик спускается по склону к ручью, высвечивая фонарем то слева, то справа, и возле самой воды видит козью шкуру. Теперь это только шкура, к тому же негодная, с выпотрошенными кишками и съеденной наполовину задней частью… он наклоняется с фонарем, смотрит. Здесь был волк.
10
Не все намерены в своей счастливой стадной жизни становиться самоубийцами. У кого-то все еще есть желание работать, подогревая свою кровь стойким убеждением в том, что именно работа и делает человека свободным. Гитлер тоже так думал, полагая, что у крови, как и у всего остального, имеется свой срок годности, после чего с кровью придется что-то делать… с кровью надо работать. Очистить кровь от растворенного в ней эгоизма, превзойти в самом себе ее требовательный голос наследственности, проникнуться бесстрастной невинностью растения… и кровь принесет от сердца к голове иные способности, питая таинственную в мозгу точку роста, обещающую уже сегодня дать непобедимый, к солнцу, побег. И медленно, не замечая тысячелетий, над омертвевшей материей распускается алая роза, и этот алый цвет тоже цвет крови, в которой больше уже не кипят блудные страсти, и сам цветок становится чашей, куда втекает по каплям суть вещей. Но кто же предчувствует в себе сегодня этот кубок Грааля? Не окажись у Гитлера такой способности, он едва ли дотянул бы до версальского позора немцев, почти ослепнув в английской газовой атаке, но он дотянул! И он намерен был сказать немцам что-то очень для них важное: в каждом из них есть неприкосновенный, вечный ресурс, беспрестанно омолаживающий истощаемую невзгодами кровь. Он им это сказал: в каждом германце живет огненное колесо совершенно нового, никому пока не известного органа, сияющий цветок свастики. Пока на это годны только германцы, другие пусть подождут. Другим достанется драгоценный германский опыт, немецкая школа. Тут нет никаких сомнений: Германия превыше всего, и это надо понимать буквально. Гитлер знал, что немцы живут не только для себя: они волокут на себе весь мир. И еще он знал, насколько ненавистны немцы тому, кто раз и навсегда удовлетворен собственной, унаследованной от Авраама кровью, этой застоявшейся субстанцией жестокосердия и расчета. Немец не желает оставаться тем же, что и вчера, он непрерывно чем-то становится, растет, расцветает, устремляясь от застывших лунных форм Яхве в бесконечные солнечные дали Христа. За это его так и ненавидят. И нет в мире большей ненависти, чем ненависть к истине, ставящей мир перед фактом: Яхве – всего лишь материальное «от и до», расчитанное на одну, от рождения до смерти, жизнь, всего лишь лунный свет, отражение солнечной мощи Христа. Этот мрачный, тяжелый, мстительный вахтер земного порядка вещей, героически пожертвовавший своей прежней солнечностью ради общей с Христом цели, и каково ему теперь оказаться присвоенным не понимающим себя самого кошерным стадом! Вот ведь, связался с отребьем, влив в их наследственность каплю своего золота… но теперь только ждать, когда эти твари сами себя истребят. Он давно уже, Яхве, не с ними, когда-то избранными им для вполне конкретного, от и до, мероприятия, и теперь он тут, в подлунном мире, для всех: отражает, как может, солнечное сияние Христа.
Лучше других в этом осведомлен немец, и некому больше взвалить на себя неподъемный крест истины. Зачем было Гитлеру становиться фюрером? Да хотя бы уже затем, чтобы заявить о бессмертии общей для всех германцев стадной души, расцветающей вновь и вновь каждые пятьсот лет. Это о ней, бессмертной птице Феникс, сказал Гитлер за день до своей смерти: Германию невозможно уничтожить. Кровь сгорит в пламени эгоизма, высвобождая дух для нового подъема, и скоро, теперь уже скоро, стадное германство уступит место каждому в отдельности, в его звездном, космическом, солнечном одиночестве. И только потом, когда каждый насытится своим светом, вступая в родство с солнцем Христа, германский дух окажется мерилом общей земной судьбы. И все, какие есть у Гитлера дети намерены и дальше так работать, преобразуя кровь в особый солнечный сок.
11
Дети Гитлера. Они последние, кому еще что-то говорит северная природа, и среди них нет поэтому инвалидов. Уже одно это само по себе настораживает воображение политика: чем больше вокруг инвалидов, тем надежнее вера в правительство. Инвалид нужен обществу как перманентный укор совести: и не стыдно тебе быть здоровым? Все лучшее – умственно отсталым, неграм и многополым амебам, тебе – ничего.
Это дошло до Зигбьёрна Нильсена внезапно, природа в нем сделала скачок, вдруг отвратив от благодушной зябкости пустого на мир глазения: ему подсунули сестру. Ее притащила в дом мачеха, эту свою драгоценность, купленную у неимущих родителей где-то вдали от этих мест… короче, ребенок был на выброс, но оказался на редкость везучим, получив наряду с обеспеченными приемными родителями еще и их имя, Нильсен, вместе с прилагающимися к нему правами наследства. Все шло как нельзя лучше, сестра научилась говорить, ездить на велосипеде, выбирать в магазине шмотки. Ее и Зигбьёрна сажали рядом за стол, водили в школу, возили летом к теплому морю, и как-то раз семья рванула на Тайланд, и Зигбьёрну стало наконец ясно, откуда эта его сестра взялась. «Она мне никакая не сестра, – подумал он тогда, – иначе я тоже был бы таким коротконогим и смуглым, прожорливым и нахальным». Теперь, сравнивая себя с ней, он всё больше и больше приходил в недоумение: как может кто-то думать, что между нею и им нет никакой разницы? В школе ему говорили, что никаких рас больше не существует и что думать иначе, это расизм. Тогда зачем, спрашивается, негру быть черным? Разве не сам он, негр, оказывается неспособным себя отбелить?… разве есть у него в этом нужда? Так ведь оно и в природе: одно непременно должно отставать от другого. И всё негодное тем самым отбрасывается, насовсем. У негра есть, разумеется, будущее: нахрап вырождающейся расы преступников. В природе нет таких законов, смешивающих низшее с высшим, так кто же выдумывает эти правила игры, приравнивающие тайца к германцу? Одно дело, добровольно кому-то помочь, и совсем другое – перекрыть себе кислород ради чьей-то комфортной, нетрудовой жизни. Сюда, негры, цветные, колясочники, мультигендеры! Здесь хорошо, здесь всё дают за просто так! И ради этого Зигбьёрн родился на свет? Чтобы в поте лица обслуживать генетические отбросы со всего мира? Чтобы снова и снова голосовать за устроившее этот бардак правительство?