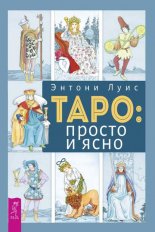Сага о Форсайтах Голсуорси Джон
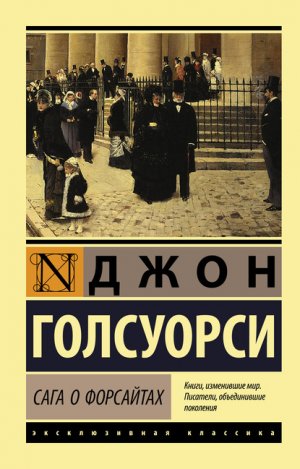
– Тебе, кажется, все равно? – пришлось ему добавить.
– Я уже знаю об этом.
Он быстро взглянул на не.
– Кто тебе сказал?
– Джун.
– А она откуда знает?
Ирэн ничего не ответила. Сбитый с толку, смущенный, он сказал:
– Прекрасная работа для Босини; он сделает на ней имя. Джун все тебе рассказала?
– Да.
Снова наступило молчание, затем Сомс спросил:
– Тебе, наверное, не хочется переезжать?
Ирэн молчала.
– Ну я не знаю, чего ты хочешь. Здесь тебе тоже не по душе.
– Разве мои желания что-нибудь значат?
Она взяла вазу с розами и вышла из комнаты. Сомс остался за столом. И ради этого он подписал контракт на постройку дома? Ради этого он готов выбросить десять тысяч фунтов? И ему вспомнились слова Босини: «Уж эти женщины!»
Но вскоре Сомс успокоился. Могло быть и хуже. Она могла вспылить. Он ожидал большего. В конце концов, получилось даже удачно, что Джун первая пробила брешь. Она, должно быть, вытянула признание у Босини; этого следовало ждать.
Он закурил папиросу. В конце концов, Ирэн не устроила ему сцены. Все обойдется – это самая хорошая черта в ее характере: она холодна, зато никогда не дуется. И, пустив дымом в божью коровку, севшую на полированный стол, он погрузился в мечты о доме. Не стоит волноваться; он пойдет сейчас к ней – и все уладится. Она сидит там во дворике, под японским тентом, в руках у нее вязанье. Сумерки, прекрасный теплый вечер…
Джун действительно явилась в то утро с сияющими глазами и выпалила:
– Сомс молодец! Это именно то, что Филу нужно!
И, глядя на непонимающее, озадаченное лицо Ирэн, она пояснила:
– Да ваш новый дом в Робин-Хилле. Как? Вы ничего не знаете?
Ирэн ничего не знала.
– А! Мне, должно быть, не следовало рассказывать! – И, нетерпеливо взглянув на свою приятельницу, Джун добавила: – Неужели вам все равно? Ведь я только этого и добивалась, Фил только и ждал, когда ему представится такая возможность. Теперь вы увидите, на что он способен. – И вслед за этим она выложила все.
Став невестой, Джун как будто уже меньше интересовалась делами своей приятельницы; часы, которые они проводили вместе, посвящались теперь разговорам о ее собственных делах; и временами, несмотря на горячее сочувствие к Ирэн, в улыбке Джун проскальзывали жалость и презрение к этой женщине, которая совершила такую ошибку в жизни – такую громадную, нелепую ошибку.
– И отделку дома он ему тоже поручает – полная свобода. Замечательно! – Джун расхохоталась, ее маленькая фигурка дрожала от радостного волнения; она подняла руку и хлопнула ею по муслиновой занавеске. – Знаете, я просила даже дядю Джемса… – Но неприятные воспоминания об этом разговоре заставили ее замолчать; почувствовав, что Ирэн не отзывается на ее радость, Джун скоро ушла. Выйдя на улицу, она оглянулась: Ирэн все еще стояла в дверях. В ответ на прощальный жест Джун она приложила руку ко лбу и, медленно повернувшись, затворила за собой дверь…
Сомс прошел в гостиную и украдкой выглянул из окна.
Во дворике, в тени японского тента, тихо сидела Ирэн; кружево на ее белых плечах чуть заметно шевелилось вместе с дыханием, поднимавшим ее грудь.
Но в этой молчаливой женщине, неподвижно сидевшей в сумерках, чувствовалось тепло, чувствовался затаенный трепет, словно вся она была охвачена волнением, словно что-то новое рождалось в самых глубинах ее существа.
Он прокрался обратно в столовую незамеченным.
VI
Джемс во весь рост
Не много времени понадобилось на то, чтобы слух о решении Сомса облетел всю семью и вызвал среди родственников то волнение, которое неизменно охватывает Форсайтов при всяком известии о каких-либо переменах, связанных с имущественным положением одного из них.
Сомс тут был ни при чем, он твердо решил никому не говорить о постройке дома. Джун от избытка радости сообщила новость миссис Смолл, позволив ей рассказать об этом только тете Энн, – она рассчитывала, что это подбодрит старушку! Тетя Энн уже много дней не покидала своей комнаты.
Миссис Смолл сразу же поделилась новостью с тетей Энн, а та улыбнулась, не поднимая головы от подушки, и проговорила дрожащим внятным голосом:
– Как это хорошо для Джун; но все-таки надо быть очень осторожным – это так рискованно!
Когда тетю Энн снова оставили одну, лицо ее омрачилось тревогой, словно облаком, предвещающим дождливое утро.
Лежа столько дней у себя в комнате, она ни на одну минуту не переставала набираться силы воли; этот процесс отражался и на ее лице – легкие складки то и дело залегали в уголках ее губ.
Горничная Смизер, поступившая в услужение к тете Энн еще совсем молоденькой, – та самая Смизер, о которой говорили: «Хорошая девушка, но такая нерасторопная», – каждое утро с необычайной пунктуальностью добавляла последний, завершающий штрих к издревле заведенной церемонии облачения тети Энн. Вынув из недр сияющей белизной картонки плоские седые букли – знак личного достоинства тети Энн, Смизер передавала их из рук в руки своей хозяйке и поворачивалась к ней спиной.
И каждый день тетя Джули и тетя Эстер должны были являться к Энн с докладом о Тимоти, о том, что слышно у Николаса, удалось ли Джун уговорить Джолиона не откладывать свадьбу на долгий срок, раз мистер Босини строит теперь дом для Сомса, правда ли, что жена молодого Роджера в ожидании, как чувствует себя Арчи после операции и что Суизин решил делать с домом на Уигмор-стрит, арендатор которого разорился и так нехорошо поступил с Суизином; но больше всего – о Сомсе; неужели Ирэн все еще… настаивает на отдельной комнате? И каждое утро Смизер говорилось одно и то же: «Я сойду сегодня вниз, Смизер, так часа в два. Мне потребуется ваша помощь – я совсем отвыкла ходить!»
Сообщив новость тете Энн, миссис Смолл под величайшим секретом рассказала о постройке дома миссис Николас, которая, в свою очередь, спросила Уинифрид Дарти, правда ли это, полагая, конечно, что сестра Сомса должна быть в курсе дела. От Уинифрид, как того и следовало ожидать, новость дошла и до ушей Джемса. Он взволновался.
– Мне никогда ничего не рассказывают, – заявил Джемс. И, вместо того чтобы пойти прямо к Сомсу, молчаливость которого его всегда отпугивала, он взял зонтик и отправился к Тимоти.
Миссис Септимус и Эстер (ей тоже рассказали – она человек надежный, быстро утомляется от излишних разговоров) с готовностью и даже с большой охотой принялись обсуждать новость. Как мило со стороны Сомса дать работу мистеру Босини! Правда, это очень рискованный поступок. Как это Джордж его прозвал? «Пират»! Забавно! Джордж всегда придумает что-нибудь забавное! Во всяком случае, все будет сделано в семейном кругу – они полагают, что Босини уже можно считать членом семьи, хотя это так странно.
Тут Джемс прервал их:
– Об этом молодом человеке никто ничего не знает. Не понимаю, зачем Сомсу понадобилось связываться с ним. Уж, наверное, дело не обошлось без вмешательства Ирэн. Я поговорю с…
– Сомс просил мистера Босини молчать об этом, – вмешалась тетя Джули. – Я уверена, что ему будет неприятно, если пойдут разговоры; только бы Тимоти ничего не узнал, а то он очень расстроится, я…
Джемс приложил ладонь к уху.
– Что? – спросил он. – Я окончательно глохну. Ни слова не слышу. У Эмили опять припадок подагры. Едва ли нам удастся поехать в Уэльс раньше конца месяца. Вечно что-нибудь стрясется! – И, разузнав все, что ему было нужно, он взял шляпу и удалился.
День был чудесный, и Джемс пошел пешком через Гайд-парк к Сомсу, где он собирался пообедать, так как Эмили лежала из-за подагры в постели, а Рэчел и Сесили гостили за городом. Он пересек Роу и направился к Найтсбридж-Гейт через коротко подстриженную, спаленную солнцем лужайку, где бродили овцы, сидели влюбленные парочки и прямо на траве ничком, как тела на поле, над которым только что пронеслась битва, лежали бездомные бродяги.
Джемс шел быстро, опустив голову, не глядя по сторонам. Вид парка – центрального места того поля битвы, на котором сам он сражался всю свою жизнь, не вызывал у него ни дум, ни размышлений. Эти тела, выброшенные сюда сумятицей и напором борьбы, эти влюбленные, которые сидели здесь, тесно прижавшись друг к другу, урвав у тягостной монотонности дня какой-нибудь час безмятежного райского блаженства, не будили мечтаний в голове Джемса; он давно пережил такую мечтательность; его нос, как нос овцы, был устремлен вниз, на пастбище, на котором он пасся.
Один из его съемщиков с некоторых пор перестал торопиться со взносом квартирной платы, и перед Джемсом вставал серьезный вопрос – не выкинуть ли его ни минуты не медля, хотя бы и рискуя остаться до Рождества без арендатора. Суизин уже нарвался на такую историю, и поделом ему – нечего было тянуть.
Поглощенный своими мыслями, Джемс твердым шагом шел вперед, аккуратно держа зонтик чуть пониже ручки, так, чтобы шелк не потрепался посередине и кончик зонта не доходил до земли. Высоко подняв худые плечи, Джемс быстро, с точностью механизма переступал своими длинными ногами, и его шествие через парк, залитый ярким солнцем, светившим над безмятежностью лужайки, над людьми, вырвавшимися из жестокой битвы Собственности, бушевавшей там, за оградой, напоминало полет птицы, покинувшей привычную землю и внезапно очутившейся над морем.
Выйдя на Алберт-Гейт, он почувствовал, как кто-то тронул его за рукав.
Это был Сомс: возвращаясь домой из конторы, он перешел с теневой стороны Пиккадилли на солнечную и зашагал рядом с отцом.
– Мама лежит, – сказал Джемс, – я как раз шел к тебе; впрочем, может быть, я помешаю?
С внешней стороны отношения между Джемсом и сыном отличались полным отсутствием сентиментальности, как и у всех истых Форсайтов, однако отнюдь нельзя сказать, чтобы отец и сын не чувствовали взаимной привязанности. Возможно, что они смотрели друг на друга как на капитал, вложенный в солидное предприятие: каждый из них заботился о благосостоянии другого и испытывал удовольствие от его общества. Но они ни разу в жизни не перекинулись словом о более интимных вопросах, ни разу не обнаружили в присутствии друг друга какое-нибудь глубокое чувство.
Их связывало что-то такое, что было сильнее слов, что таилось в самой сущности нации, семьи, – ведь кровь не вода, а ни того ни другого нельзя было назвать человеком холодной крови. Для Джемса любовь к детям стала теперь основным стимулом жизни. Сознание, что дети – часть его самого, что им он может передать свои сбережения, – вот что лежало в основе его тяги к наживе; а в семьдесят пять лет какое еще удовольствие мог он получить от жизни, кроме наживы? И основной смысл существования заключался для Джемса в сбережении денег для детей.
Во всем Лондоне, где у Джемса было столько владений, в Лондоне, который он любил молчаливой любовью, как вместилище своих удач, не было человека, несмотря на всю его мнительность, более здравомыслящего, чем Джемс Форсайт (если основным признаком здравого ума считать инстинкт самосохранения, хотя Тимоти бесспорно в этом отношении хватил через край). Джемс был наделен поразительным инстинктивным здравомыслием, присущим всему его классу. В нем больше, чем в Джолионе с его твердой волей и минутными порывами нежности и философских раздумий, больше, чем в Суизине, оказавшемся в плену у собственных причуд, Николасе, жертве своих способностей, и Роджере, мученике предприимчивости, бесперебойно пульсировал инстинкт приспособления; из всех братьев он был наименее примечателен как по уму, так и по индивидуальности и именно поэтому имел все шансы на бессмертие.
Джемс больше остальных братьев ценил и любил семью. В его отношении к жизни всегда было что-то примитивное и «домашнее»; он любил семейный очаг, любил посудачить, любил поворчать. Для того чтобы прийти к какому-нибудь решению, он снимал пенки мудрости со своей семьи, а через ее посредство и с множества других семей подобного же склада. Год за годом, неделю за неделей ходил он к Тимоти и сидел в гостиной брата, скрестив свои длинные ноги, худой, высокий, с седыми бакенбардами, обрамлявшими его чисто выбритый подбородок, следил, как набегает пенка в закипающем семейном горшке, и уходил оттуда приголубленный, освеженный, утешенный, с неизъяснимым чувством душевного покоя. Под несокрушимым инстинктом самосохранения в Джемсе таилась неподдельная мягкость; визит к Тимоти действовал на него, как час, проведенный у материнских колен. Острая потребность чувствовать над собой защиту семейного крылышка влияла, в свою очередь, и на его отношение к детям; он не мог без ужаса думать о том, что состояние, репутация, здоровье его детей будут в какой-либо мере зависеть от постороннего мира. Узнав, что сын его старого друга Джона Стрита вступил добровольцем в экспедиционный корпус, он сердито покачал головой, удивляясь, как это Джон Стрит допустил такую вещь; а когда молодой человек был убит туземцами, Джемс так близко принял это к сердцу, что обошел всех знакомых только для того, чтобы объявить всюду: «Так я и знал, ну что с такими людьми поделаешь!»
Когда его зять, Дарти, потерпел финансовый крах в результате спекуляции акциями нефтяной компании, Джемс заболел от расстройства; в этой катастрофе ему почудился похоронный звон, провожающий в могилу всяческое благосостояние. Для того чтобы оправиться от такого удара, понадобились три месяца и поездка в Баден-Баден; он приходил в ужас при одной мысли, что, если бы не его, Джемса, деньги, имя Дарти попало бы в список банкротов.
Организм Джемса был настолько крепок, что при малейшей боли в ухе он уже готовился к смерти, а болезни жены и детей воспринимал как личное несчастье, специально ниспосланное провидением, чтобы нарушить его душевный покой. Но в недомогания других людей, не входивших в круг его семьи, он просто не верил, утверждая, что все это происходит оттого, что люди не заботятся о своей печени.
Во всех таких случаях слова его были неизменны: «На что они рассчитывают? И у меня бывает то же самое, если я не слежу за собой!»
Идя в тот вечер к Сомсу, он чувствовал, что жизнь обращается с ним жестоко; у Эмили разыгралась подагра, Рэчел вздумала укатить в гости за город; никто ему не сочувствует; Энн больна – вряд ли протянет лето; он три раза заезжал к ней, и все три раза она не могла его принять. А тут еще Сомс с постройкой дома, этим надо заняться как следует! Что же касается неприятностей с Ирэн, он просто не знает, чем это кончится, – всего можно ожидать!
Джемс вошел в дом № 62 на Монпелье-сквер с твердым намерением показать, какой он несчастный человек.
Было уже половина восьмого, и Ирэн, одетая к обеду, сидела в гостиной. На ней было золотистое платье, в котором она уже показывалась на званом обеде, на вечере и на балу, – теперь его можно было носить только дома; на груди платье было отделано волной кружев, на которые Джемс уставился сразу, как только вошел.
– Где вы все это покупаете? – сердито спросил он. – Рэчел и Сесили никогда не бывают так хорошо одеты. Это настоящее кружево? Да нет, не может быть!
Ирэн подошла ближе, чтобы доказать Джемсу, что он ошибается.
И, независимо от своей воли, Джемс размяк от такой предупредительности со стороны Ирэн, от тонкого соблазнительного запаха ее духов. Но ни один уважающий себя Форсайт не сдается с первого удара; и он сказал:
– Не знаю, не знаю, вы, должно быть, тратите уйму денег на наряды.
Зазвенел гонг, и, подав Джемсу свою ослепительно белую руку, Ирэн повела его в столовую. Она посадила его на место Сомса, слева от себя. Свет здесь падал мягче, сгущавшиеся сумерки не будут его беспокоить; и она принялась говорить с Джемсом о его делах.
В Джемсе сразу же произошла перемена, как будто солнце согрело плод, медленно зреющий на ветке; он чувствовал, что его нежат, хвалят, ласкают, а между тем в ее словах не было ни прямой ласки, ни похвалы. Ему казалось, что именно такой обед и нужен для его желудка; дома этого ощущения не бывало; он уже не мог припомнить, когда бокал шампанского доставлял ему такое удовольствие, как сейчас, потом, осведомившись о марке и цене, удивился, что это то же самое вино, которое он держит у себя, но не может пить, и сразу решил заявить своему поставщику, что тот его надувает.
Подняв глаза от тарелки, он сказал:
– У вас так много красивых вещей. Сколько, например, вы заплатили за эту сахарницу? Должно быть, немалые деньги?
Особенное удовольствие доставила ему висевшая напротив картина, которую он сам подарил им.
– Я и не подозревал, что она так хороша! – сказал он.
Встав из-за стола, они направились в гостиную, и Джемс шел за Ирэн по пятам.
– Вот это называется хорошо пообедать, – довольным голосом пробормотал он, дыша ей в плечо, – ничего тяжелого и без всяких французских штучек. Дома я не могу добиться таких обедов. Плачу поварихе шестьдесят фунтов в год, но разве она когда-нибудь кормит меня так!
До сих пор о постройке дома не было сказано ни слова; Джемс не заговорил об этом и тогда, когда Сомс, сославшись на дела, ушел наверх, в комнату, где он держал свои картины.
Джемс остался наедине с невесткой. Тепло, разлившееся по всему телу от вина и превосходного ликера, все еще не покидало его. Он чувствовал нежность к Ирэн. В самом деле, в ней столько обаяния; она слушает вас и как будто понимает все, что вы говорите, и, продолжая разговор, Джемс не переставал внимательно разглядывать ее всю, начиная с туфель цвета бронзы и кончая волнистым золотом волос. Она откинулась в кресле, ее плечи приходились вровень со спинкой – тело, прямое, гибкое, послушное, словно отдавалось объятиям любовника. Губы ее улыбались, глаза были полузакрыты. Возможно, что Джемсу почудилась опасность в самом очаровании ее позы, возможно, что виной тут был пищеварительный процесс, но он вдруг умолк. Если память ему не изменяет, он еще никогда не оставался наедине с Ирэн. И, глядя на нее, Джемс испытывал странное чувство, словно ему пришлось столкнуться с чем-то необычным и чуждым.
О чем она думает, откинувшись вот так в кресле?
И когда Джемс заговорил, слова его прозвучали резко, словно кто-то прервал его приятные сновидения.
– Что вы тут делаете одна по целым дням? – сказал он. – Почему бы вам не заглянуть когда-нибудь на Парк-лейн?
Ирэн придумала какую-то отговорку. Джемс выслушал ответ, не глядя на нее. Ему не хотелось верить, что она на самом деле избегает его семьи, – это было бы уж слишком.
– Наверное, вам просто некогда, – сказал он, – ведь вы вечно с Джун. Ей это очень кстати. Вы, должно быть, всюду сопровождаете ее с женихом. Говорят, она совсем не бывает дома; дяде Джолиону, наверное, это не по душе, приходится сидеть одному. Говорят, она по пятам ходит за этим Босини. Он каждый день бывает у вас? Ну а как вы к нему относитесь? Как по-вашему, он положительный человек? На мой взгляд – ничтожество. Она будет держать его под каблучком!
Щеки Ирэн залились краской. Джемс подозрительно посмотрел на нее.
– Боюсь, что вы не совсем разобрались в мистере Босини, – сказала она.
– Не разобрался! – выпалил Джемс. – Это почему же? Сразу видно, что он, как это называется… «художественная натура». Говорят, талантливый, но они все себя считают талантами. Впрочем, вам лучше знать, – добавил он и снова кинул на нее подозрительный взгляд.
– Он работает над проектом дома для Сомса, – мягко сказала Ирэн, явно стараясь успокоить его.
– Вот как раз об этом я и хотел поговорить, – подхватил Джемс. – Не понимаю, зачем Сомсу понадобилось связываться с этим юнцом; почему он не обратился к первоклассному архитектору?
– А может быть, мистер Босини тоже первоклассный архитектор?
Джемс встал и прошелся по комнате, низко опустив голову.
– Ну конечно, – сказал он, – вы, молодежь, горой стоите друг за друга; думаете, что умнее вас никого нет!
Длинная тощая фигура Джемса остановилась перед ней, он угрожающе поднял палец, словно произнося приговор красоте Ирэн.
– Я могу сказать только одно, все эти «таланты», или как они там себя называют, самые ненадежные люди; послушайте моего совета: держитесь от него подальше!
Ирэн улыбнулась, и в изгибе ее рта был какой-то вызов. Вся ее предупредительность к Джемсу исчезла. Казалось, что затаенный гнев волнует ее грудь; она подняла руки, сомкнула кончики пальцев; непроницаемый взгляд ее темных глаз остановился на Джемсе.
Он сумрачно уставился себе под ноги.
– Я вам прямо скажу, – проговорил он, – очень жаль, что у вас нет ребенка, вам нечего делать, не о ком заботиться!
Лицо Ирэн сразу омрачилось, и даже Джемс почувствовал, какое напряжение сковало ее тело под мягким покровом шелка и кружев.
Эффект, произведенный этими словами, испугал его самого, и, как большинство людей не храброго десятка, он сразу же, для большей убедительности, перешел в наступление.
– Вы вечно сидите дома. Почему бы, например, вам не проехаться с нами в Харлингэм? Или не сходить в театр? В ваши годы надо всем интересоваться. Вы же молодая женщина!
Лицо Ирэн еще более омрачилось; Джемсу стало совсем не по себе.
– Впрочем, кто вас знает, – сказал он, – мне никогда ничего не рассказывают. Сомс должен сам о себе позаботиться. А если не может, пусть на меня не рассчитывает – вот и все.
Прикусив кончик указательного пальца, он бросил на невестку холодный испытующий взгляд.
Ее глаза, темные и глубокие, так твердо смотрели на него, что он запнулся и почувствовал легкую испарину.
– Ну, мне надо идти, – сказал он после короткой паузы и секундой позже поднялся с удивленным видом, словно ждал, что его будут удерживать. Он протянул Ирэн руку и позволил проводить себя до дверей и выпустить на улицу. Нет, не нужно звать кеб, он прогуляется пешком, пусть Ирэн передаст привет Сомсу, а если ей захочется немного развлечься, что ж, он в любой день поедет с ней в Ричмонд.
Джемс пришел домой и, поднявшись к себе, разбудил Эмили, впервые за сутки забывшуюся сном, чтобы сказать ей, что семейные дела Сомса, кажется, идут неважно; обсуждение этой темы заняло у Джемса полчаса, а затем, заявив, что не сможет сомкнуть глаз всю ночь, он повернулся на другой бок и сейчас же захрапел.
В доме на Монпелье-сквер Сомс, выйдя из верхней комнаты, стоял незамеченный на лестнице и смотрел, как Ирэн разбирает письма, полученные с последней почтой. Она вернулась в гостиную, но сейчас же вышла оттуда и остановилась в дверях, словно прислушиваясь к чему-то. Затем стала тихо подниматься по лестнице, держа на руках котенка. Он видел ее лицо, склонившееся над котенком, который с мурлыканьем терся о ее шею. Почему она никогда не смотрит так на него?
Вдруг она заметила Сомса, и выражение ее лица сейчас же изменилось.
– Есть для меня письма? – спросил он.
– Три.
Сомс посторонился, а Ирэн прошла в спальню, не сказав больше ни слова.
VII
Прегрешение старого Джолиона
В тот же самый день старый Джолион ушел с крикет-граунда с твердым намерением отправиться домой. Но, не дойдя и до Гамильтон-Террес, раздумал и, подозвав кеб, велел отвезти себя на Вистариа-авеню. В голове у него созрело решение.
Последнюю неделю Джун почти не бывала дома; она уже давно не баловала его своим обществом, точнее говоря, с того самого дня, как состоялась ее помолвка с Босини. Старый Джолион не просил Джун побыть с ним. Не в его привычках просить людей о чем-нибудь! Голова ее была занята только Босини и его делами. Старый Джолион остался один с оравой слуг в громадном доме – и ни души рядом, с кем можно бы перекинуться словом за весь долгий день. Клуб его был временно закрыт; правления компаний, где он состоял директором, не заседали на каникулах, поэтому в Сити делать было нечего. Джун настаивала, чтобы он уехал из города; сама же ехать не хотела, потому что Босини оставался в Лондоне.
Но куда он денется без нее? Не ехать же одному за границу; море он не переносит из-за печени; об отелях противно и думать. Роджер ездит на воды, но он не намерен на старости лет заниматься такими глупостями: все эти новомодные курорты – чистейшая ерунда!
Такими изречениями старый Джолион прикрывал свое угнетенное состояние духа, прячась от самого себя; морщины около его рта залегли глубже, в глазах с каждым днем все больше и больше сквозила печаль, так несвойственная лицу, в котором прежде было столько воли и спокойствия.
Итак, в этот день он отправился в Сент-Джонс-Вуд, где золотые брызги света дрожали на зеленых шапках акации перед скромными домиками, где летнее солнце, словно в буйном веселье, заливало маленькие сады; старый Джолион с интересом смотрел по сторонам – он находился в той части города, куда Форсайты заходят, не скрывая своего неодобрения, но с тайным любопытством.
Кеб остановился перед маленьким домиком, судя по его неопределенно-бурому цвету, давно не знавшим ремонта. Вход с улицы был через калитку, как у деревенских коттеджей.
Старый Джолион вышел из кеба с чрезвычайно спокойным видом; его массивная голова с длинными усами, с прядью седых волос, видневшейся из-под полей очень высокого цилиндра, была гордо поднята; взгляд твердый, немного сердитый. Вот до чего его довели!
– Миссис Джолион Форсайт дома?
– Дома, сэр. Как прикажете доложить, сэр?
Старый Джолион не вытерпел и подмигнул маленькой служанке, говоря ей свое имя. «Ну и лягушонок!» – пронеслось у него в голове.
Он прошел за ней через темную переднюю в небольшую гостиную, где стояла мебель в ситцевых чехлах; служанка предложила ему кресло.
– Они в саду, сэр; присядьте, пожалуйста, я сейчас доложу.
Старый Джолион сел в кресло, покрытое ситцевым чехлом, и оглядел комнату. Все здесь казалось жалким, как он выразился про себя; на всем лежал особый отпечаток – он затруднялся определить, какой именно, – какой-то оттенок убожества, вернее, старания свести концы с концами. Насколько можно было судить, ни одна вещь в гостиной не стоила и пяти фунтов. На стенах, давным-давно выцветших, висели акварельные эскизы; поперек потолка шла длинная трещина.
Все эти домишки – старая рухлядь; надо надеяться, что платят за такую конуру меньше сотни в год; старому Джолиону трудно было бы выразить словами ту боль, которую он испытывал при одной мысли, что Форсайт – его родной сын – живет в таком доме.
Служанка вернулась. Не угодно ли ему пройти в сад?
Старый Джолион вышел через стеклянную дверь. Спускаясь с крылечка, он подумал, что его давно следовало бы покрасить.
Молодой Джолион, его жена, двое детей и пес Балтазар сидели в саду под грушевым деревом.
Старый Джолион направился к ним, и это был самый мужественный поступок в его жизни; но ни один мускул не дрогнул на его лице, ни одно движение не выдало его. Он шел, устремив твердый взгляд прямо на врага.
В эти две минуты старый Джолион с предельной безупречностью продемонстрировал бессознательную здравость ума, выдержку и жизнеспособность – все то, что делало его и многих других людей одного с ним класса ядром нации. В манере вести свои дела без лишнего шума и с полным пренебрежением ко всему остальному миру эти люди воплощают самую сущность британского индивидуализма – результата естественной обособленности всей страны.
Пес Балтазар обнюхал его брюки; благосклонно настроенный и несколько циничный пес – незаконное детище пуделя и фокстерьера – чуял необычное безошибочно.
После натянутых приветствий старый Джолион сел в плетеное кресло, внучата его стали по бокам и молча уставились на деда, первый раз в жизни видя перед собой такого старого человека.
Дети были совсем не похожи друг на друга, как будто и здесь сказалась разница обстоятельств, сопутствовавших их рождению. Джолли – плод греха, толстощекий, с форсайтскими глазами, с зачесанной кверху светлой, как лен, шевелюрой, с ямочкой на подбородке – смотрел приветливо и твердо; маленькая Холли – плод брачного союза – была смуглая серьезная особа с глазами матери – серыми и задумчивыми.
Пес Балтазар обошел три маленькие клумбы, всем своим видом показывая полнейшее презрение к окружающему миру, затем уселся напротив старого Джолиона и, повиливая хвостиком, которому самой природой указано было лежать крендельком на спине, смотрел, не мигая, прямо перед собой.
Общее впечатление убожества преследовало старого Джолиона даже здесь, в саду; плетеное кресло поскрипывало под его тяжестью; клумбы жалкие; у потемневшей каменной ограды – тропинка, протоптанная кошками.
Пока дед и внуки внимательно разглядывали друг друга с тем любопытством и доверием, которые всегда возникают между очень юными и очень старыми людьми, молодой Джолион наблюдал за женой.
Ее худое продолговатое лицо с большими серыми глазами, смотревшими из-под прямых бровей, вспыхнуло. Волосы, высоко зачесанные со лба, уже начинали седеть, как и у него, и эта седина с щемящей сердце трогательностью только подчеркивала румянец, внезапно загоревшийся у нее на щеках.
Это лицо – такое, каким он никогда не знал его раньше, какое она всегда прятала от него, – было полно долго таимой враждебности, тоски и страха. В глазах под тревожно подергивающимися бровями была боль. Она молчала.
Разговор поддерживал один Джолли; у него было много сокровищ, и этот новый друг с длинными усами и голубыми жилками на руках, сидевший, положив ногу на ногу, как папа (Джолли давно уже старался научиться сидеть так), должен был узнать об этих сокровищах; но будучи истым Форсайтом, хотя всего-навсего восьми лет от роду, он не обмолвился ни словом о самом дорогом его сердцу – об оловянных солдатиках в витрине игрушечного магазина, которые отец обещал подарить ему. Эта вещь казалась Джолли бесценной; лучше даже не заикаться о ней, чтобы не искушать судьбу.
Солнце, пробравшись сквозь листву, играло на этой маленькой группе, на представителях трех поколений, спокойно сидевших под грушевым деревом, которое уже давно не приносило плодов.
Морщинистое лицо старого Джолиона покраснело пятнами, как краснеют на солнце лица стариков. Он взял Джолли за руку; мальчик вскарабкался ему на колени; и маленькая Холли, зачарованная этим зрелищем, подобралась к ним поближе; пес Балтазар принялся ритмически почесывать себе спину.
Вдруг миссис Джолион встала и быстро пошла к дому; минутой позже муж пробормотал какое-то извинение и ушел за ней. Старый Джолион остался один с внуками.
И природа со свойственной ей тонкой иронией принялась за старого Джолиона, испытывая на его сердце свой закон циклического чередования. Та нежность к детям, та страстная любовь к росткам жизни, которая заставила его однажды бросить сына и пойти за Джун, теперь заставляла его бросить Джун и пойти за этими совсем крохотными существами. Молодость незатухающим пламенем горела в сердце старого Джолиона, и к молодости он потянулся, к пухлым ручонкам, таким шаловливым и требующим такой заботы о себе, к пухлым личикам – то важным, то веселым, к звонким голосам, громкому, захлебывающемуся смеху, к настойчивым цепким пальцам, к этим крошкам, копошившимся у его ног, – ко всему, что было молодо, молодо и еще раз молодо. В его глазах появилась нежность, нежными стали голос и худые, со вздутыми венами руки, нежность затеплилась у него в сердце. И крохотные создания сразу же нашли здесь убежище для своих забав, убежище, где их никто не тронет, где можно и поболтать, и посмеяться, и поиграть; и вскоре плетеное кресло и те, кто сидел в нем, стали, как солнце, излучать радость, царившую во всех трех сердцах.
Но молодой Джолион, последовавший за женой в комнаты, чувствовал себя по-иному.
Он нашел жену в кресле перед зеркалом; она сидела, закрыв лицо руками.
Плечи ее вздрагивали от рыданий. Эта способность так легко поддаваться горю всегда была непонятна молодому Джолиону. Сотни раз приходилось ему быть свидетелем таких вспышек отчаяния; он и сам не знал, как удавалось переносить их, ибо ему не верилось, что это всего лишь вспышки, что последний час их совместной жизни еще не пробил.
А ночью она обхватит его шею руками и скажет: «Зачем я тебя мучаю, Джо!» – как бывало уже сотни раз.
Он протянул руку и незаметно спрятал в карман футляр с бритвой.
«Я не могу здесь оставаться, – думал молодой Джолион, – надо идти туда!» Не говоря ни слова, он вышел из комнаты в сад.
Старый Джолион усадил Холли на колени; она завладела его часами; Джолли, весь побагровевший, пытался показать, что умеет стоять на голове. Пес Балтазар сидел вплотную у стола, не сводя глаз с печенья.
Молодой Джолион почувствовал недоброе желание нарушить эту идиллию.
Зачем отец явился сюда и так взволновал его жену?
После всех этих лет – такое потрясение! Он должен был сам догадаться; должен был предупредить их; но разве Форсайту придет когда-нибудь в голову, что его поведение может причинить неприятность другим! Молодой Джолион был несправедлив к отцу.
Он резко заговорил с детьми, послав их пить чай в комнаты. Удивленные его резкостью – отец никогда еще не разговаривал с ними таким тоном, – они пошли, взявшись за руки, и, уходя, Холли несколько раз оглянулась через плечо.
Молодой Джолион налил себе и отцу чаю.
– Жена немного нездорова сегодня, – сказал он, отлично зная, что отцу понятна причина ее внезапного ухода, и почти ненавидя старика за то, что тот сидит с таким невозмутимым видом.
– У тебя славный домик, – сказал старый Джолион, пристально глядя на сына. – Ты снимаешь его?
Молодой Джолион кивнул.
– Хотя сам район мне не нравится, – сказал старый Джолион, – очень убогий.
Молодой Джолион ответил:
– Да, у нас убого.
Теперь молчание прерывал только пес Балтазар, почесывавший себе спину.
Старый Джолион сказал просто:
– Я, должно быть, напрасно пришел, Джо, но мне так тоскливо одному!
В ответ на эти слова молодой Джолион встал и положил руку отцу на плечо.
В соседнем доме кто-то бесконечно наигрывал на расстроенном рояле «La donna mobile»; на садик спустилась тень, солнце доходило теперь только до задней стены, на которой, греясь в последних лучах, пристроилась кошка; ее желтые глаза сонно поглядывали вниз на Балтазара. Издалека доносился глухой шум уличного движения; увитые плющом стены садика скрывали все, кроме неба, дома и грушевого дерева, верхушку которого все еще золотило солнце.
Некоторое время они сидели, изредка перекидываясь словами. Потом старый Джолион собрался уходить, и о его дальнейших посещениях ничего сказано не было.
Он вышел от сына с горечью на сердце. Какой жалкий домишко! И он вспомнил о большом пустынном доме на Стэнхоуп-Гейт, достойной резиденции для Форсайта, с громадной бильярдной и гостиной, куда по целым неделям никто не заходил.
Эта женщина, лицо которой ему даже понравилось, какая она чувствительная! Джолиону, должно быть, очень трудно с ней ладить. А дети, что за прелесть! Как это все тяжело и нелепо!
Он пошел по направлению к Эджуэр-роуд между двумя рядами маленьких домиков, вызывавших у него мысли (ничем, конечно, не оправданные, но предрассудки Форсайтов священны) о всевозможных непозволительных историях.
Так называемое общество – болтливые мегеры и всякий сброд – произнесло приговор его плоти и крови! Старые бабы! Он стукнул по тротуару зонтиком, точно хотел вогнать его в самое сердце жалкого общества, осмелившегося отвергнуть его сына и сына его сына, в котором он мог бы снова жить на старости лет.
Старый Джолион гневно стукнул зонтиком: но ведь он сам вот уже пятнадцать лет следовал законам этого общества и только сегодня изменил им!
Он вспомнил Джун, ее покойную мать и всю катастрофу, и прежняя горечь поднялась в нем. Тяжелая история!
Путь до Стэнхоуп-Гейт был долгий, потому что, словно назло самому себе, старый Джолион, чувствуя сильную усталость, шел всю дорогу пешком.
Вымыв внизу руки, старый Джолион пошел в ожидании обеда в столовую – единственную комнату, где он проводил время, когда Джун не бывало дома: здесь не так тоскливо одному. Вечерняя газета еще не пришла; «Таймс» он уже просмотрел, значит, делать было решительно нечего.
Окна столовой выходили на спокойную улицу, и в комнате было очень тихо. Старый Джолион не любил собак, но сейчас он обрадовался бы и такому обществу. Его взгляд, блуждавший по стенам, остановился на картине «Голландские рыбачьи лодки на закате» – гордость всей его коллекции. Сейчас она не доставила ему никакого удовольствия. Он закрыл глаза. Тоскливо одному! Жаловаться бесполезно, он прекрасно знает это, но трудно сдержать себя. Жалкий старик, всегда был жалким – хватки не было в жизни! Такие мысли бродили в голове старого Джолиона.
Лакей пришел накрыть на стол и, решив, что хозяин спит, старался двигаться с величайшей осторожностью. Этот бородач носил также и усы, что вызывало большие сомнения у многих членов семьи, особенно у тех, кто, подобно Сомсу, кончил закрытую школу и с сугубой щепетильностью разбирался в таких вопросах. В самом деле, разве он похож на лакея? Игриво настроенные умы называли его «дядин сектант». Джордж, известный остряк, прозвал его «миссионером».
Лакей с неподражаемой мягкостью бесшумно двигался между большим полированным буфетом и большим полированным столом.
Старый Джолион наблюдал за ним, притворившись спящим. Низкая душонка – он всегда считал его таким – только и думает, как бы отделаться поскорее и удрать на скачки, или к своей даме, или черт его знает куда! Тунеядец! А как разжирел! И ни малейшего чувства привязанности к своему хозяину!
Но тут против его собственной воли старым Джолионом вдруг завладела обычная склонность пофилософствовать, которая так сильно выделяла его из среды остальных Форсайтов.
В конце концов, разве лакей обязан чувствовать привязанность к хозяину? Ведь за это не платят, значит, нечего с него и требовать. В этом мире нельзя надеяться на бескорыстные чувства. В другом, может быть, все пойдет по-иному, кто знает, кто может угадать? И он снова закрыл глаза.
Упорно продолжая заниматься своим делом, лакей бесшумно доставал посуду из разных отделений буфета. Он ни разу не повернулся к старому Джолиону лицом, вероятно, стараясь скрыть неприглядность своих манипуляций, заключавшуюся в том, что они совершались в присутствии хозяина; время от времени он дышал украдкой на серебро и протирал его кусочком замши. Можно было подумать, что лакей размышляет, достаточно ли вина в графинах, которые он осторожно нес к столу, высоко держа их в руках и покровительственно прикрывая сверху бородой. Кончив приготовления, он с минуту глядел на хозяина, и в его зеленоватых глазах было презрение.
В конце концов, хозяин у него старая развалина, совсем сдал старик!
Тихо, как кошка, он прошел через комнату к звонку. Было приказано: «обед в семь». Хозяин спит. Ну что ж, он его живо разбудит; успеет выспаться за ночь! Надо и о себе подумать: в половине девятого его ждут в клубе.
В ответ на звонок в столовую вошел мальчик с серебряной суповой миской. Лакей принял от него миску и поставил на стол, потом остановился в дверях и, словно обращаясь к большому обществу, провозгласил торжественным голосом:
– Кушать подано, сэр!
Старый Джолион медленно поднялся с кресла и перешел к столу обедать.
VIII
Проект дома готов
Все Форсайты, как это общеизвестно, живут в раковинах, подобно тому чрезвычайно полезному моллюску, который идет в пищу как величайший деликатес; другими словами, в натуральном виде Форсайты никогда не встречаются, а если и встречаются, то никто их не узнает без этой оболочки, сотканной из различных обстоятельств их жизни, их имущества, знакомств и жен, без всего того, что на каждом шагу сопутствует им в этом мире, кишащем тысячами других Форсайтов, запрятанных в такие же оболочки. Представить себе Форсайта без раковины немыслимо, в таком случае он уподобился бы роману без интриги, что, как известно, явление противоестественное.
На взгляд Форсайтов, Босини жил без такой оболочки; по-видимому, он принадлежал к тому редкостному и незадачливому типу мужчин, которые шествуют по своему пути в окружении обстоятельств чужой жизни, чужого имущества, чужих знакомых и чужих жен.
Его квартира в верхнем этаже дома на Слоун-стрит, с дощечкой на дверях, на которой было написано «Архитектор Филип Бейнз Босини», не имела ничего общего с жилищами Форсайтов. Гостиной у Босини не было, а такие необходимые в обиходе вещи, как диван, кресло, трубки, винный погребец, книги и домашние туфли, хранились в большой нише, отгороженной от рабочей комнаты ширмой. Мебель в деловой половине его квартиры была самая обычная: бюро с множеством ящичков, круглый дубовый стол, складной умывальник, несколько стульев и еще один стол очень больших размеров, заваленный рисунками и чертежами. Джун два раза пила здесь чай под охраной тетки Босини.
Предполагалось, что позади раочей комнаты имеется спальня.
Насколько семье Форсайтов удалось выяснить, доходы Босини сводились к сорока фунтам в год за консультации в двух строительных конторах, случайным приработкам и – что заслуживало большего внимания – ежегодной ренте в сто пятьдесят фунтов, предусмотренной в завещании его отца.
В сведениях, которые удалось получить об отце, утешительного было мало. Деревенский врач, родом из Корнуэлса, практиковал в Линкольншире, байронические замашки, эксцентричная внешность – весьма видная фигура в своих местах. Бейнз – контора «Бейнз и Байлдбой» – дядя Босини с материнской стороны, Форсайт по духу, хоть и не по имени, мало что мог рассказать о своем шурине такого, что бы заслуживало внимания.
– Чудак-человек! – говорил Бейнз. – О своих трех старших сыновьях отзывался так: «Хорошие ребята, только нудные». Они сейчас в Индии и прекрасно устроены! Филип был его любимцем. Странные вещи приходилось от него выслушивать; как-то раз заявил мне: «Друг мой, никогда не делитесь с женой своими мыслями!» Но я его совета не послушался; слуга покорный! Чудак был! Постоянно вразумлял Фила: «Жизнь можно прожить как угодно, дружок, но умереть ты обязан как джентльмен!» – и сам лежал в гробу в парадном сюртуке и шелковом галстуке с бриллиантовой булавкой. Большой был оригинал!
О самом Босини Бейнз отзывался тепло, но с некоторым состраданием:
– Байронизм он унаследовал от отца. Да вот посудите сами: отказался от работы у меня в конторе, где столько возможностей; бродил полгода с мешком за плечами, а зачем? Изучал иностранную архитектуру; иностранную, видите ли! На что он рассчитывал? И вот вам: талантливый молодой человек, а не может заработать и сотни в год! Лучше этой помолвки для него ничего не придумаешь, это его подтянет: ведь он принадлежит к тому сорту людей, которые спят днем, а работают ночью, и только потому, что не приучены к порядку; но ничего дурного в нем нет – решительно ничего дурного. Старик Форсайт очень богатый человек!
Мистер Бейнз был чрезвычайно любезен с Джун, которая в те дни часто бывала у него на Лаундс-сквер.