Башкирский стих XX века. Корпусное исследование Орехов Борис
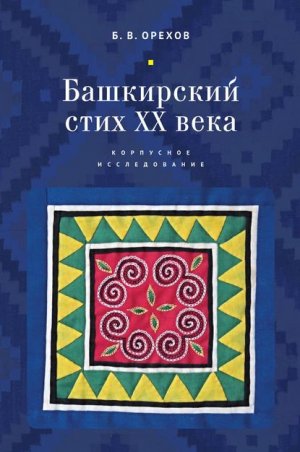
Список глосс
– S substantive существительное
– V verb глагол
– ADJ adjective адъектив
– NUM numeral числительное
– SPRO pronoun местоимение
– PART particle частица
– POST postposition послелог
– CONJ conjunction союз
– INTJ interjunction междометие
– PL plural множественное число
– SG singular единственное число
– 1,2,3SG first (second, third) person, singular первое (второе, третье) лицо единственного числа
– 1,2,3PL first (second, third) person, plural первое (второе, третье) лицо множественного числа
– UNCERT uncertainty клитика со значением неуверенности
– UNDEF undefiniteness клитика со значением предположительности
– INTERROG interrogative клитика со значением вопросительности
– REQUEST request клитика со значением просьбы
– PRED predicative сказуемость
– POSS possessive принадлежность
– IPOSS impersonal possessive неличная принадлежность
– NOM nominative case основной падеж
– GEN genitive case родительный падеж
– DAT dative case дательный падеж
– ACC accusative case винительный падеж
– ABL ablative case исходный падеж
– LOC locative case местно-временной падеж
– ABE abessive case абессив
– DERIV.ABSTR abstract noun абстрактное существительное
– DERIV.AGENS agens noun со значением деятеля
– ASSIM assimilation уподобление
– DIST distinctive выделительное (числительное)
– COL collective собирательное
– ORD ordinary порядковое
– APRX approximative приблизительное
– DIVIS divisive разделительное
– COMP comparative сравнительная степень
– ACYCL acyclic непериодическое действие
– GER gerund деепричастие
– IMP imperative mood повелительное наклонение
– REFL reflexive genus возвратный залог
– PASS passive genus страдательный залог
– RECP reciprocal genus взаимный залог
– CAUS causative genus понудительный залог
– NEG negation отрицание
– PRES present tense настоящее время
– PST.DEF past definite tense прошедшее определённое
– PST.INDF past indefinite tense прошедшее неопределённое
– FUT.INDF future indefinite tense будущее неопределённое
– FUT.DEF future definite tense будущее определённое
– DESI desiderative mood наклонение намерения
– COND conditional mood условное наклонение
– OPT optative mood желательное наклонение
– INF infinitive инфинитив
– SUP supin имя действия
0. Введение
В 1826 году видный филолог-классик И. Г. Я. Герман объявил, что филологии, которая занималась бы именно башкирской культурой, просто не может существовать: «Ибо именно творения духа в первую очередь придают тем предметам их ценность. Если бы предметы сами по себе имели такую ценность, то нельзя было бы не признать, почему бы, напр., башкиры, древний народ, называвшийся у греков , не имели полного права требовать для себя башкирских предметных филологов. Ведь если бы предметное знание исчерпывало собственную сущность филолога, то кто-то мог бы стать изрядным филологом и не понимая греческого и латыни»1 (перевод С. М. Шаулова).
Даже если принять во внимание множественность трактовок предмета и назначения филологии (см. [Орехов 2010а]), несомненно, что время уже опровергло утверждение Германа (см., к примеру, сборник статей «Вопросы башкирской филологии» [Вопросы 1959]). Поэтому наша цель состоит не столько в том, чтобы показать, что башкирская предметная филология возможна, сколько в том, чтобы продемонстрировать, что она может быть построена на современных основаниях, к которым, в частности, следует отнести исследовательскую стратегию distant reading, оформленную в работах Ф. Моретти [Moretti 2013] и его последователей. Distant reading (дистанцированное, отвлеченное чтение’, переводчики русского издания остановились на варианте «дальнее чтение» [Моретти 2016]) противопоставлено close reading (в русской традиции – медленное чтение’), то есть традиционному для литературоведения (технологическому [Венедиктова 2007] или позитивно-критическому [Назиров 2015: 94]) способу взаимодействия читателя и текста, при котором исследователь, опираясь на свой профессиональный опыт, на накопленные аналитические наблюдения предшественников и, самое главное, на конкретное словесное представление, входит в герменевтический круг, строит интерпретации и описывает структуры. «Отвлеченное чтение» предполагает, что литературовед не сносится с текстом напрямую, а пытается уловить значимые для литературы тенденции опосредованно, через модели, в основу которых положена извлеченная из исходного текста и систематизированная информация. Классический пример – работа Моретти «Корпорация стиля: размышления о 7 тысячах заглавий (британские романы 17401850)»2, в которой автор с помощью количественных мер описывает эволюцию английского романа, опираясь при этом на изменение длины названий во времени и распределение в них определенных слов.
Такой подход не означает неуважения к писательскому труду или литературе вообще. Во-первых, это просто честное признание ограниченности человеческих возможностей. Исследователь способен прочесть за отведенное ему время конечное число художественных произведений, а посвятить полному объему сложно организованных текстов достойное количество времени и сил для выявления и осмысления всех нюансов – задача нереализуемая. Меж тем литературная традиция в целом как система, как комплексный объект, – предмет, взывающий к изучению в не меньшей степени, чем отдельный текст. И отвлеченное чтение дает возможность обозреть традицию (или хотя бы масштабный набор текстов) целиком. Во-вторых, distant reading – это результат традиционного для гуманитария поиска новых методов исследования его материала, при этом привлекаемые методы вполне привычны для естественных наук, в которых ценится репрезентативность объема исходных данных: чем больше данных, тем точнее выявленные в них закономерности и надежнее выводы. И если астрофизики в своих исследованиях используют наблюдения за тысячами и даже сотнями тысяч звезд, это вовсе не свидетельствует, что им неинтересны отдельные звезды как предмет. Даже наоборот, как считается: «Чтобы делать что-то в области отвлеченного чтения, нужно хорошо освоить медленное чтение» [Spivak 2006: 102].
Основное отличие исповедуемого в этой книге подхода от отвлеченного чтения в том, что на дальнейших страницах производится поиск неочевидных закономерностей текста (и шире – всей текстовой традиции). Многие из системных отношений, описанных методами Ф. Моретти, представляют собой знание, которое можно было бы получить с помощью традиционных филологических подходов (например, интроспекции3). Нас как исследователей скорее интригует «встреча» значимой для литературоведа информации и привычных для точных и естественных наук методов, поэтому специально уточним: результаты исследований, изложенные в этой работе, не могли быть получены иначе, нежели с помощью подсчётов, тренировки компьютерных моделей и визуализации.
В принципе, упреки в очевидности выводов уже стали привычной проблемой для новых областей гуманитарных науки, пытающихся использовать статистику для конструирования гипотез в не совсем привычной для этого сфере. Так, кроме отвлеченного чтения, можно упомянуть «культуромику» [Michele et al. 2010], дисциплину, представители которой делают выводы о динамике общественных явлений по истории слов, отраженных в базе данных отсканированных в рамках проекта Google Books книг. Однако следует учесть, что очевидные выводы для молодой науки скорее не недостаток, а необходимый этап зарабатывания доверия. Так, гораздо труднее было бы положиться на не согласующиеся с нашими интуитивными или с признанными традиционной наукой представлениями выводы, особенно если сделаны они были в рамках экспериментального применения непривычных методов. В то же время поиск неочевидных закономерностей (в чем, собственно, и состоит научное познание)» остается основной задачей филолога [Новиков 2005], и эту задачу в меру сил автора пытается решать эта книга. Таким образом, один из основных ее сюжетов – это проблема применения точных методов в традиционно гуманитарной сфере изучения поэзии.
В то же время автор рассчитывает, что и проблематика книги выходит за пределы локальной области башкирской (или даже тюркской) поэтической традиции4. Главная сфера этой работы – стиховедение, прежде всего в той своей части, которая называется «русским методом». Речь идет о лингвостатистическом подходе к описанию стихотворных закономерностей: «Метр реализуется в языке и предстает в разнообразии многих ритмических вариаций; исследователь их описывает и подсчитывает, предъявляя результаты в объективных статистических показателях, и только на этой основе строит в дальнейшем теоретическое описание механизмов ритмообразования» [Бейли 2004: 12]. В последние годы развитие «русского метода» органично соединилось с успехами корпусной лингвистики и привело к появлению его особого извода: корпусного анализа метрики [см. Корпусный анализ 2013, 2014] и шире – корпусной поэтики, то есть исследовательского инструментария получения лингвостатистических данных с помощью поэтического корпуса. Поэтический корпус – это репрезентативная электронная коллекция поэтических текстов, снабжённых поисковой системой, способной производить поиск с учётом широкого набора лингвистически и стиховедчески релевантных параметров.
В области лингвистики появление корпусов уже отразилось и на постановке исследовательских задач, и на значимости получаемых результатов [Плунгян 2008а]. В ближайшее время следует ожидать таких же методологических сдвигов и в стиховедении, и тогда книга очерка башкирского стиха впишется в ряд соположенных исследований стиха на корпусной основе.
Башкирский поэтический корпус создан коллективом исследователей под руководством автора этой книги в 20122013 годах и доступен в Интернете по адресу http://web-corpora.net/bashcorpus/. На материале этого корпуса и базируется настоящее исследование. Мы надеемся, что эта книга способна показать незаслуженно забытые и просто не освоенные пути в стиховедении, которыми можно будет пойти при изучении других поэтических традиций, в том числе и русской.
Кроме того, обращение именно к башкирской поэзии имеет свой особенный смысл в контексте стиховедческих исследований. К настоящему моменту сложилась ситуация, в которой имеющийся стиховедческий аппарат оказывается адаптирован прежде всего к материалу русской силлабо-тоники, для нее описаны репертуар и динамика исторических изменений метров, ритмов, рифм, твердых форм. В то же время силлабическая система стихосложения имеет свою специфику, и механический перенос на силлабику исследовательских практик, изначально разработанных для иноструктурного материала, приведет к тому, что утрачено будет само понимание этой специфики. Таким образом, башкирские данные, представленные в этой книге, должны служить своего рода опытным образцом для отработки методов исследования специально силлабического стиха.
Несмотря на то, что стиховедением интересовался А. Н. Колмогоров, внесший едва ли не решающий вклад в статистическую науку XX века, собственно математический аппарат стиховедения в основном остался на уровне 1960-х годов: специалисты ограничиваются процентами и линейными диаграммами, в редких случаях используется критерий -квадрат. Нам хотелось бы (пусть и не на «престижном» русском, а на имеющем ограниченную аудиторию башкирском материале) создать прецедент применения в стиховедении оценки регрессионных моделей, сетевого анализа, тематического моделирования, иерархической кластеризации и других давно вошедших в практику работы с данными методов.
Встреча квантитативных методов анализа данных, корпусной лингвистики и стиховедения неизбежно приводит к некоторому усложнению текста для гуманитарно ориентированного читателя. Вместо традиционно расплывчатых рассуждений о поэзии каждое утверждение здесь будет опираться на количественные методы, то есть на цифры, полученные из иногда простых и понятных, а иногда сложных статистических операций. Мы стремились по возможности объяснять используемые термины и строить визуализацию материала для облегчения восприятия, однако сделать чтение комфортным для того, кто привык к иной стилистике разговора о поэзии, удалось далеко не везде.
Главы с 1-й по 3-ю можно считать вводными, они подготавливают детальный разговор о башкирской поэзии. 4-я и 5-я главы посвящены метрике, главы с 6-й по 10-ю – ритму в силлабике, рассмотренному на разных уровнях организации произведения – от грамматики до целого текста. В главах с 11-й по 13-ю речь идет о понятой максимально широко фонике (к ней мы в данном случае относим и рифму). В 14-й главе предпринимается попытка широкого обобщения полученных данных о метрике в общетюркском контексте с помощью контрастивного киргизского материала, в 15-й главе, тоже обобщающей, полученные ранее данные становятся основой для установления закономерностей на уровне литературного процесса. 16-я глава представляет некоторые результаты в направлении лингвистики и семантики стиха на башкирском материале. Наконец, завершающая книгу 17-я глава демонстрирует не столько пример анализа, сколько синтеза, использованного, однако, для получения дополнительных сведений о социокультурном статусе башкирской поэзии в наши дни.
Было бы несправедливо не поблагодарить за помощь в работе над этой книгой Азамата Абдрахмановича Галлямова, который сделал очень много для того, чтобы она появилась на свет: именно Азамату Абдрахмановичу мы обязаны оцифровкой большей части башкирских поэтических текстов и квалифицированными консультациями при создании анализатора башкирской морфологии. Также хотелось бы выразить признательность коллегам, которые консультировали нас по многим ключевым для книги вопросам и сделали замечания, позволившие существенно улучшить как содержание, так и способ его изложения. Это М. А. Алонцев, А. М. Буранчин, Г. Б. Вильданова, В. А. Гречачин, Е. Е. Земскова, М. А. Иосифян, С. А. Искандарова, А. Ф. Калинина, С. Л. Козлов, О. А. Маркелова, З. Н. Нигматьянова, Н. М. Перлина, В. А. Плунгян, И. Р. Саидбатталов, Э. А. Салихова, В. В. Файер, И. А. Шакиров, С. М. Шаулов, Е. В. Шаульский, Г. Юсупова. Наша специальная благодарность – О. Н. Ляшевской за неизменно критические замечания как стимул для профессионального роста (в каком качестве критика, надо сказать, получается мало у кого).
Трудно выразить нашу признательность уважаемым рецензентам К. М. Корчагину и А. В. Дыбо, которые взяли на себя труд прочесть книгу в рукописи и указали на недочеты, которые мы постарались исправить до того, как книга была отпечатана.
Большую техническую помощь при подготовке макета книги нам оказали Д. Ф. Муслимов, В. П. Фесенко и С. С. Белоусов.
Кроме специально оговоренных случаев, переводы башкирских стихотворных цитат принадлежат З. Н. Нигматьяновой.
В то же время все ошибки и недочеты этого труда целиком остаются на нашей совести.
1. Историко-культурный контекст башкирской поэзии XX века
Башкирская национальная литература как феномен стала возможна благодаря тому масштабному переформатированию общества, которое сопровождало в России революционные события первой четверти XX века. Хотя тюркское население империи имело развитую письменную культуру, появляющиеся в ней тексты не были национально ориентированы, хотя бы потому, что, если отталкиваться от конструктивистского взгляда на проблему нации (см. работы Б. Андерсона [Anderson 2006], Э. Хобсбаума [Hobsbawm 1990] и др.), башкирская национальность к тому моменту еще не сложилась. До 1920-х годов тюркский мир состоял из отдельных этносов, имевших единый литературный язык – тюрки5, который обеспечивал общность культурного пространства региона: «Мусульмане Урала и Поволжья имели единую идентичность, в основе которой лежала общность религии и мифического родства с населнием Волжской Булгарии XXIII веков» [Горенбург 2004: 72]. Это фактическое единство приводит в ряде случаев к неразрешимым спорам о принадлежности крупных фигур того культурного ландшафта к конкретному этническому сообществу. Так, поэт Акмулла (Мифтахетдин Камалетдинов, 18311895) традиционно вписывается в историю башкирской словесности [Вильданов, Кунафин 1981], [Шарипова 2005: 3841], но одновременно существует и фигурирующая в авторитетных изданиях альтернативная точка зрения: «Некоторые башкирские авторы считают Акмуллу. башкирским поэтом. В действительности же Акмулла. является казакским поэтом, так как стихи писал на казакском языке, и сам признает, что он казакский поэт» [Акмулла 1930]6.
«Институты, возникшие после 1905 г.7, создали возможность для национальной мобилизации башкир и выдвижения требований от имени башкирского народа» [Стейнведел 2010: 16], а образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики, вошедшей в состав РСФСР в 1919 году, запустило механизм конструирования именно социально-политической (то есть не просто этнической, а уже национальной) идентичности: государственную поддержку получили национальные выдвиженцы, печать и образование на национальном языке. «С 1920-х годов советская национальная политика дает представителям титульных этносов предпочтительное право возглавлять правительства национальных республик, облегчает им поступление в вузы и устройство на работу, помогает делать служебную карьеру, активно развивать свою культуру» [Горенбург 2004: 76]. Социально-политические условия сделали выгодным размежевание башкир с их ближайшими соседями на всех уровнях, включая художественную культуру. Важно, что «некое сообщество людей начинает воспринимать себя как нацию только оказавшись в окружении других таких же наций, тоже обладающих определенным набором национальных признаков и топосов» [Маркелова 2006: 19], а проводившаяся в советском государстве политика национального строительства в автономных республиках в составе РСФСР предполагала конструирование наций и в соседних с БАССР регионах. Конструктивистские процессы поддерживались и размежеванием литературных языков: «До начала 20-х гг. произведения башкирских писателей издавались на татарском языке8, с начала XX в. выполнявшем функцию литературного языка и для башкир. Развивающаяся национальная культура поставила на повестку дня вопрос о создании собственного национального литературного языка. Принципы его лексики и грамматики выработала специальная комиссия под руководством Ш. Худайбердина, которая опиралась при этом на два крупных диалекта башкирского языка (юрматынский и куваканский)» [История 2014: 25].
Симптомом формирования национальной идентичности можно считать такой факт: «Если раньше собиранием и публикацией башкирского фольклора занимались, в основном, русские ученые, то в начале века интерес к устно-поэтическому творчеству народа стали проявлять сами башкиры (М. Бурангулов, Ф. Туйкин, З. Уммати и др.)» [Ахмадиев 1971: 7]. Были созданы предпосылки для институционализации и национальной конкуренции литератур, скажем, в 1923 году начинает выходить, по всей видимости, первый башкирский литературный журнал «Яы юл» («Новый путь»), и его появление, как отмечают исследователи, «заметно способствовало развитию художественной литературы» [Кузбеков 2001: 58].
Исследователи (в частности, Бенедикт Андерсон [Anderson 2006]) отводят ключевое место в национальном строительстве письменному языку и печатной продукции на национальном языке. Обособление башкирской письменной культуры от письменности на тюрки выразилось в создании собственного алфавита сначала на основе латиницы (в тюрки использовалась арабица), а затем переход на современный кириллический алфавит. «В 1922 г. при Народном комиссариате просвещения БАССР был создан Академический центр. В том же году при Академцентре было образовано “Общество по изучению Башкирии” с целью исследования быта, культуры и истории народов республики …. Академический центр и Общество занимались подготовкой алфавита основ грамматики и орфографии вновь создаваемого башкирского литературного языка» [Усманов 1982: 6–7]
При этом структурно становление башкирской национальной литературы отличается от аналогичных историй малых народов Европы, получивших автономию в XX веке. Так, фарёрская письменная культура началась со сборника «Friskar vysur irktar og sungnar v fringun Kjpinhavn» (Фарёрские песни, сочиненные и исполняемые фарерцами в Копенгагене’), за которым закрепился статус первого фарёрского литературного текста. Подобного ему явления в башкирской литературе не было, так как необходимое для национального строительства размежевание происходило первоначально не в рамках оппозиции «национальная культура – культура метрополии» (для фарёрцев важно было зафиксировать своё своеобразие относительно датской словесности), а по линии «новая социалистическая культура – религиозная патриархальная культура» (по всей видимости, закрепить переформатирование нации должна была замена арабской письменности для тюрки на национальный алфавит на основе латиницы). Только после этого на первый план вышло конструирование собственно башкирской нации и её идентичности, а к этому моменту в башкирской литературе заявило о себе достаточно писателей, чтобы создание авторского первого («начального») текста башкирской нации уже стало невозможно. В какой-то мере роль такого произведения позднее взял на себя фольклорный эпос «Урал-батыр», записанный в единственном варианте М. Бурангуловым в 1910 году и изданный в полном варианте в 1972 году9.
Таким образом, в советских источниках мы находим хотя и тенденциозное, но в целом справедливое отражение исторических процессов: «Только после Великой Октябрьской социалистической революции перед башкирской литературой открылся широкий путь самостоятельного развития. Начался качественно новый период истории этой еще не сформировавшейся до революции литературы» [История 1963: 10]. Действительно, до революции (вернее, до начала советского национального строительства) башкирская литература не развивалась самостоятельно главным образом потому, что культурная элита региона не стремилась к этнически ориентированному обособлению и комфортно чувствовала себя в едином культурно-языковом пространстве. Странной представляется разве что формулировка «начался … новый период … еще не сформировавшейся … литературы», поскольку не ясно, как может начаться новый период того, чего до сих пор не существовало.
Социальные механизмы, стоящие за конструированием национальной литературы, достойны специального исследования, и нет сомнения в том, что такие исследования будут предприняты. Собственно, на материале других традиций эти вопросы уже ставились, см. [Weidauer 2003], [Arpaia 2002], [Маркелова 2006] и др. В отношении советской литературы и попавших в ее орбиту малых традиций лучше всего разработана тема перевода: [Witt 2013]. Другие аспекты взаимодействия литератур, роли и места башкирской культуры в общей системе советской цивилизации, сюжет и фабула становления башкирской литературы под влиянием социальных факторов, ключевые национальные топосы еще только ждут своего осмысления на современном методологическом уровне10.
Из сказанного очевидно, что башкирская литература XX века как социальный институт обладает сравнительно четкой обособленностью от предшествующей истории словесности. В какой мере эта внелитературная проекция должна влиять на внутреннее устройство поэтической системы, на поэтику, на язык художественных произведений – вопрос открытый. В постсоветском литературоведении считается дурным вкусом связывать общественно-политическую жизнь с внурилитературной реальностью. Реакция на социологизаторство марксистской модели здесь естественна: полное отрицание ожидаемо в соответствии с психологической проекцией третьего закона Ньютона. Но на примере истории русской литературы первой четверти XX века мы знаем, что оренная перестройка общества соотносится и с глубинными изменениями в собственно литературных механизмах. Из дальнейшего изложения будет видно, что радикальные трансформации затронули в это время и башкирский стих, и язык башкирской поэзии, что по сугубо формальным критериям советская башкирская поэзия лишь в малой степени напоминает предшествующую ей поэзию на тюрки.
Всё это позволяет говорить о башкирской поэзии XX века как о цельной системе, которая в этом смысле представляет собой удобный объект исследования. Разумеется, у неё есть свои предпосылки в прошлом (просветительская литература второй половины XIX века, богатая фольклорная традиция), влиятельные современные ей факторы (прежде всего русская и татарская литературы), но всё же границы башкирской литературы XX века как явления гораздо менее условные, чем, например, период русского классицизма, который при разной настройке литературоведческой оптики может начинаться и на рубеже XVIIXVIII веков [Кирпичникова 2014], и с творчества А. Д. Кантемира, а заканчиваться и на Г. Р. Державине, и на А. С. Пушкине [Курилов 1996].
2. Проблемы и термины тюркского стиховедения
2.1. Тюркское стихосложение в науке XX века
Чаще всего мы находим применение стиховедческих методов к поэтическим традициям тех тюркских культур, которые оказались вовлечены в орбиту русского влияния. Русский метод задал концептуальную рамку для описания этих явлений, оставшись, по большому счету, неизвестным зарубежным тюркологам.
Находится крайне мало работ, в которых по отношению к тюркским литературам выполнялась бы привычная по трудам классиков русской науки стиховедческая программа, предполагающая квантитативный подход к описанию метрики. Но само внимание к структурным особенностям стихотворной строки, заявившее о себе в исследованиях русских стиховедов, спровоцировало постановку аналогичных задач на материале советских тюркских литератур. До 1950-х годов эпизодически, а затем и регулярно начинают появляться публикации, освещающие круг вопросов, связанных с метрикой, фоникой и строфикой поэзии на азербайджанском, казахском, карачаево-балкарском, киргизском, туркменском, узбекском, татарском11, якутском, тувинском, хакасском, чувашском языках. В этом же ряду оказывается распространённый на территории Китая уйгурский язык.
2.1.1. Первая половина XX века
В первой половине века отечественное стиховедение занимается выработкой инструментария на материале русского стиха. Иноязычные традиции редко становятся объектом его интереса, поэтому особенного внимания со стороны ученых они не привлекают.
Тем не менее в 1909 году выходит достойная упоминания статья Ф. Корша [Коршъ 1909], в которой автор преследует прежде всего сравнительно-исторические цели. Обследовав широкий спектр тюркоговорящих народов, Ф. Корш делает вывод, что почти у всех из них (кроме подвергшихся особенно энергичному влиянию персидской поэзии) активнее других используется 7-сложный силлабический размер, который автор постулирует как древнейший и пратюркский (стр. 152). 11- и 14-сложники возводятся к нему. Также отмечается частотность (особенно у османских турок) 8-сложных строк (стр. 158).
Первым из русских стиховедов обратил внимание на современный тюркский материал Г. А. Шенгели [Шенгели 1930]. Начало его статьи – это апология статистического метода, уже зарекомендовавшего себя в науке о русском стихе. Достоинства подхода описываются автором так: «Обследуются не типы, а массы, не единичные явления, а общие состояния. Рассматриваются многие тысячи стихов данного размера, рассматриваются в различных разрезах, и – “большие числа” торжествуют над случайностью, выстраивая закон» (стр. 29). Но в целом текст представляет не результаты анализа, а описание возможного – так и не осуществленного – исследования узбекского стиха с опорой на классификацию ритмических вариаций строки. В качестве главного инструмента такого исследования предлагается авторская концепция таблицы слогоударных констант, которая могла бы помочь в поиске совпадений мест экспираторного ударения с иктами, так как ударность слогов по-прежнему считается стиховедом важным параметром силлабического стиха.
2.1.2. 1950-е
В 1950-е годы в публикациях, посвящённых тюркской метрике, в основном решался вопрос о выборе системы стихосложения, в которой следует описывать поэзию на конкретном национальном языке. В это же время некоторую непоследовательность в научные описания вносит так называемая «стопная теория», предполагающая наличие «стоп» в силлабическом стихе по аналогии с русской силлабо-тоникой.
Одной из первых в этом ряду стояла диссертация «Хакасское стихосложение» М. Унгвицкой [Унгвицкая 1952], основной её объём посвящён народному стиху, но есть и раздел, отражающий «основные этапы развития советской хакасской литературы за 20 лет». В работе встречаются ценные замечания о разных аспектах стиховедения. Говоря о происхождении рифмы, диссертант обращает внимание на то, что «возникновение её связано с закрепленным порядком слов в тюркских языках» (стр. 10), а в метрике подмечается «неравносложие стихотворных строк (число слогов в стихотворной строчке колеблется: для лирики – в пределах от 5 до 10 и в эпосе – от 6 до 12 слогов)» (стр. 11). Исследователь утверждает, что «стих хакасского фольклора метрический, долевой, а не силлабический …. Стих лирических жанров в большинстве случаев имеет по 3 ударения, он трехдольный и напоминает дольники» (стр. 11). Обращаясь к письменной поэзии, М. Унгвицкая устанавливает, что «в стихах поэтов Советской Хакассии строчки стихов становятся равносложными, причём равноударность стиха сохраняется; обычным становится чередование 7-ми и 8-ми сложников в данном стихотворении или стремление выдерживать стих одного и того же слогового объема (7, 8, 10 слогов)».
Фактически второй в СССР исследовательской работой о метрическом аспекте поэзии на современном тюркском языке стала статья А. С. Тогуй-оола «Опыт исследования тувинского стихосложения» [Тогуй-оол 1953] (работу Г. А. Шенгели всё же исследовательской в полном смысле назвать нельзя, это скорее проспект будущего исследования). В [Донгак 1999] раскрывается биографический контекст этой публикации: она подготовлена студентом ЛГУ под руководством В. М. Наделяева12. В ней снова ставится проблема системы стихосложения и вводится концепция нового типа стихосложения – ударно-временного. В качестве аргумента против силлабики приводится неравносложность строк в отдельных текстах, хотя «катрен, предложенный для анализа А. С. Тогуй-оолом, тоже может быть рассмотрен как равносложный: в данном случае происходит чередование восьмисложных и семисложных строк: 8–7-7–8» [Донгак 1999: 6].
Диссертация Ф. Сеидова [Сеидов 1955] вводит в оборот тюркскую терминологию, обозначая силлабический стих как хеджа (стр. 5), именно он был основой азербайджанского стихосложения (стр. 13). Дореволюционная силлабическая система была ограничена всего двумя размерами – 8- и 11-сложниками. В дальнейшем азербайджанский метрический репертуар пополнился более длинными 14-, 15- и 16-сложными размерами (стр. 14). Что касается аруза, то, по данным автора, из 19 его форм в азербайджанской поэзии употребляется только 12 (стр. 14). При этом диссертант обращает внимание на несправедливую, но устойчивую репутацию аруза как «реакционного», а хеджа – как «революционного» стихосложения (стр. 15).
Ещё одна диссертация, [Иванов 1958], стала одной из первых работ, описывающих, пожалуй, самый исследованный среди тюркских чувашский стих. Как и многие другие работы по этой теме, диссертация начинается с проблемы определения доминантной для поэтической традиции системы стихосложения. Вопрос этот оказывается дискуссионным, а мнения колеблются в диапазоне от силлабики или тоники до силлабо-тоники (стр. 4). Исследователь предлагает компромиссный вариант: называть фольклорный чувашский стих «силлабо-тонизированным» (стр. 6), а наиболее распространённым размеом – 7-сложник (стр. 8). Современная диссертанту поэтическая практика подразумевает сосуществование силлабики, тоники и силлабо-тоники (стр. 10).
2.1.3. 1960-е
В 1960-е годы тема тюркского стихосложения вошла в круг легитимных научных исследований, про стих пишут монографии и диссертации, затрагивающие широкий спектр частных вопросов. Не в последнюю очередь этому способствовал авторитет академика В. М. Жирмунского, посвятившего несколько работ метрике средневековых текстов на тюркских языках [Жирмунский 1964], [Жирмунский 1968а]. Вслед за ним исследователи стали применять инструментарий стиховедения к национальным языкам и традициям. Исследователь более позднего периода констатирует: «тюркское стиховедение наибольший расцвет получило в 60-е годы» [Тобуроков 1991б: 4].
На статус обобщающей монографии своего времени претендует книга М. К. Хамраева «Основы тюркского стихосложения» [Хамраев 1963]. После краткого экскурса в историю тюркских средневековых литератур (со специальным вниманием к уйгурской традиции) автор обращается к всестороннему описанию проблематики рифмы в тюркской поэзии. Так, отмечается, что «академик Радлов, исходя из фонетических и грамматических особенностей тюркских языков и основываясь на древних источниках, доказал, что начальные рифмы (анафоры) являются древнейшими формами в организации стиха в этих языках» (стр. 35). Возможным следствием этого стала распространённость анафоричности и внутренней рифмы в современных тюркских поэтических традициях (в том числе башкирской). Говоря о синхронном состоянии рифмы, автор обращает внимание на её отношения с морфологией: для тюркских рифменных пар оказывается важным, созвучны в словах корни, аффиксы или все морфемные единицы. М. К. Хамраев не избегает и прескриптивности: «При использовании аффиксальной рифмы нашим литераторам следует помнить, что аффиксы, совпадая между собой фонетически, с морфологической точки зрения должны быть совершенно разными» (стр. 39).
Тюркский силлабический стих именуется «бармак хисабы» (стр. 48), пальцевый счет’, он существует в уйгурской поэзии наравне с арузом (квантитативной метрической системой, в данном случае речь идёт о тюркской адаптации арабского стихосложения, см. подробнее § 4.1), но «некоторые литературоведы считают, что уйгурская поэзия имеет … еще и третий метр, так называемый “чачма шеир”, т. е. свободный стих» (стр. 90). Впрочем, сам автор отрицает его наличие, объявляя его одним из видов бармака. М. К. Хамраев подчёркивает строгий изосиллабизм уйгурского силлабического стиха, а наиболее распространёнными считает 7-, 8- и 11-сложники (стр. 107). Представлению о последовательной равносложности строк как об основе бармака несколько противоречит оговорка о существовании стихов, написанных смешанными размерами (то есть чередованием, например, 7- и 8-сложника, стр. 107).
В работе есть также и наблюдения над семантикой стиха: «Как правило, стихотворения легкого жанра, например, шутки, загадки, детские стихи, – это 5-сложники, т. е. короткие стихи. И наборот, произведения эпического жанра, как правило, написаны десяти-, одинндадцати-, тринадцатисложной и более стопой» (стр. 107). Последняя часть книги посвящена наблюдениям над строфикой уйгурской поэзии и её сопоставлению с твёрдыми формами классической восточной лирики.
Узбекской литературной реализации силлабической системы посвящена диссертация У. Туйчиева [Туйчиев 1963]. Судя по приводимому автором материалу, в нем нашли отражение изосиллабичные произведения, отличающиеся регулярностью словоразделов. Отделённые друг от друга словоразделом части строки называются «тураки» (стр. 10 11), их длина, по наблюдению исследователя, может составлять от одного до восьми слогов (стр. 11). Другие важные термины работы – вазн (размер) и туркум, то есть «определенная совокупность вазнов, одинаковых по своему размеру то есть по длине в слогах – Б. О., но различных в отношении порядка расположения тураков» (стр. 16).
Объёмная монография З. А. Ахметова [Ахметов 1964] с исключительной подробностью описывает различные аспекты казахского стихосложения. Автор делает замечания как по общим вопросам («в поэзии многих тюркоязычных народов, в том числе в казахском стихе, принцип изосиллабизма не ограничивается лишь установлением общей соизмеримости стихотворных строк друг с другом», стр. 25), так и по частным («переход от ритмической группы с большим числом слогов к группе с меньшим числом слогов при прочих равных условиях способствует легкости, подвижности стиха, создает убыстренный ритм», стр. 82). Много места посвящается вопросу возможной тонизации казахского стиха, соотношению ритмических групп внутри строки, казахской рифме и строфике. Заслуживает внимания замечание, что «чтобы рифма в казахском стихе – Б. О. воспринималась как точная, она должна иметь достаточный слоговой объем: в равносложных словах охватывать все слоги, а в неравносложных – не меньше того числа слогов, которые имеет самое короткое из рифмующихся слов» (стр. 139).
Минуя обширную главу о народном стихе (в ней обращает на себя внимание важное для нашего исследования указание на распространённость чередования 7- и 8-сложников), упомянём о части, посвящённой стихотворным новациям в творчестве Абая. В частности, З. А. Ахметов отмечает, что «Абай пользовался исключительно тем излюбленным в казахской народной поэзии вариантом этого размера 11-сложника – Б. О., в котором каждый стих имеет четырёхслоговое окончание. Другой вариант этого размера с окончанием в три слога стал широко применяться в поэзии только в советскую эпоху» (стр. 312). Это внимание к дифференциации вариантов силлабических размеров по длине последней ритмической группы представляется нам особенно важным, далее мы посвятим этому специальное место (см. § 6.4.2 и др.). Здесь же автор говорит о принципиальном отказе от изосиллабизма в поэзии Абая, который сочетает в одном тексте не просто метры разной длины, но и метры, отличающиеся друг от друга более чем на один слог (стр. 348). З. А. Ахметов касается также и вопросов метрики современной ему казахской поэзии, в которой активно создавались произведения, использующие 11-сложник, один из самых употребительных размеров фольклорного творчества (стр. 383).
Монография, созданная на якутском материале [Васильев 1965], представляет нам модельную структуру работы того времени о национальном стихосложении в поэзии одного из тюркских народов. Первая часть книги посвящена фольклорному стиху, во второй автор обращается к письменному творчеству советского периода. В разделе о народной поэзии упоминается, что наиболее распространённым размером силлабического стиха является 7-сложник (наряду с силлабикой тут распространён тонический аллитерационный стих). Следующий раздел посвящён литературным поэтическим формам, которые в течение XX века претерпели эволюцию от аллитерационной (тонической) системы к силлабической. Описывая ситуацию 1920-х годов, исследователь говорит, что «излюбленным, наиболее распространённым размером в текстах новых песен был традиционный семисложник – размер плясовых “оуохай”» (стр. 75). Г. М. Васильев утверждает, что «разработка и внедрение силлабического стихосложения в якутской поэзии связана, в первую очередь, с именем основоположника якутской советской литературы П. А. Ойунского» (стр. 82), при этом появление рифмы в якутской поэзии уже во многом связано с развитием силлабики (стр. 102). Более частное, но весьма любопытное замечание связано с тем, что «трехсложная лексическая единица является как бы основной ритмической единицей силлабического стиха Ойунского, а шестисложник, состоящий из двух таких ритмических единиц – основной стиховой формой его лирической поэзии» (стр. 85). Общий вывод автора в том, что «главенствующее положение в современной якутской поэзии занимает рифмованный силлабический стих» (стр. 115116).
Обзорная статья о хакасском стихе [Трояков 1964] содержит самые общие сведения о своем предмете, данные с позиции стопной теории. Главным препятствием для рассмотрения силлабического стиха как самостоятельной системы, отвлеченной от силлабо-тоники и стпности, является представление о равносложии как обязательном свойстве силлабики: «Конечно, можно в хакасской поэзии встретить стихи с одинаковым количеством слогов, но столько же строк можно найти и неравносложных» (стр. 34).
Докторская диссертация о киргизском стихосложении [Рысалиев 1965] отталкивается от ставшего в большой мере традиционным вопроса о природе тюркского стиха. Историографический обзор вскрывает для нас происхождение этой проблемы: утверждение силлабического характера тюркской поэтической традиции восходит к трудам академика В. Радлова (1866, 1884, 1870). Ф. Корш выдвинул иную точку зрения (1909), которая была затем поддержана Т. Ковальским (1921). Она заключается в утверждении силлабо-тонического принципа как главенствующего в тюркских литературах. Диссертант останавливается на мнении о силлабичности киргизского стиха. Опираясь на авторитет В. Радлова, К. Рысалиев касается вопросов цезуры и ритмического ударения в тюркском стихе вообще, местами дополняя это киргизским материалом. Автор постулирует наличие в киргизском метрическом репертуаре наличие тринадцати размеров от 4-сложного до 16-сложного (стр. 38). В диссертации также указывается на необязательность равносложности строк рассматриваемой поэтической традиции (стр. 38).
4-сложник всегда состоит из ритмических частей 2+2 и «чаще всего употребляется в стихах для детей» (стр. 39). 5-сложник с разновидностями 3+2 и 2+3 называется общетюркской стиховой формой, при этом киргизские поэты употребляют эти разновидности в чередовании друг с другом (стр. 39). 6-сложник также используется в стихах для детей (стр. 40). «Семисложник – размер традиционный, наиболее часто встречаемый в устной и письменной поэзии всех тюркоязычных народов» (стр. 41). 8-сложник не засвидетельствован для устной поэзии, а в письменной появляется сравнительно поздно. В отдельный размер выделено сочетание семи- и восьмисложных строк (стр. 45), при этом со ссылкой на В. Виноградова утверждается, что в этом размере сложены 90 % киргизских народных песен всех жанров, поэтому он имеет специальное упоминаемое у В. Радлова наименование – ыр («песня»).
К. Рысалиев пишет также о неодинаковом распространении 9-сложника у разных тюркских народов: «В киргизской устной поэзии девятисложник не употреблялся» (стр. 46). Основные разновидности этого размера, по наблюдениям автора, в киргизской письменной поэзии следующие: 3+3+3, 3+2+4, 4+2+3 (последние две названы «обычными», стр. 47). «Видное место в поэзии почти всех тюркоязычных народов занимает одиннадцатисложный размер» (стр. 50), который всё же мало распространён в киргизской поэзии и имеет репутацию заимствованного из казахской (стр. 51). 12- и 13- и 14-сложный размеры в устной киргизской поэзии отсутствуют (стр. 54, 56), хотя используются в письменных практиках. 16-сложник обнаруживается только в переводных текстах. Существенная часть работы посвящена киргизской рифме.
Материалом для диссертации С. Х. Алиева [Алиев 1966] послужила азербайджанская поэзия до начала XX века. Исследователь говорит о том, что силлабика в описываемой им традиции имеет терминологическое обозначение «хеджа» (стр. 9), она присутствовала в азербайджанской лирике начиная с XIV в. Но главной системой стихосложения всё же была квантитативная, при этом «автор доказывает …, что размер аруз не является чуждым нашему азербайджанскому – Б. О. языку и наш язык, как показывает история поэзии, довольно богат и эластичен для применения в нем арабского размера» (стр. 12), что, конечно, не вполне традиционная точка зрения на соотношение системы аруза и тюркских языков. Так, С. Х. Алиев сам упоминает, что «отношение между закрытыми и открытыми слогами в системе аруз около 2:1. А в азербайджанском языке закрытые слоги, в среднем составляют около 3040 % против 7060 % открытых, т. е., 1:2» (стр. 21). Силлабика использовалась в фольклорной поэзии, где была распространена жанровая форма «гошма», состоявшая из 11-сложников, содержавших либо цезуру после шестого слога (6+5), либо два регулярных словораздела после четвёртого и восьмого слога (4+4+3) (стр. 29). Силлабика стала доминирующей системой азербайджанского стиха после 1917-го года (стр. 32). Тем не менее исследователь обнаруживает и витальность аруза даже в условиях советской поэтической культуры: «Вместе с силлабикой, в некоторой степени используется аруз, особенно в классических формах. В азербайджанской поэзии, особенно за последние 10 лет усиливается распространение третьей поэтической метрики – вольный стих» (стр. 32). В автореферате это не поясняется, но в контексте науки о тюркском стихосложении «вольный стих» чаще всего означает неравносложный силлабический стих.
Ещё одна диссертация [Атдаев 1966], на этот раз о туркменском стихе, отмечает его слоговой характер (богун лчеги) для фольклорных текстов, классической и современной поэзии (стр. 9), при этом автор настаивает на равносложности стихотворных строк (стр. 12). Одна из глав работы посвящена туркменскому варианту тюркского аруза, а ещё одна – туркменской рифме, при этом отмечается: «Характерная особенность туркменской рифмы состоит в том, что она является сложной и глубокой, охватывая не только окончание, но и основу слова» (стр. 21).
Объемный монографический труд об азербайджанском арузе [Джафар 1968] содержит много сведений о технических аспектах реализации этой системы стихосложения на арабской, персидской и тюркской почве. Специально отмечается, что «из всех размеров аруза хафиф наиболее близок к национальной, то есть силлабической метрике азербайджанской поэзии» (стр. 135). Наиболее ценными представляются подсчеты употребления разных размеров аруза в творчестве поэта второй половины XIX века Сейид Азима Ширвани, у которого из 915 стихотворений 263 написаны метром рамал, 202 хазадж, 138 хафиф, 119 музари’, 89 муджтасс, 5 сари, 3 мунасарих, 2 раджаз, 1 мутакариб (стр. 176). Из наблюдений над современной ему ситуацией автор делает вывод, что «хотя аруз постепенно и уступает свое первое место силлабическим и вольным размерам в азербайджанской поэзии, однако у отдельных поэтов он занимает первое место и сегодня» (стр. 187).
В диссертации Р. Реджепова, посвященной широким вопросам сущности поэзии [Реджепов 1969], теме стихосложения отведен только небольшой раздел (стр. 4961). В нем отмечается, что туркменский поэтический текст состоит главным образом из односложных и двусложных слов. Трехсложные и четырехсложные слова появлялись в стихах редко, преимущественно как глагольные формы, которые, по мнению автора, «в языке поэзии и песни малоупотребительны» (стр. 56). Самым распространенным метром туркменского стихосложения объявляется 11-сложник (стр. 57), значительно распространен также 14-сложник (стр. 59). Отдельное внимание автор посвящает ритмическим разновидностям силлабических размеров. Так, утверждается, что в древности 11-сложник представлял собой канонизированную форму 2+2+3+2+2 (стр. 57), но с течением времени стали возможны и иные его репрезентации: 4+3+4, 4+4+3, 3+4+4 или 3+3+3+2 (стр. 58).
Ещё одна обобщающая монография М. К. Хамраева [Хамраев 1969] начинается со своего рода карты распределения систем стихосложения среди тюркских этносов: «Одни тюркоязычные народы – якуты, хакасы – сохранили древнейшую форму стиха, так называемый тюрко-монгольский аллитерационный стих, то другие народы – казахи и киргизы – в качестве ведущего метра используют бармак, т. е. силлабическое стихосложение; в письменной же поэзии уйгуров, узбеков и азербайджанцев преобладает аруз» (стр. 4). В то же время на стр. 58 мы видим уже другое утверждение: «В поэзии всех без исключения тюркоязычных народов, как подвергшихся влиянию ислама, так и не подвергшихся ему, бар-мак – господствующий метр». Возможно, автор в последнем случае имел в виду исключительно фольклорное стихосложение. По крайней мере, так заставляет думать ещё одно замечание на эту тему: «Если аруз присущ поэзии только нескольких, причем не составляющих большинства, тюркоязычных народов, то бармак – система, господствующая в фольклоре всех без исключения тюркоязычных народов» (стр. 65). Арузу посвящён первый раздел книги, приводятся и подробн описываются разновидности метров аруза, упоминаются примеры тюркской адаптации арабской метрики. Всё же «основным метром стихосложения» у тюрок объявляется «бармак» (как он назван в уйгурской и узбекской традициях) или «хеджа» (азербайджанский термин), то есть силлабический стих. В обоих случаях слова этимологизируются со значением «палец». Некоторое место в книге уделено определению понятий тюркского стихосложения. Выделяются такие важные термины, как «турак» (ритмическая группа), «вазн» (вариант строки с определённой конфигурацией словоразделов), «туркум» (силлабический метр). «Следует заметить, что в казахском стихе туркум, по свидетельству акад. С. Муканова, не превышает одиннадцати-двенадцати слогов» (стр. 94). Отдельный раздел посвящён «чачма шеир», т. е. тюркскому свободному стиху, который характеризуется «произвольным количеством слогов в каждой стихотворной строке» (стр. 101). В специальной главе утверждается, что «современная письменная поэзия тюркоязычных народов, как правило, использует постоянную конечную рифму. Белые стихи, в том понимании, какое вкладывается в них, например, в русской поэзии, чужды тюркоязычной литературе» (стр. 122). Автор говорит, что созвучия аффиксов в тюркской рифменной паре недостаточно, должны быть созвучны и предшествующие им корневые морфемы (стр. 142). «Особенностью восточной поэзии вообще … является наличие в ней редифа, т. е. своеобразного припева, который регулярно повторяется в большинстве случаев вслед за рифмой, но иногда и перед ней, в середине строки» (стр. 150).
2.1.4. 1970-е
1970-е годы стали временем спада интереса к вопросам стихосложения в тюркских языках. Мы находим лишь ряд эпизодических исследований, в которых не наблюдается ощутимой тенденции внимания к темам или методам.
В диссертации об алтайском стихосложении [Каташев 1972] обращается внимание на то, что наличие долгих и кратких гласных в алтайском языке не привело к становлению квантитативного стихосложения (стр. 3). Автор уделяет внимание проблеме стихотворного ритма силлабической строки, главными определителями которого выступают ритмические части и постоянные словоразделы (стр. 5). «Наиболее распространены в алтайской устной и письменной поэзии семи- и восьмисложные размеры …. Девяти-, десяти-, одиннадцати- и двенадцатисложные размеры встречаются так же часто, но не в такой степени, как семи- и восьмисложники» (стр. 7). Кроме того, указывается на новации в виде появления 13- и 14-сложников, которые не получили широкого распространения (стр. 7). Двустишия и четверостишия называются самыми популярными формами строфы у алтайцев (стр. 13), а в устной поэзии встречается элизия гласных (стр. 20), меняющая слоговую длину строки.
М. И. Алиев [Алиев 1976], опираясь на длинный ряд имён, подчёркивает, что основой народного стихосложения является силлабическая система (стр. 4), в которой он усматривает строки длиной от двух до семнадцати слогов (стр. 56), при этом «большинство лирических песен созданы в 7-ми, 8-ми и 11-тисложном виде» (стр. 12).
Диссертация Е. А. Утешевой [Утешева 1979] подходит к проблеме казахского стихосложения с фонетическим инструментарием, при этом взгляд на тюркскую метрику здесь довольно традиционный: «Метрическая система казахского народного стиха основывается на силлабике, т. е. ритмическая организация стиха неразрывно связана с равносложностью строк и совпадением словоразделов, делящих стих на равное количество частей» (стр. 10). Исследование показало, что 6-сложник характеризуется как эмоционально-нейтральный метр (стр. 19), 8-сложник – как слабо эмоциональный (стр. 21), а 11-сложник – как эмоционально окрашенный (стр. 22). Любопытным представляется, что «ударение как компонент интонации в казахском стихе не фиксировано. Оно не всегда падает на последний слог» (cтр. 25).
2.1.5. 1980-е
В 1980-х учёные вновь вернулись к исследованию тюркского стихосложения, но сделали это уже на обновлённом теоретическом фундаменте, включавшем квантитативные методы описания.
В учебном пособии [Родионов 1980], обобщающем знания о фольклорном стихе, отмечается, что «чувашское стиховедение выделилось в раздел литературоведческой науки в 5060-е годы» (стр. 4). Исторически упор делался на изучение ключевых аспектов силлабо-тонической организации фольклорного материала. Автор обращает внимание на то, что устная поэзия тюркоязычных народов генетически родственна (стр. 12), при этом рассматривает метрическую систему чувашей как силлабо-тоническую, но для её характеристики пользуется терминами силлабики: «поэтические жанры … делятся на строящиеся при помощи многосложника (11 слогов) и короткосложника (78 слогов)» (стр. 13). Автор останавливается на теоретическом описании аллитерационного стиха, находит его наследство в зафиксированном чувашском фольклоре. Отдельные явления описываются количественно: «Строгая трехстрофная организация больше всего встречается в заговорах с простым двучленным параллелизмом (75 %)» (стр. 28).
Диссертация о туркменской поэзии [Бекмурадов 1980] почти целиком посвящена строфике, хотя некоторые отрывочные упоминания о метрике здесь тоже встречаются. Автор говорит о господстве в дореволюционной стихотворной речи двустрочной строфы, объединяющей 11-сложные строки, и именно эту форму унаследовала из того времени туркменская советская поэзия (стр. 3). К тому же дооктябрьскому периоду относится и расцвет технически сложной строфической формы мурабба, которая постепенно теряет популярность (стр. 4). Указывается на популярность холостой рифмовки в современной туркменской лирике (стр. 8) и на 1920-е как на время особенно частого обращения поэтов к 6-сложным размерам (стр. 14). Благодаря поиску новых форм в 1960-е в туркменской поэзии появляются венок сонетов и онегинская строфа (стр. 1618).
Материалы о турецкой метрике в целом отрывочны и малодоступны. В какой-то мере описан турецкий аруз [Kprl 1965], но чрезвычайно скудны сведения о турецкой силлабике. В монографии, описывающей современную автору турецкую поэзию [Меликов 1980], говорится, что в ситуации господствующего аруза поэты, объединившиеся в особую художественную группу хеджеистов («хеджеджиллер», стр. 5), вслед за практикой, введенной Мехмедом Эмином (18691944), начали использовать в своих стихах именуемый в Турции «хедже» силлабический принцип (стр. 4).
В исследовании, в целом посвященном частному вопросу взаимоотношения народных песенных форм и поэзии туркменского классика Махтумкули [Абдуллаев 1983], делаются важные обобщения, касающиеся метрики туркменского стиха в целом. Автор критикует работу «Стихотворная техника Махтум-Кули» А. П. Поцелуевского13: «Утверждение автора А. П. Поцелуевского – Б. О. о том, что стихи Махтумкули создавал силлабо-тонические стихи, не совсем верно, так как данная метрика не соответствует фонетическому строю туркменского языка» (стр. 5). Говоря о рифме, Д. Абдуллаев отрицает возможность появления в туркменской поэзии женских, дактилических и гипердактилических видов рифмы, «поскольку для туркменского языка не свойственны ударения на отдельные слоги, как в русском языке» (стр. 6). Автор монографии считает невозможным появление и мужской рифмы в туркменском стихе, что, очевидно, следует понимать как обессмысливание термина «мужская рифма» в отсутствие противопоставления с другими типами клаузулы. Как мы видим, для туркменской рефлексии над метрикой такой же болезненной, как и для многих других тюркских традиций, была проблема отмежевания от силлабо-тонического стихосложения. Поэтому в работе Д. Абдуллаева мы неизбежно встречаем следующее утверждение: «Как и у всех тюркских народов, и в фольклоре, и в письменной литературе у туркмен издавна бытует силлабический стих, наиболее отвечающий природе туркменского языка. Это подтверждается работами литературоведов, исследовавших технику туркменского стихосложения» (стр. 10). С исторической точки зрения временем активного распространения силлабического стиха в туркменской литературе стал XVIII в., когда на волне распространенных идей независимости и самобытности к силлабикеобратились Махтумкули, Андалиб, Шабенде, Шейдайи, Магрупи (стр. 15), до этого времени в туркменской поэзии господствовал аруз (стр. 25). Среди прочего автор отмечает, что «восьми- и одиннадцатисложник составляют подавляющее большинство стихов среди песен туркменского народного творчества» (стр. 21). Из 676 стихотворений Махтумкули «семисложные – 46; восьмисложные – 158; одиннадцатисложные – 370; четырнадцатисложные – 47; пятнадцатисложные – 38; шестнадцатисложные – 15 и полиметрические – 2» (стр. 22). Наряду с этим отмечается, что в письменной литературе были распространены 14-, 15- и 16-сложники (стр. 25). Особое внимание уделено т. н. рифмам эзафетли, «в которых арабские и персидские слова имели тюркские окончания» (стр. 33), их Махтумкули в своей поэтической практике применял гораздо реже, чем другие туркменские поэты.
Известный тюрколог, обратившийся к изучению якутского стиха [Тобуроков 1985], отмечает следующее: «В изучении тюркских стихов после оживления в начале – середине шестидесятых годов наступил как бы период затишья» (стр. 3). При этом его собственные методы уже иные, нежели те, что применялись в середине XX века, Н. Н. Тобуроков, в частности, привлекает экспериментальную фонетику и математическую статистику. Ссылаясь на исследования по теме, автор говорит, что «стихи тюркоязычной поэзии с 5, 6, 7, 8 и большим количеством слогов ритмически и интонационно не одинаковы и дают разнообразные варианты» (стр. 18). Исследователь обнаруживает, что в произведениях отдельных авторов мы находим от 67 % до 87 % текстов, написанных «приблизительно равносложными стихами или с максимальной разницей в один слог» (стр. 25). Отмечается, что тяготение к равносложию характерно для многих поэтов в 5060-х годах XX века. Приведем общий вывод Тобурокова: «Система якутского стихосложения прошла типологически общий со стихоложением других народов путь деканонизации стиха. Строгие формы силлабического стиха почти сразу же стали заменяться приблизительной равносложностью и увеличением числа вариаций и ритмических структур внутри стиха» (стр. 41). Посвящая отдельный параграф ритму, автор производит подсчёты слоговой длины слов в якутских текстах разных жанров и приходит к выводу, что в стихах «увеличивается доля односложных слов … заметно уменьшилась разница доли двусложных и трехсложных слов в поэзии по сравнению с прозой, количество же четырехсложных слов … остается почти на уровне прозы» (стр. 67) и эти изменения свидетельствуют «о приближении лексического состава современной поэзии по процентному соотношению числа разносложных слов к языку художественной прозы» (стр. 68).
В монографии [Шаповалов 1986] приводится стиховедческая периодизация киргизской поэзии. К 1920-м годам относится процесс формирования профессиональной поэзии и ее отделения от фольклора. К этому времени относится освоение 11-сложника типа 4+4+3, в целом традиционного для тюркской поэзии, но почти не употреблявшегося в киргизской стихотворной культуре (стр. 32). В 1930-е «осуществляются первые новаторские попытки реформации поэтической традиции», вызванные в том числе влиянием В. В. Маяковского (стр. 33). В 194050-е годы киргизская метрика вырабатывает систему, отличную от привычных форм народного стиха. Для поэзии 195060-х годов главное определение – это многообразие в том числе и в плане стихосложения (стр. 31). Для периода 19601970-х годов приводятся количественные данные, свидетельствующие, что в киргизском стихе преобладают т. н. «гомоморфные» моно-метрические конструкции, составляющие 90,48 % строк (стр. 39). Сюда же входит и урегулированная полиметрическая конструкция, представляющая собой сочетание 7- и 8-сложников, ее доля – 29,13 % (стр. 41).
Много внимания автор уделяет и вопросам стиховедческой терминологии в применении к тюркским силлабическим традициям. По его мнению, «размерами» уместно называть «метрические типы» строк определенной длины (стр. 59). Например, «киргизский 11-сложник … может трактоваться как размер в полном смысле слова, но только тогда, когда речь идет об отдельных его формах (каждая – размер), а в целом же понятие “11-сложный размер”, очевидно, представляет собой терминологический нонсенс»14 (стр. 47). Большая часть книги посвящена возможности передачи киргизского ритма в переводах на русский язык.
В диссертации об узбекском стихе [Туйчиев 1987] несколько страниц отведено апологии аруза. Исследователь защищает эту систему стихосложения от тех критиков, которые говорят об искажении ею законов языка. Сама идея такого искажения, по мнению автора, восходит к авторитету А. Саади. Важной чертой аруза почему-то называется отсутствие изосиллабизма (стр. 21), хотя стихи, написанные арузом, как раз равносложны.
Говоря о конкретных размерах аруза, автор говорит, что в VI – второй четверти X века чаще других употреблялся раджаз (стр. 27). Среди прочего говорится о формировании новой системы – объединенного бармака и аруза (стр. 33). Немного странно выглядит утверждение, что «татарский и туркменский арузы специально особо не изучались», поскольку к тому времени уже была опубликована посвященная именно татарскому арузу статья [Курбатов 1973].
К концу десятилетия наука о тюркском стихе вышла на такой уровень, что в рамках интересующих ее проблем была написана научно-популярная книга [Хамраев 1988]. Помимо повторения некоторых положений из предыдущих работ автора, в ней говорится о широком распространении в современной уйгурской поэзии 10- и 11-сложника (стр. 60) и редкости 15-сложника (стр. 61), поднимается проблема неравносложия, которое как прием применили в уйгурской поэзии поэты-новаторы У. Мухаммади и Л. Муталлип (стр. 63). Самыми известными формами уйгурского стиха называются 7- и 8-сложник и 10- и 11-сложник (стр. 65). Здесь же упоминаются и башкирские поэтические произведения: «В башкирском стихосложении иногда встречаются ритмические единицы, чередующиеся с математической точностью, например, начало поэмы Р. Нигмати “Буронларда тугилган гумр” (“Жизнь, рожденная бурей”). Этот отрывок написан двустопным анапестом» (стр. 83). Для рифмы приводится тюркский термин «уйкас» (стр. 102). Возможно, что слова про математическую точность – незакавыченная цитата из Г. Б. Хусаинова, см. [Хусаинов 1959: 91].
2.1.6. 1990-е
В 1990-е годы исследования метрических аспектов поэзии на тюркских языках отличаются зрелостью, которой позволили достичь, во-первых, работы предыдущих десятилетий, а во-вторых, набравшая силу наука о русском стихе. Внимание авторов сместилось от метра к ритму силлабики.
Первой работой в этом ряду стала диссертация о творчестве туркменского поэта XVIII века Махтумкули [Бекмурадов 1990]. Хотя в целом работа затрагивает множество аспектов его наследия, некоторое место в ней отводится и характеристике стихосложения (стр. 3748). Диссертант констатирует, что стихотворения в основном для поэта жанре гошука написаны тремя силлабическими метрами: 7-, 8- и 11-сложником (стр. 38). В работе подробно описываются ритмические формы этих метров, отличающиеся местом цезуры. Так, для 8-сложника наблюдается пять типов ритмических форм: 2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2 (стр. 39). Главным размером для Махтумкули постулируется 11-сложник, которым созданы 283 из 433 гошуков (стр. 40). Сообщенные сведения дополняются наблюдениями над рифмой и строфикой.
Книга Н. Н. Тобурокова «Хакасский стих» [Тобуроков 1991] построена как глубокое исследование средствами экспериментальной фонетики ограниченного материала, насчитывающего «семь строф в 59 строк из произведений современных хакасских поэтов и народных песен» (стр. 4). В работе отмечается, что сравнительно изученными можно считать системы стихосложения якутов, алтайцев, тувинцев и хакасов. «У остальных тюркских народов Сибири заметных работ по стихосложению пока ещё нет» (стр. 5). Важной для нашей темы является и замечание, что тюркские литературы Сибири отличаются отсутствием арабо-персидского влияния, то есть эти традиции должны рассматриваться отдельно от тюркских литератур Средней Азии и Поволжья.
Хакасский стих – слоговой по своему характеру, и, следуя сстеме описания тюркского стиха, развитой В. М. Жирмунским (характеризуемой как «стройная»), Н. Н. Тобуроков рассматривает его на общетюркском фоне. Так, рассуждая о вертикальном соответствии ритмических структур в стихе (то есть о последовательности словоделения в строке), автор говорит о том, что такое соответствие характерно для тувинской поэзии, но не для алтайской и хакасской (стр. 6). «Самым плодотворным направлением» в изучении систем стихосложения тюркских народов называется «разработка групп, ритмических структур (слоговых групп, ритмических частей, сочетаний разносложных слов и т. д.) внутри стиха» (cтр. 11).
В рамках этого направления автор сосредотачивается на распределении слов разной длины в строке, отмечает преобладание двусложного и четырехсложного начал в ритме (стр. 35), приводит количественные оценки доли таких слов в поэтических текстах: «односложные составили – 19,3 процента, двусложные – 44,4, трёхсложные – 29,7, четырёхсложные – 5,7, пятисложные – 0,2. Таким образом, активную роль в создании поэтического ритма на хакасском языке играют 1-, 2-, 3-сложные слова (всего 93,4 процента лексики поэзии)» (стр. 36). Там же приводятся сведения о тувинской, алтайской и хакасской поэзии. В первой «значительна доля 2-, 4-сложных слов – всего 79,1 процента, а вместе с односложными они составляют 92,5 процента всего лексического фонда. А в алтайской и хакасской четырёхсложные слова не играют значительной роли (по 4,9 %), зато высок процент односложных (18,1; 19,2 %), и они вместе с 2-, 3-сложными словами дают 94,9 % в алтайской и 93,4 % в хакасской поэзии. В якутской же разница доли 2-, 3-сложных слов оглажена, вместе с 1-, 4-сложными словами они составляют 98,1 %» (стр. 36). Общий вывод, который делает исследователь на основе экспериментально-фонетического изучения записей хакасских поэтических текстов, состоит в том, что «в этой системе стихосложения 7-, 8-сложные стихи чаще всего выступают как ритмическая единица речи в целом. Статистические данные свидетельствуют, что для хакасского многосложного стиха больше всего выделяются 5-, 6-сложные ритмические структуры» (стр. 52). Некоторое место в книге уделено предварительным наблюдениям о хакасской рифме и строфике.
Почти одновременно выходит другая книга того же автора [Тобуроков 1991б]. Она соединяет в себе наблюдения над декламацией стихов с позиций экспериментальной фонетики, пространные рассуждения об идейно-тематическом содержании поэзии народов Севера и собственно стиховедческие положения. К последним относится упоминание, что со временем в тюркском стихе увеличивается число односложных слов (стр. 9). Н. Н. Тобуроков сетует, что «существует очень большое разнообразие терминов внутри самой теории тюркского стихосложения» (стр. 71), и настаивает на внутристрочной «гармонии», то есть поднимает проблему стихотворного ритма в силлабике. По мнению автора, равносложие само по себе еще не создает стиха. Стих появляется только благодаря повторяющимся из строки в строку ритмическим структурам, создаваемым словами определенной длины (стр. 73). Особенную роль в этих структурах Н. Н. Тобуроков отводит двусложным словам: «В якутской поэзии … 2-сложные слова, обладая тенденцией к интонационной самостоятельности, часто дают новый оттенок ритмике строки» (стр. 75).
В предисловии к книге [Родионов 1992] говорится, что она стала итогом двадцатилетней напряженной работы (стр. 3). Ее первая половина отведена описанию фольклорного стиха. Говоря о чувашской литературной метрике, автор подвергает критике поиски элементов аруза в чувашском стихе, демонстрируя системность и регулярность появления открытых слогов в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Парус» (стр. 141). Обобщая исследование чувашского стиха XIX века, В. Г. Родионов утверждает, что «в 3080-е гг. XIX в. в чувашской письменной поэзии утверждаются 7- и 8-сложные стихи … до последней четверти XIX в. в чувашской письменной поэзии господствуют метрические структуры стиха типа 4+3 и 4+4» (стр. 143). «В начале XX в. чувашские поэты пользовались главным образом короткосложником …. Семисложник, имеющийся и в фольклорном метрическом репертуаре всех этнографических групп чувашей, был своеобразным символом консолидации, единения нации» (стр. 146). Позднее стали активнее употребляться и более длинные размеры. Большой раздел монографии посвящён возникновению силлабо-тонического чувашского стиха под влиянием русской поэзии. «Переходу чувашского письменного стиха от силлабики к силлабо-тонике способствовали изменение литературных норм акцентуации и ориентировка на русскую поэзию» (стр. 215).
Работа [Хамраев 1994] акцентирует внимание на уйгурской рифме. Автор противопоставляет древний аллитерационный и более поздний метрический рифменный стих, делая вывод, что «действие законов изосиллабизма снижает роль и функцию аллитерационных повторов» (стр. 11). Изосиллабизм здесь сопоставлен с метрическим стихом, для которого, как следует из текста, не органичны эффекты аллитерационной модели. Что касается собственно рифмы, то, по данным автора, она сильно отличается в стихах, написанных арузом и силлабикой («бармак»): «В силлабическом стихе способы рифмования более свободные и разнообразные» (стр. 20).
В работе Ф. Р. Алиевой [Алиева 1995] отмечается, что карачаево-балкарское стиховедение находится на стадии зарождения (стр. 1). В песенных текстах автор обнаруживает широкий диапазон силлабических размеров – от 3-сложных до 21-сложных. Но, «несмотря на широкую амплитуду колебаний, внутри двустишия почти всегда одинаковое число слогов» (стр. 6). Самыми распространенными размерами называются 7-и 11-сложники (стр. 9). Специальное место в работе посвящается аллитерации, которая присутствует не только анафорически (созвучие начал разных строк), но и горизонтально (стр. 13) и в этом случае «служит дополнительным средством фиксации ритма, т. к. в количественном отношении преобладает в песнях с гетеросиллабическими строфами» (стр. 14).
В работе присутствует обзор карачаево-балкарской песенной рифмы. Традиция практически не дает примеров несозвучных окончаний строк, причем созвучия чаще всего обусловлены единством грамматической формы в конце строки (стр. 18). «В большинстве традиционных жанров глагольная рифма занимает более 50 % конечных созвучий привлеченного … к анализу материала» (стр. 19). При этом клаузула в карачаево-балкарском народно-песенном стихе, как правило, трёхсложная (стр. 9). Автор делает интересные наблюдения и о карачаево-балкарской строфике: чаще всего строфы состоят либо из двух, либо из четырех строк. В двухстрочной строфе господствует изосиллабизм, а четырехстрочные строфы могут включать чередования 8- и 10-сложников, которые занимают соответственно четные и нечетные строки (стр. 25).
Статья Н. Н. Тобурокова [Тобуроков 1995] демонстрирует сравнительные данные рассмотрения алтайских, хакасских и тувинских стихотворных произведений методами экспериментальной фонетики. Несмотря на методологическую спорность такого подхода и проблемы с воспроизводимостью результатов (чтение одних информантов может серьёзно отличаться от чтения других, а все они вместе будут свидетельствовать скорее о произносительных особенностях, нежели об устройстве стихосложения), в работе приводятся ценные данные о частотности слов по количеству слогов в поэзии Сибири (стр. 93). Односложные слова составляют от 14,4 до 18,1 % лексикона алтайских, от 13,4 до 18,8 % тувинских, от 19,2 до 19,4 % хакасских стихотворных текстов; двусложные – от 33,9 до 43,8 % в алтайских, от 60,9 до 67,7 % в тувинских, от 40,8 до 48,1 % в хакасских произведениях; трехсложные – от 33 до 45,2 % алтайских, от 6,3 до 8,9 тувинских, от 26,6 до 31,8 % в хакасских стихотворениях; четырехсложные от 4,9 до 5,9 % в алтайских, от 11,4 до 12,6 % в тувинских, от 4,9 до 6,6 % в хакасских стихах.
Диссертация о балкарском стихосложении [Бауаев 1998] постулирует силлабический принцип в качестве основополагающего для стиха этой традиции (стр. 5). Автор настаивает на изосиллабичности поэтических строк, что позволяет ему выделить диапазон в «двенадцать размеров: от четырехсложного до пятнадцатисложного включительно», что противоречит сведеним, приведенным в предыдущей работе из нашего обзора [Алиева 1995], где была речь и про гетеросиллабичность карачаево-балкарского стиха, и про строки от 3-сложных до 21-сложных. Исследователь говорит о жанровой обусловленности выбора размера в народном творчестве: в эпических жанрах используются строки длиной от 11 до 18 слогов, а «в ийнарах и любовной лирике количество слогов в строках колеблется от семи до одиннадцати» (стр. 6). Определенная семантизация размеров наблюдается и в современной авторской поэтической речи. Отмечается, что размеры длиной от 4 до 6 слогов редкоупотребительны и избираются для произведений, ориентированных на детскую аудиторию. «Наиболее широко распространенными являются семи-, восьми-, девяти- и одиннадцатисложные размеры, встречающиеся в произведениях самых разных жанров». Кроме того, автор обращает внимание на смешанные семи-восьмисложные размеры. Рифма в диссертации рассматривается в эволюционном аспекте – от простых случаев с грамматической рифмовкой к более утонченным правилам рифмовки, при этом сама литературная эволюция напрямую связывается с повышением уровня жизни горцев (стр. 7). Автор также утверждает, что в балкарской поэзии набирают популярность строфические формы арабо-персидского аруза (стр. 17), но не метрика аруза.
В вышедшей одновременно с диссертацией монографии «Основы балкарского стихосложения» [Бауаев 1999] К. К. Бауаев повторяет основные теоретические положения своей квалификационной работы.
Диссертационное исследование У. А. Донгак «Тувинское стихосложение» [Донгак 1999] обобщает наблюдения как над фольклорным, так и над литературным тувинским стихом. Здесь предпринимается попытка классификации тувинского народного стиха на равносложный, относительно равносложный и неравносложный. Первые два составляют более 90 % всех проанализированных произведений (стр. 37). Любопытно, что отклонение от равносложия происходит в строках с участием имен собственных или редких 5-сложных слов (стр. 33). Некоторые фольклорные жанры используют межслоговой сингармонизм как элемент выразительности, это проявляет себя в том, что к гармонии гласных стремится не только одно слово, но вся стихотворная строка целиком (стр. 39). «Принципы народного стихосложения были заимствованы профессиональными поэтами 1930-х годов. В этот период с созданием новой письменности и под влиянием больших социально-экономических, политических, культурных изменений в тувинском обществе началось увлечение поэзией и массовое сложение песен-стихов» (стр. 58). Автор подчеркивает силлабический характер тувинского литературного стиха (стр. 64), ритм которого «создается благодаря использованию слов с определенным количеством слогов» (стр. 68). В работе есть ценные количественные данные: «Помимо распространенных восьмисложников и двенадцатисложников современными поэтами используется часто смешанный размер (8–12, 7–8, 11–12, 10–11, 4–8, 4–12), четырехсложник, шестисложник, семисложник и другие размеры» (стр. 73), при этом известно, что самый популярный размер – это 8-сложник, его доля составляет от 32 до 75 % строк, а доля 12-сложника – от 22 до 38 % (стр. 157). Отмечается, что конечная рифма не слишком распространена как в тувинском фольклоре, так и в современной авторской поэзии. Созвучие в конце стиха может быть, например, побочным следствием синтаксического параллелизма (стр. 94), но в целом является вспомогательным элементом звуковой организации (стр. 99). «Массовый читатель ещё не привык к ней, и у него не возникает чувства ожидания ее» (стр. 102). Заменой рифмы в тувинской поэзии является аллитерация (начальная рифма).
Коснёмся и нескольких исследований, выходящих за обозначенные хронологические рамки XX века.
В диссертации [Владимирова 2004] ставится задача углубленного изучения вопроса об эволюции чувашского стиха в сторону силлабо-тоники. Рассказывается о предпосылках появления этой системы стихосложения в чувашской поэтической практике, но упоминается и о возможности разных интерпретаций стиха: «Стихи с чисто чувашской лексикой, написанные силлабо-тоникой, можно читать и силлабикой» (стр. 11). Интернациональная лексика, заимствованная чувашским языком из русского в советский период, сохраняла свой фонетический облик, что влияло и на звуковой строй стиха, в нем стали проявляться свойства, характерные для русского языка, прежде всего связанные с ударностью слогов. Большое место в диссертации посвящено специфике чувашской рифмы и строфики, исследователь обращает внимание на те особенности этих явлений, которые не могут быть описаны русским стиховедением в силу различий в устройстве языков. В частности, для чувашской рифмы особенное значение имеет категориальная морфологическая отнесенность формы рифмующегося слова. Уделено внимание и творчеству Г. Айги, который, «избежав влияния классики, в чувашской поэзии возрождает размер белого стиха, у истоков которого стоял М. Сеспель» (стр. 19).
В диссертации [Шутина 2006] вопросам стихосложения отведено подчиненное место. Здесь не рассматриваются вопросы алтайской метрики, внимание исследователя сосредоточено на рифме и соотнесении этого понятия с аллитерацией в традиционном тюркском стихе.
Работа [Михуткина 2009] посвящена чувашскому верлибру, поставленному в контекст литературного процесса. Свободный стих как нетрадиционная поэтическая форма чувашской лирики переживает становление в 19701990-е гг. (стр. 12). Выделяется несколько подтипов чувашского верлибра, описывается его строфическая организация.
В книге К. Г. Аллахярова [Аллахяров 2011] сделан основательный экскурс в прошлое тюркской поэзии, затрагивающий и архаическую эпоху, и этап становления тюркского стиха в условиях мусульманского мира под влиянием арабо-персидской поэтики (первым памятником этого рода считается поэма «Кутадгу Билиг» Юсуфа Хас Хаджиба Баласагуни, 1069 г., стр. 116). Обращаясь к собственно азербайджанской народной поэзии, автор отмечает, что «по счету слогов в песнях они насчитывают от 5 до 15 слогов, но чаще всего встречаются размеры в 7, 8, 10, 11, 12 и 14 слогов. … Среди размеров азербайджанских песенно-поэтических произведений после семисложника наиболее распространенным являются восьми-и одиннадцатисложные стихи» (стр. 102). Исследователь посвящает специальное место нарушению принципа равносложия в фольклорных произведениях: «Стихи некоторых песен отличаются широким варьированием числа слогов даже в пределах одной строки» (стр. 104). В одном из случаев К. Г. Аллахяров объясняет нарушение тем, что «слоговой объем строк настолько длинен, что читательскому восприятию очень трудно уловить их неравносложность» (стр. 105). Заметим, что такое объяснение прямо противоречит принципу силлабизма, то есть лежащему в основе силлабической системы стихосложения правилу счета слогов и учета длины строки в слогах. Иными словами, если в какой-то момент строка становится настолько длинной, что реципиент не в силах подсчитать в ней слоги, сам принцип силлабизма нивелируется, а силлабическая система ставится под сомнение. Упадок аруза в азербайджанском стихе исследователь относит к началу XX века, при этом он протестует против тезиса о том, что причиной этого упадка стало несоответствие «аруза свойствам тюркских языков» (стр. 163), аргументируя свою точку зрения соображениями о напевности и мелодичности поэтической речи.
2.2. Стиховедческие исследования поэзии на поволжско-кыпчакских языках
Насколько обширна библиография научных работ о тюркской поэзии, затрагивающая главным образом вопросы содержания и биографического контекста, настолько же ограничен список исследований, посвященных именно вопросам стихосложения в тюркских литературах Поволжского региона (к ним нужно отнести прежде всего башкирскую и татарскую). Отчасти это объясняется уже упомянутым «тяготением» лингвостиховедческих методов к изучению русской поэтической традиции, хотя в последнее время все чаще появляются использующие стиховедческую методологическую базу труды на материале других языков15.
Специальных текстов о башкирском стихе исчезающе мало, так что мы привлекли к обзору и те иследования, в которых авторы затрагивают вопросы стихосложения татарской традиции, исторически и географически башкирам наиболее близкой. До сих пор татарский и башкирский языки остаются взаимопонятными, а значительные авторы, как уже упоминалось, зачастую считаются представителями обеих литератур (кроме Акмуллы и Шайхзады Бабича в этом ряду может быть упомянут Мажит Гафури). Кроме того, в трудах и татарских, и башкирских специалистов постоянно встречаются перекрёстные отсылки к текстам друг друга. Но всё же в обзор включены только работы, использующие поэтический материал XX века. Такая оговорка нужна, потому что вокруг стиховедческой проблематики средневековых тюркских текстов, которым наследует литература на тюрки16, сложилась своя научная традиция, сравнительно далёкая от поэтики национальных литератур XX века, см., например, [Якобсон 1923], [Стеблева 1963], [Стеблева 1970], [Стеблева 1971], [Жирмунский 1968а], [Хайитметов 1972], [Усманов 1984]. Литература о тюркском народном стихе также достаточно объёмна [Жирмунский 1964], [Жирмунский 1968б], но имеет так же мало пересечений с интересующей нас проблематикой.
2.2.1. У истоков татарского стиховедения
Первой по времени из требующих специального упоминания трудов следует книга польского ученого Тадеуша Ковальского «Из исследований поэтической формы тюркских народов» [Kowalski 1921]. В разделах «Народная поэзия казанских татар», «Ритмический строй стиха казанских татар», «Ритмический строй строф в песнях казанских татар» (стр. 102110) автор описывает двухчастную композицию татарских четверостиший, основанную на приёме психологического параллелизма (стр. 104105), указывает, что в доступных ему материалах (это записи фольклорных текстов) длина строки составляет от семи до одиннадцати слогов, что в целом повторяет метрический репертуар османской поэзии, за исключением имеющихся в последней длинных размеров от 12 до 15 слогов (стр. 106). Т. Ковальский подробно описывает все экземпляры метров от 7- до 11-сложника, специально останавливаясь на ритмических вариантах каждого метра. Так, для 7-сложника он обнаруживает два вида строки: 4+3 и 3+4 (то есть стихи, в которых цезура находится после четвёртого или третьего слога соответственно), а 8-сложник существует в трёх разновидностях: 4+4, (3+2)+317, (2+3)+3 (стр. 106107).
Польский исследователь замечает, что практически не встречающийся в османской поэзии 9-сложник является едва ли не самым частотным у казанских татар, где фигурирует в четырёх разновидностях: 6+3, (3+3)+3, (3+2)+4, (2+3)+4. Появление десяти- и одиннадцатисложных метров охарактеризовано как спорадическое, но для каждого из них также приведены ритмические варианты: 5+(2+3), 5+(3+2), (2+3)+(3+2), 4+3+3, (3+3)+4, 6+4 и 6+5, 5+6 (стр. 107108). При этом распределение ударений в десятисложной строке создаёт правильный ямбический ритм (стр. 108).
Всё описанное Т. Ковальский находит аналогичным ситуации, сложившейся в османской метрике, за незначительными исключениями, среди которых числится частотное трёхсложное окончание строки, встречающееся в 80 % обследованных строк (стр. 108).
В книге содержится также ряд ценных наблюдений над строфикой. Прежде всего, отмечается превалирование четырёхстрочных строф. «Т. н. йырлар складываются из четырёх стихов, преимущественно девятисложных, а бйетлр из четырёхстрочных строф, в которые входят преимущественно семисложники.
Строфы не должны складываться из стихов одного вида. Напротив, в одной и той же строфе встречаются, например, девяти- и восьмисложники или восьми- и семисложники» (стр. 108, перевод наш – Б. О.).
В параграфе, посвящённом рифме (стр. 110118), Т. Ковальский отмечает тенденцию замены подбора рифмующихся слов на повторяющиеся речевые обороты. Учёный обращает внимание на грамматическую рифму, а неграмматические рифменные пары находит крайне редкими (стр. 111).
Как мы увидим из дальнейшего изложения, Т. Ковальскому удалось заметить и описать на татарском фольклорном материале многие тенденции, которые будут определяющими уже для башкирского литературного стиха в XX веке.
2.2.2. Основополагающий труд о башкирском стихосложении
Важной вехой для башкирского стиховедения стала статья Г. Б. Хусаинова «К вопросу о башкирском стихосложении» [Хусаинов 1959]. В этой работе, отчасти выдержанной в полемическом ключе, автор решительно отвергает попытки механического переноса формул «русского стихосложения на башкирскую почву» (стр. 85) и постулирует силлабический характер башкирского стиха (стр. 86).
Принимая во внимание тесную связь просодической структуры слова и особенностей стиха, Г. Б. Хусаинов обращает внимание на то, что «в башкирском языке закрепление ударения за последним слогом слова почти всегда делает постоянно ударным окончание стихотворной строки, что и определяет одно из важнейших свойств башкирской силлабики» (стр. 86).
Следствием неустойчивости базовой стиховедческой терминологии к моменту выхода статьи можно объяснить чувствительную несовместимость используемых Г. Б. Хусаиновым обозначений некоторых явлений стиха с их современными названиями. Так, длинный стих автор называет строфой, а иногда и стихотворением, подмечая при этом, что 16-сложная строка обычно включает цезуру после восьмого слога, а в 15-сложнике «цезура обычно находится после восьмого слога, лишь изредка передвигаясь к седьмому или девятому слогу» (стр. 87).
Наряду с распространёнными тенденциями автор отмечает и нарушающие их исключительные случаи, как, например, сверхдлинные строки: «В поэзии М. Гафури иногда встречаются и восемнадцатисложные стихи с цезурой обычно после десятого слога» (cтр. 87).
Разбирая роль цезуры и ритмических групп, из которых складываются полустишия, Г. Б. Хусаинов походя делает замечание о том, что двумя наиболее распространёнными размерами башкирской силлабики являются 12-сложник и 11-сложник (стр. 87, 89). Нашими данными это не подтверждается, что не удивительно: наблюдения автора статьи сделаны ещё до того, как были написаны произведения, составившие основную часть корпуса, на котором произведены подсчёты для этой книги. Г. Б. Хусаинов делает выводы на основе стихотворных текстов, созданных в первые десятилетия XX века, текстов во многом переходного периода, отражающих в большей степени традиции старой литературы на тюрки, нежели собственно башкирской поэзии советского времени.
Другое наблюдение Г. Б. Хусаинова касается способности полустиший длинных строк превращаться в самостоятельные стихи. Преобразование 12-сложника в чередующиеся 8- и 4-сложники признаётся более вероятным, чем распадение двенадцатисложной строки на два полустишия равной длины, так как цезура после шестого слога в башкирском стихосложении неустойчива (стр. 88). Сочетания 8- и 3-сложника, а также 4- и 7-сложника, в свою очередь, объявляются дериватами 11-сложника. В то же время автор отмечает, что даже в одиннадцатисложном размере постоянная цезура может отсутствовать. Со ссылкой на Ф. Е. Корша Г. Б. Хусаинов отмечает, что отличие тюркского 11-сложника от французского в том, что первый обычно распадается на два полустишия 7+4, а второй – 4+7 (стр. 90).
Несмотря на общее утверждение, что башкирская поэзия по своей природе силлабическая, автор признаёт наличие в ней стихов, написанных силлабо-тоническими размерами ямбом и хореем (стр. 91), а также логаэдов (Г. Б. Хусаинов называет их дольниками), в которых нечётные строки строго ямбические, а в чётных последняя стопа (что важно, она совпадает с позицией рифмы) оформлена как стопа анапеста. Далее стихотворение Х. Карима (стр. 93), включающее из 4- и 5-сложные строки, будет рассматриваться как состоящее из 13-сложных стихов, в которых чередуются пятистопный ямб и одностопный анапест. С точки зрения современного состояния науки такие замечания воспринимаются как досадные непоследовательности, вполне, впрочем, объясняемые тем, что статья написана ещё до выхода основных обобщающих и упорядочивающих стиховедческую терминологию трдов на русском языке. Финал статьи посвящён наблюдениям над строфикой и рифмой фольклорных произведений, в частности, особенное внимание уделено внутренней рифме в паремиологических текстах и героическом эпосе.
2.2.3. Татарское стиховедение 19601970-х
Текст доклада Х. У. Усманова [Усманов 1960] вводит читателя в курс базовых понятий татарского стиховедения. Автор утверждает, что система стихосложения в татарской поэзии (как и в других тюркоязычных) силлабическая (стр. 1), однако строки одинаковой длины звучат для носителя языка совершенно по-разному, если разной будет длина ритмических групп, из которых эти строки состоят (стр. 2). К описанию стиха привлекается понятие цезуры, правда, в каком-то особенном понимании, так как допускается, что цезура (то есть словораздел) может проходиться в татарском стихе на середину слова (стр. 3). Некоторое место в докладе посвящено и роли открытых слогов в организации ритма (стр. 37). В частности, утверждается, что современные поэты, несмотря на полный переход татарской поэзии на силлабическую систему, иногда всё же прибегают к называемому классическим принципу, при котором ритмическая организация достигается регулярным появлением открытых слогов в одних и тех же местах строки.
В диссертации М. Х. Бакирова [Бакиров 1972] мы находим довольно любопытный терминологический прецедент. «Народной» здесь именуется не только фольклорная, но и вообще вся силлабическая поэзия на татарском языке, включая авторские тексты, написанные не арузом (стр. 4). Далее, имея в виду метрическую организацию силлабического стиха, автор задаётся вопросом, «почему процесс нормализации и упорядочения шел вокруг определенных ячеек и “волшебных” цифр» (стр. 9), и с помощью статистических методов находит на него ответ: «По данным исследователя, вышеупомянутые “волшебные” цифры, несомненно, связаны со средней величиной синтагм и предложений тюркского, а следовательно, и татарского языков. Первое из них, число 7 (8), приходится у тюркских народов на нижний регистр наиболее часто встречающихся смысловых единиц, число же 11 (12) указывает на его верхнюю границу» (стр. 9). Диссертант подчёркивает разницу между метром и ритмом в силлабическом стихе, отмечая, что «разнообразие ритмов создается здесь, главным образом, за счет неметрических единиц – словоразделов, постоянно меняющихся в зависимости от количества и длины слов в ритмических звеньях» (стр. 12).
Обращаясь к тюркскому арузу, М. Х. Бакиров отмечает, что «суть этой системы заключается в том, что с определенных мест строфы древнеписьменного стиха по вертикали проходит четкий ряд открытых слогов» (стр. 22), которые он называет «метрическими» (стр. 23). Определенное место уделено описанию спора между Х. Усмановым и другими тюркологами о том, является ли эта метрическая система заимствованной из арабо-персидской поэзии или самостоятельно возникшим на тюркской почве феноменом. Упоминается, что системность появления открытых слогов присутствует и в русском стихе (стр. 29), правда, при этом не учитывается, что русским читателем разница между открытыми и закрытыми слогами в стихотворной строке не осознаётся и системность может быть случайностью, проявившей себя только потому, что благоприятный фон для этого в русском языке создает исторически обусловленная частотность открытых слогов. Далее мы разберем этот вопрос подробнее. Здесь же процитируем приводимые со ссылкой на Т. Ибрагимова подсчёты, согласно которым «закрытые слоги в татарской поэзии составляют 52,3 проц. и открытые слоги – 47,7 проц. В классической поэзии, основанной только на арузе, эти цифры соответственно 61,5 и 38,5 (последние подсчитаны нами). … Правда, в самом языке вообще эти цифры несколько иные: открытых слогов 51,8, закрытых 48,2 проц.» (стр. 65).
Важным в работе М. Х. Бакирова следует признать замечание о том, что «в тюркском арузе участвует в значительной мере и изосиллабизм (а в арабо-персидском арузе равносложность стихов менее заметна)» (стр. 32). При этом значительным для самого исследователя экспериментальным выводом стало то, что закрытый слог, соответствующий арабскому долгому, действительно звучит в речи длиннее открытого (стр. 4345). В данном случае диссертант смешивает фонетическую и фонологическую долготу, так что эти данные не более чем любопытны. Подсчёты также подводят автора к мысли, что «основная причина широкого распространения определенных размеров в тюркской поэзии восходит к среднему объему слов. Если в тюркских языках двусложные слова составляют подавляющее большинство и если от их соседства (2+2) и сочетания слов иной длины (1+3, 3+1, 4, 1+2+1 и др.) рождаются, главным образом, четырехсложные отрезки, то естественно, и в стихе … отчетливо проявляется та же тенденция» (стр. 65). На самом деле двусложные слова в башкирском (и, вероятнее всего, в татарском) хотя и составляют большинство, но в поэтических текстах их в процентном отношении даже больше, чем в прозаических (см. об этом далее в § 6.2), так что, видимо, имеет место обратный процесс: для стихотворной строки специально отбираются именно двусложные слова, а не длина слова определяет строение стиха.
Статья о татарском арузе [Курбатов 1973] описывает ситуацию, в которой татарские поэты из всей палитры размеров восточного стихосложения используют обычно два или три (стр. 85). При этом вполне возможна такая ситуация, при которой силлабическое стихотворение включает в себя строки аруза (стр. 88). Известно, что у классика татарской литературы Г. Тукая «23 стихотворения написаны двенадцатисложником с цезурой после четвертого и восьмого слогов … 16 – другими размерами силлабики (среди которых встречается наиболее распространенный в современной поэзии десяти-девятисложник с цезурой после четвертого и шестого слогов» (стр. 88).
2.2.4. Татарский стих в историческом контексте
Несколько обособленно в этом ряду стоит монография Х. Усманова «Тюркский стих в Средние века» [Усманов 1987]. Если в рассмотренных выше работах наблюдения возражений в основном не вызывали и в целом научный характер произведений Т. Ковальского, М. Х. Бакирова, Г. Б. Хусаинова, да и более ранней работы самого Х. Усманова, нельзя подвергнуть сомнению, то в случае с книгой Х. Усманова приходится признать, что слишком многие её положения представляются спорными, а общий тон делает книгу ближе к публицистическому жанру, нежели к собственно научному. Апологетическая интенция автора хорошо прочитывается во многих высказываниях, что, к сожалению, отражается на общем качестве текста, особенно если при этом искажается лингвистический смысл терминов, как это происходит в следующем пассаже: «Встречается в корне ошибочное мнение о том, будто у тюркских языков ударение слабое. В действительности же оно не слабее, чем других языков» (стр. 13). По всей видимости, здесь оценочный характер прилагательного «слабый» заслонил для автора лингвистическое понятие о силе ударения и заставил считать, что некоторая (по сути, совершенно нейтральная) характеристика речи в тюркских языках является для них если не оскорбительной, то умаляющей достоинства. Таких сомнительных мест в книге немало.
Тем не менее в монографии можно встретить и собственно стиховедческие наблюдения, сделанные на средневековом тюркском и современном татарском материале. К сожалению, их эвристический потенциал минимален. Так, на стр. 10 и 11 приводятся количественные данные о распределении различных типов слогов («с конца открытые», «полностью открытые», «полностью закрытые», «с конца закрытые») в средневековых тюркских, современных татарских прозаических и поэтических текстах. Само внимание автора к открытым и закрытым слогам в стиховедческом контексте не случайно. Средневековые тюркские поэтики стремились опереться на арабскую традицию стихосложения, которая, однако, была разработана для языка, имеющего в своём фонологическом наборе долгие и краткие слоги, отсутствующие в тюрки. Для конвертации арабского аруза были разработаны сложные правила, при определённых условиях приравнивающие закрытые слоги к долгим, а открытые к кратким [Стеблева 2012: 65], так что качество слога в приложении тюркской культурно-языковой истории действительно имеет стиховедческую проекцию.
С используемыми автором данными в сводном виде можно ознакомиться в таблице 1.
Даже простой визуальный анализ таблицы 1 свидетельствует, что разные типы слогов примерно одинаково распределены в текстах разной природы и датировки. Если добавить к этому формальный статистический критерий (используем -квадрат), то он подтвердит гипотезу о равном распределении: X-squared = 7,5165, p-value = 0,8217. Х. Усманову это наблюдение показалось важным, так как «подобное единство является одним из прочных гарантов непрерывности строя тюркского стиха до тех пор, пока функционирует тюркский язык» (стр. 11). В то же время это означает, что распределение типов слогов не является особенностью именно стихотворной речи, и возможности использования этого инструмента для её анализа ограничены.
Таблица 1. Процентное соотношение слогов разного качества в тюркских текстах по данным Х. Усманова [Усманов 1987: 10, 11]
Другая стиховедческая проблема, которой касается Х. Усманов в связи с современным поэтическим материалом, это распределение в тексте слов различной длины (длина считается в слогах). Автор отмечает, что процент коротких слов растёт в произведениях, несущих «эмоциональный заряд» (cтр. 15). Это наблюдение приводит его к выводу, что «стих находится в противоречии с родным языком» (cтр. 17), то есть своим путём Х. Усманов приходит (не называя предшественника) к выдвинутой Р. Якобсоном «теории организованного насилия поэтической формы над языком» [Jacobson 1979: 15].
Изучая участие слов разной длины в организации поэтической речи, исследователь приходит к выводу, что «древний стих, стремясь создать симметрические отношения между словами, отдал предпочтение счетносложным (дву- и четырехсложным) словам. Одно- и трехсложные слова оказались вне стихотворения» (cтр. 21), однако в дальнейшем эта тенденция была нарушена и в XX веке доля одно- и трёхсложных слов в текстах существенно выросла (cтр. 21).
2.2.5. Обобщающий труд о башкирском стихе
В 2003 году в свет вышла книга Г. Б. Хусаинова «Башкирское стихосложение. Поэтический словарь» (на башкирском языке) [Хсйенов 2003], отражающая более современное состояние вопроса, чем ранняя статья того же автора. Стиховед освещает в ней как общие (природа стиха, системы стихосложения), так и частные аспекты башкирской поэтической традиции. Так, описывая народный стих, Г. Б. Хусаинов останавливается на чередовании 10- и 9-сложника (при этом словораздел в таких строках обычно проходит после четвёртого и второго слога: 4+2+4 и 4+2+3), упоминая и чередование 8- и 7-сложника, где 8-сложный размер складывается из разделённых цезурой полустиший по четыре слога или в пять и три слога длиной (стр. 16, 19). В разделе о словоразделах (стр. 2228) подробно разбираются разные комбинации длины полустиший, при этом отдельно рассматриваются варианты с симметричной и несимметричной длиной полустиший: 2+2 для 4-сложных строк, 3+3 для 6-сложных, 4+4 для 8-сложных, 3+3+3 для 9-сложных, 3+3+3+3 и 4+4+4 для 12-сложных, 4+4+4+4 для 16-сложных. Отдельно разбираются схемы: 3+2 или 2+3 для 5-сложника, 2+4 для 6-сложника, 4+3 или 3+4 для 7-сложника, 4+5 или 5+4 для 9-сложника. Г. Б. Хусаинов перечисляет все составляющие метрического репертуара башкирской поэзии от 4-сложника до 17-сложника (стр. 2939), приводя примеры и ритмические схемы с учётом словоразделов.
В специальном разделе (стр. 3944) автор касается вопроса об открытых и закрытых слогах как факторе создания ритма. Исследователь отмечает, что в некоторых произведениях книжного жанра (то есть речь не идёт о стилизации народной поэзии) открытые слоги регулярно появляются в одном и том же месте строки и это явление исторически обусловлено тюркской адаптацией арабского аруза (стр. 4448).
Вторая часть книги Г. Б. Хусаинова посвящена описанию видов рифмы в башкирской поэзии (стр. 5292), их взаимоотношению с жанром (стр. 99107), их функционированию в рамках индивидуального стиля (стр. 108123), а также особенностям фоники (стр. 9398), прежде всего аллитерации, которая стала одним из ключевых научных вопросов тюркского стихосложения, см. [Поливанов 1973], [Щербак 1961], а в третьей части приведены образцы строфики (стр. 124191) как из письменной поэзии (Ш. Бабич, М. Акмулла, Н. Наджми), так и из фольклорного героического эпоса. Последняя часть (стр. 241315) отведена под метрические новации поэтов советского времени, использовавших нестандартные сочетания размеров вроде 6- и 9-сложника (стр. 286), а в конце монографии приведён терминологический словарь, сопровождающийся частными обобщениями и наблюдениями вроде замечания, что «акцентный или тонический стих башкирской поэзии не свойствен» (стр. 317).
Автор периодически говорит о своих оценках частотности тех или иных явлений. Например, редкими признаются девятистрочная строфа (стр. 148), вольный стих18 (стр. 358), но конкретных подсчётов в книге нет.
2.2.6. Татарское стиховедение 2000-х
В посмертно изданной монографии Х. Курбатова [Курбатов 2005] отражены его более ранние взгляды, высказывавшиеся в течение нескольких десятилетий, ещё с 1950-х годов, например, в классической статье [Курбатов 1955]. Автор уточняет представление о силлабике, называя мнение о равносложности как о главном принципе силлабического стиха поверхностным. По утверждению исследователя, «главное в этом стихе – ритмические группы» (стр. 8). Важным представляется следующее наблюдение, не подкреплённое, правда, конкретными подсчётами: «В современной татарской поэзии количество стихотворных размеров довольно большое. Но наиболее употребительными из них являются десять-девять и восемь-семь; затем идут размеры семь-семь, восемь-восемь, девять-девять, десять-десять, одиннадцать-одиннадцать, двенадцать-двенадцать, пять-пять, шесть-шесть и пр.» (стр. 11) При этом «размер восемь-восемь в татарской поэзии употребляется сравнительно редко» (стр. 14). Большой раздел книги отведён описанию исконного арабского аруза и его тюркоязычной адаптации. Автор делает вывод, что «татарскими поэтами были использованы только два основных рода аруза из девятнадцати» (стр. 73). В частности, отмечается, что один из ключевых татарских поэтов начала XX века Г. Тукай из всех размеров аруза предпочитал «рамаль с его двумя разновидностями: рамал-и мусамман-и махзуф и рамал-и мусаддас-и махзуф» (стр. 52). Обращаясь к полиметрическому стиху, то есть к стихотворной форме, использующей выстроенные в регулярном порядке строки разной длины, Х. Курбатов отмечает, что «в употреблении ритмических групп (следовательно, в употреблении цезур в силлабике) … соблюдается определённый порядок» (стр. 75). Иначе говоря, словораздел проходит по одному и тому же месту в строках разной длины, и левое полустишие всегда имеет одинаковое число слогов.
В 2011 году в Казани была защищена кандидатская диссертация о татарском стихосложении [Замалиев 2011]. В обстоятельном обзоре предшествующей литературы автор подвергает критике Т. Ковальского за излишнее внимание к месту ударения в тюркском стихе, по всей видимости потому, что при несомненном для диссертанта силлабическом характере этой поэтической традиции исследование тонических аспектов может вводить читателя в заблуждение, при этом роль ударения в организации ритма исследуется далее и самим А. М. Замалиевым.
Первые главы работы посвящены генезису татарского стиха, в частности, фольклорным истокам и становлению системы стихосложения. В разделе «Метрика и ритмика силлабического стиха» автор обозначает свои теоретические ориентиры и концептуальное наполнение базовых терминов. В числе прочего А. М. Замалиев отмечает, что в татарском стихосложении обязательный принцип изосиллабизма должен трактоваться шире, он не ограничивается исключительно равносложием строк, но распространяется и на длину разделённых цезурой полустиший (стр. 17), которые называются «ритмическими звеньями». Отдельно отмечается, что в татарском стие ударения «не являются метрообразующей единицей, но тем не менее участвуют в создании ритма» (стр. 18).
Итогом многовековой истории татарской метрики, по мнению А. М. Замалиева, стала система силлабических размеров длиной от четырёх до шестнадцати слогов (Г. Б. Хусаинов, как мы помним, включал в число башкирских размеров 17-сложник [Хсйенов 2003: c. 39], а в более ранней работе и 18-сложник [Хусаинов 1959: 87]). Автор специально останавливается на чередовании 9- и 10-сложника, про которое говорит, что этот размер – «достижение собственно самих татар и отчасти башкир, возникший вначале в их народно-песенной лирике. В письменной же поэзии эту ритмическую схему первым использовал Габдулла Тукай в своем стихотворении “Милли монар” (“Национальные мелодии”)» (стр. 20). Начало XX века характеризуется как «период массового перехода от аруза к силлабике» (стр. 23), то есть как рубежный момент, когда татарское стихосложение пережило серьёзную перестройку, системный отказ от выработанных в Средние века и эпоху Просвещения принципов и формирование новой метрической парадигмы, определявшей облик поэзии весь XX век. Замечу, что аналогично сложилась и история башкирского стиха, и это снова подводит к идее, что история башкирской поэзии последнего столетия представляет собой самодостаточный исследовательский объект.
Серьезная работа о музыкальном фольклоре [Смирнова 2010], тем не менее, вобрала в себя и много стиховедческого материала. В диссертации речь идет о двух традиционных татарских жанрах, кйлп уку и озын кй (очевидная параллель башкирской оон кй, также состоящей из 910-сложных строк). Первый конфигурацией долгот повторяет некоторые метры аруза: камил-и мусамман-и салим и вафир-и мусамман-и салим, что, однако, приравнивается к типологической параллели (стр. 25). Второй противопоставляется «протяжным» песням других традиций, в рамках которых редко встречаются формы, построенные на повторении однородных сегментов. Напротив, в основе озын кй лежит постоянно воспроизводимая «ритмическая группа, составленная из характерного последования короткой и долгой слогодлительностей» (стр. 30). Генетическая связь между формами аруза и озын кй также представляется автору сомнительной, так как самый популярный для аруза 16-сложник не характерен для озын кй (стр. 34).
2.2.7. Обобщающая работа об истории тюркского стиха
Основательная монография И. В. Стеблевой «Тюркская поэтика: этапы развития: VIIIXX вв.» [Стеблева 2012] главным образом посвящена истории тюркского стихосложения. В книге обстоятельно освещаются древнетюркский и классический периоды средневековой поэзии, но в последней части книги автор обращается к XX веку, который «явился средоточием стремлений к новациям, возникшим как требование времени и в результате контактов с русской и другими европейскими литературами» (стр. 7). И. В. Стеблева связывает случившееся в этот период преодоление традиционных литературных канонов и поиск новых форм с масштабными общественно-политическими событиями, привившими авторам новейшего времени идею свободы, в том числе и от устоявшихся поэтических правил (стр. 157), то есть речь идёт о переходе к обществу модерна и следствиями этого процесса в литературе.
Параграф, посвящённый татарской поэзии XX века (стр. 178179), построен в форме комментария к стихотворению М. Файзи 1927 года. Исследователь отмечает, что графическая форма этого произведения, состоящего из шести строк, является результатом преобразования гипотетического правильного четверостишия, складывающегося из строк десяти-и девятисложной длины. И. В. Стеблева обращает внимание на неточную рифму (если рассматривать стихотворение как четверостишие, она была бы внутренней) и на частое использование М. Файзи строк короткой длины в 4, 5 слогов и даже в 3 слога. При этом «рифма (чаще всего смежная) фактически не образует строфы и, вообще, не слишком выражена» (стр. 179). В этой поэтической форме стиховед усматривает одновременное движение в сторону верлибра и опору на традиции древнего аллитерационного стиха.
2.2.8. Статистический подход к истории башкирского стиха






