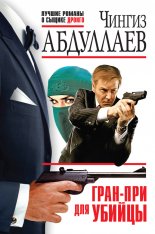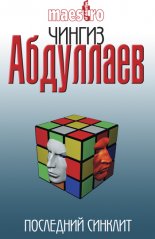Отель «Нью-Гэмпшир» Ирвинг Джон

– Мне бы очень интересно было узнать, сколько раз он сумеет отжаться, – заявил бывший лайнмен из «Большой десятки». – Но нельзя ли постричь ему когти?
Глупо было устраивать еще одну свадьбу; мой отец считал, что службы, совершенной Фрейдом, было вполне достаточно. Но семья матери настаивала на том, чтобы их обвенчал конгрегационалистский священник, который приглашал Мэри на ее выпускной танец; так и поступили.
Это была небольшая неформальная свадьба, на которой тренер Боб выступал шафером, а Латин Эмеритус, отдавая свою дочку замуж, лишь изредка переходил на неразборчивую латынь; мать моей матери плакала, вполне отдавая себе отчет, что Вин Берри – не тот студент Гарварда, коему в ее мечтах суждено было увлечь Мэри Бейтс обратно в Бостон, по крайней мере не сейчас. Эрл всю процедуру просидел в коляске «индиана» 1937 года выпуска, умиротворенный крекерами и копченой селедкой.
Мои мать и отец самостоятельно провели краткий медовый месяц.
– Тогда-то вы уж точно делали это! – всегда восклицала Фрэнни.
Но возможно, что этого и не было; они нигде не останавливались на ночь. Они уехали на раннем поезде в Бостон и побродили по Кембриджу, представляя себе, что в один прекрасный день будут здесь жить, а отец будет учиться в Гарварде; они поехали обратно самым ранним поездом и к рассвету следующего дня вернулись в Нью-Гэмпшир. Их первым брачным ложем была односпальная кровать в девичьей комнате моей матери в доме Латина Эмеритуса – там и должна была жить моя мать, пока отец будет зарабатывать на Гарвард.
Тренеру Бобу жаль было расставаться с Эрлом. Боб был уверен, что медведя можно выучить играть в защите, но мой отец объяснил Айове Бобу, что медведь должен стать для их семьи хлебом насущным и обеспечить его образование. И вот в один прекрасный вечер (после того, как нацисты захватили Польшу) моя мать на прощанье поцеловала отца на гимнастическом поле школы Дейри, которое тянулось как раз до заднего крыльца дома Айовы Боба.
– Заботься о своих родителях, – сказал отец моей матери, – а я вернусь и позабочусь о тебе.
– Фу! – по каким-то своим соображениям всегда произносила Фрэнни; эта часть чем-то раздражала ее. Она никогда во все это не верила.
Лилли тоже передергивало, и она отворачивала свой нос.
– Угомонитесь и слушайте историю, – всегда говорил Фрэнк.
Я, по крайней мере, смотрю на это несколько иначе, чем мои братья и сестры. Я просто вижу, как мои отец и мать должны были поцеловаться: осторожно, – тренер Боб в это время занимал Эрла какой-нибудь игрой, чтобы тот не подумал, будто мои мать и отец едят что-то такое, чем не хотят поделиться с ним. Поцелуи в присутствии Эрла всегда были рискованным занятием.
По словам матери, она знала, что отец будет ей верен, так как Эрл задавил бы его, если бы он кого-нибудь поцеловал.
– И ты был верен? – спрашивала Фрэнни отца в своей ужасной манере.
– Ну конечно, – отвечал отец.
– Будь спок, – говорила Фрэнни.
Лилли при этом выглядела встревоженной, а Фрэнк отворачивался.
Это была осень 1939 года. Хотя моя мать этого еще и не знала, она была уже беременна Фрэнком. Отец кочевал на мотоцикле вдоль Восточного побережья, изучая на практике курортные отели – звуки оркестров, толпы у казино и залов бинго, – и, по мере того как осень сменялась зимой, путь его пролегал все дальше и дальше на юг. Весной 1940 года, когда родился Фрэнк, он был в Техасе; отец и Эрл тогда гастролировали вместе с труппой под названием «Духовой оркестр Одинокой Звезды». Медведи в Техасе были популярны, впрочем один пьяный в Форт-Уорте попытался угнать «индиан» 1937 года выпуска, не зная, что к нему прикован спящий Эрл. Техасский суд принудил отца в качестве штрафа оплатить госпитализацию неудачливого похитителя, и еще какую-то сумму из заработанных денег он потратил на то, чтобы проехать по всему Восточному побережью и поприветствовать в этом мире своего первого ребенка.
Когда отец вернулся в Дейри, мать была еще в больнице. Они назвали Фрэнка Фрэнком – «откровенным», потому что, как сказал отец, они всегда будут друг с другом и со всей семьей «откровенными».
– Фу! – обычно говорила Фрэнни.
Но Фрэнк был очень горд происхождением своего имени.
Отец остался с матерью в Дейри на время, достаточное лишь для того, чтобы она опять забеременела. Затем они с Эрлом ударили по побережью Виргинии и Калифорнии. Четвертого июля они были высланы из Фалмута, мыс Кейп-Код, и вскоре после этого недоразумения вернулись к матери в Дейри, чтобы восстановить силы. «Индиан» 1937 года выпуска сломался как раз в тот момент, когда в Фалмуте проводился парад в честь Дня независимости; пожарный с залива Баззардс попробовал помочь отцу с починкой мотоцикла, тут-то Эрл вдруг и рассвирепел. Дело в том, что, к несчастью, пожарного сопровождали два далматина – собаки, отнюдь не славящиеся понятливостью; не стремясь исправить эту свою репутацию, далматины атаковали сидящего в коляске Эрла. Одного из них Эрл аккуратно обезглавил, а второго погнал в сторону марширующей по улице Остревилльской футбольной команды, среди которой глупая собака попыталась укрыться. Парад разбежался, убитый горем пожарный отказал отцу во всякой помощи в починке мотоцикла, а шериф Фалмута выпроводил отца и Эрла за пределы города. Так как Эрл не желал ехать в машине, эскорт оказался довольно утомительным: Эрл сидел в коляске мотоцикла, который везли на буксире. Пять дней ушло на то, чтобы найти запасные детали для двигателя.
Хуже того, у Эрла появился вкус к собакам. Тренер Боб пытался отвадить его от этой пагубной привычки, обучая его другим видам спорта: подносить мяч, исполнять кувырок, даже приседать, – но Эрл был уже стар и при этом лишен той благословенной веры в физические упражнения, которая была у Айовы Боба. Чтобы убивать собак, даже бегать особо не требуется, уяснил Эрл. Если схитрить, а Эрл хитрить умел, собаки сами подходили прямиком к нему.
– А потом все кончено, – замечал тренер Боб. – Каким бы он был лайнбекером![4]
Таким образом, большую часть времени отец держал Эрла на цепи и пытался заставить его носить намордник. Мать сказала, что Эрл был в депрессии; она нашла старого медведя ужасно погрустневшим. Но отец сказал, что никакая это не депрессия.
– Он просто думает о собаках, – сказал отец. – И он вполне счастлив, что привязан к мотоциклу.
Лето 1940 года отец провел в доме Бейтсов в Дейри, по вечерам развлекая публику в Хэмптон-Бич. Он умудрился обучить Эрла новому номеру. Тот назывался «Прием на работу» и позволял сэкономить на покрышках и запчастях для «индиана».
Отец и Эрл выступали на открытой сцене в Хэмптон-Бич. Когда включали огни, Эрл сидел на стуле в человеческом костюме; костюм, радикально перешитый, когда-то принадлежал тренеру Бобу. После того как замирал смех, мой отец появлялся на сцене с бумагой в руке.
– Ваше имя? – спрашивал отец.
– Эрл, – отвечал Эрл.
– Так, понятно, Эрл, – говорил мой отец. – И вы хотите получить работу, Эрл?
– Эрл, – отвечал Эрл.
– Да, я понял, что вас зовут Эрл, но вы хотите получить работу, так? – говорил отец. – Тут вот написано: вы мало того что не умеете печатать на машинке, да и читать тоже, так у вас еще и с алкоголем проблемы.
– Эрл, – соглашался Эрл.
Из толпы иногда бросали фрукты, но отец хорошо кормил Эрла: это была совсем не та публика, которую он помнил по «Арбутноту».
– Ну, если все, что вы можете сказать, – это собственное имя, – говорил отец, – то осмелюсь предположить, что вы или напились нынче вечером, или настолько глупы, что даже одежду сами снять не сможете.
На это Эрл ничего не отвечал.
– Ну? – просил отец. – Давайте посмотрим, сможете ли вы это сделать. Раздевайтесь! Давайте! – И отец выдергивал из-под Эрла стул, а тот делал один или два переворота, которым его научил тренер Боб.
– Так вы умеете делать сальто-мортале, – говорил отец. – Здорово. Одежду, Эрл. Давайте посмотрим, как вы снимаете одежду.
Как-то глупо это со стороны людей: смотреть, как раздевается медведь. Моя мать ненавидела этот номер, она считала, что несправедливо по отношению к медведю заставлять его раздеваться перед шумной грубой толпой. Когда Эрл раздевался, отец обычно помогал ему снять галстук; без посторонней помощи Эрл быстро раздражался и срывал его со своей шеи.
– Да уж, Эрл, не бережете вы свои галстуки, – говорил тогда отец.
Публике в Хэмптон-Бич это очень нравилось.
Когда Эрл раздевался, отец говорил:
– Ну, давайте дальше, не останавливайтесь на достигнутом. Снимайте свой медвежий наряд.
– Эрл? – удивлялся Эрл.
– Снимайте свой медвежий костюм, – говорил отец и легонько, чуть-чуть, дергал его за мех.
– Эрл! – рычал Эрл, и публика встревоженно визжала.
– Бог ты мой! Да вы настоящий медведь! – восклицал отец.
– Эрл! – взвывал медведь и начинал гоняться за отцом вокруг стула; половина аудитории с воплями скрывалась в ночи, некоторые из них опрометью бежали по мягкому прибрежному песку к воде, кое-кто по дороге ронял фрукты и мягкие стаканчики с теплым пивом.
Более деликатное (по отношению к Эрлу) представление проводилось раз в неделю в хэмптон-бичском казино. Мать облагородила Эрлову плясовую манеру и, как только оркестр начинал играть, выходила с Эрлом в центр танцзала. Вокруг собиралась толпа игроков и диву давалась: низкий, коренастый медведь в костюме Айовы Боба на удивление грациозно скользил на задних лапах за моей матерью, которая вела в танце.
В такие вечера тренер Боб исполнял роль няньки. Мать, отец и Эрл ехали домой по прибрежной дороге, останавливаясь, чтобы посмотреть на прибой у мыса Рай, где располагались дома богачей; на мысу приливные волны красиво называли «бурунами». Морской берег в Нью-Гэмпшире был более обжитым и более загаженным, чем в Мэне, но райские фосфоресцирующие буруны, должно быть, напоминали моим родителям вечера в «Арбутноте». Они говорили, что всегда останавливались там по дороге домой в Дейри.
Однажды вечером Эрл не захотел уходить от бурунов.
– Он думает, что я взял его на рыбалку, – сказал отец. – Смотри, Эрл, у меня ничего нет, ни наживки, ни блесен, ни удочки, дурачок.
<>Отец говорил с медведем, протягивая к нему пустые руки. Эрл смущенно уставился на него; они поняли, что медведь почти слеп. Они отговорили медведя от рыбалки и увезли его домой.– Как получилось, что он так состарился? – спрашивала мать отца.
– Он начал писаться в коляске, – заметил отец.
Когда отец уехал на зимний сезон осенью 1940 года, моя мать определенно была беременна, на этот раз Фрэнни. Он решил отправиться во Флориду, и мать впервые получила весточку от него из Клируотера, а затем из Тарпон-Спрингса. Эрл подхватил странную кожную болезнь, ушную инфекцию, какой-то грибок, встречающийся только у медведей, и дела шли плохо.
Это было незадолго до того, как в конце зимы 1941 года родилась Фрэнни. На ее рождение отец не приехал, и Фрэнни никак не может ему этого простить.
– Наверно, он знал, что это будет девочка, – любит говорить Фрэнни.
Отец вернулся обратно в Дейри не раньше лета 1941 года и сразу же сделал мать опять беременной, на этот раз мной.
Он пообещал, что больше не оставит ее: он заработал достаточно денег во время успешного циркового турне в Майами, чтобы осенью начать свою учебу в Гарварде. Они могли позволить себе спокойное лето и выступали в Хэмптон-Бич только тогда, когда было желание, – пока не нашлось дешевое жилье в Кембридже. Он купил себе сезонный билет на бостонский поезд, чтобы ездить на занятия.
Эрл старел с каждой минутой. Каждый день ему надо было смазывать глаза бледно-голубым бальзамом, напоминающим медузью слизь; Эрл вытирал его о мебель. Моя мать с тревогой заметила, что медведь ощутимо полысел и как-то усох.
– Он потерял мышечный тонус, – забеспокоился тренер Боб. – Ему надо поднимать тяжести или бегать.
– Просто попробуй уехать от него на «индиане», – предложил мой отец своему. – Побежит как миленький.
Но когда тренер Боб взобрался на мотоцикл и ударил по газам, Эрл никуда не побежал. Ему было все равно.
– Фамильярность, – сказал отец, – действительно порождает неуважение.
Он достаточно долго и много проработал с Эрлом, чтобы понять раздражение, которое медведь вызывал у Фрейда.
Мои мать и отец редко говорили о Фрейде; легко было представить, что могло случиться с ним во время «войны в Европе».
В винных магазинах на Гарвардской площади торговали вильсоновским виски «Это все» по дешевке, но мой отец не был любителем выпить. В «Оксфордских грилях» Кембриджа разливали пиво в стеклянные емкости в форме коньячного бокала, которые вмещали целый галлон. Если ты справлялся с первой порцией достаточно быстро, то вторую такую же тебе давали бесплатно. Но мой отец выпивал там по окончании недельных занятий обычную кружку пива и спешил на Северный вокзал, чтобы успеть на поезд в Дейри.
Он старался ускорить свой курс как только мог, чтобы поскорее закончить учебу; он мог это сделать не потому, что был круче других гарвардских парней (он был старше, а не круче большинства из них), а потому, что проводил мало времени с друзьями. У него была беременная жена и двое детей, и у него вряд ли оставалось время на друзей. Его единственным развлечением, как он говорил, было слушать по радио репортажи о бейсбольных матчах высшей лиги. Как раз через несколько месяцев после окончания первенства страны мой отец услышал по радио новости про Пёрл-Харбор.
Я родился в марте 1942 года и был назван Джоном, в честь Джона Гарварда. (Фрэнни была названа Фрэнни, чтобы составить компанию Фрэнку.) Моя мать была занята не только нами: она ухаживала за старым Латином Эмеритусом и к тому же помогала тренеру Бобу возиться с состарившимся Эрлом; у нее тоже не было времени на подружек.
К концу лета 1942 года война уже по-настоящему затронула всех и перестала быть «войной в Европе». И хотя «индиан» 1937 года выпуска расходовал очень мало бензина, он перешел в статус Эрлова жилища и для передвижения больше не использовался. Все студенческие общежития страны охватила патриотическая лихорадка. Студенты получали талоны на сахар, которые большинство из них отправляло своим семьям. В течение трех месяцев все гарвардские знакомые моего отца были призваны на воинскую службу или добровольно вызвались участвовать в той или иной оборонной программе. Когда умер Латин Эмеритус, а вскоре во сне за ним последовала и мать моей матери, моя мать получила скромное наследство. Отец не стал дожидаться повестки, сам отправился на призывной участок и весной 1943 года отбыл в лагерь начальной подготовки; ему было двадцать три.
Он оставил Фрэнка, Фрэнни и меня с матерью в доме Бейтсов; он оставил своего отца, Айову Боба, которому доверил нежную заботу об Эрле.
Мой отец писал домой, что его начальная военная подготовка свелась к обучению тому, как легко и быстро привести в непотребный вид отель в Атлантик-Сити. Они ежедневно драили деревянные полы и строевым шагом направлялись вдоль променада на стрельбище в дюны. Местные бары делали баснословные прибыли на курсантах, не считая моего отца. Никто не интересовался возрастом, большинство курсантов были моложе отца и вывешивали на грудь все свои значки за меткую стрельбу. Бары ломились от конторских девочек из Вашингтона, и все курили сигареты без фильтра, кроме моего отца.
Отец говорил, что все романтизировали «последний загул» перед отправкой за море, но больше бахвалились этим, чем представляли, что это такое; мой отец, по крайней мере, действительно пережил это – с моей матерью в отеле «Нью-Джерси». К счастью, на этот раз он не оставил ее беременной, так что пока у матери прибавки ко мне, Фрэнку и Фрэнни не предвиделось.
Из Атлантик-Сити мой отец был направлен в бывшую подготовительную школу к северу от Нью-Йорка для обучения на шифровальщика. Затем его послали в Ченьют-Филд (Кернс, штат Юта), а затем в Саванну, штат Джорджия, где он когда-то выступал с Эрлом в старом отеле «Десото». Затем был Хэмптон-Роудс, порт погрузки, и мой отец отправился на «войну в Европе» со смутной надеждой, что там он может встретить Фрейда. Отец был уверен, что, оставив моей матери трех отпрысков, тем самым обеспечил себе благополучное возвращение.
Он был приписан к военно-воздушным силам, на базу бомбардировщиков в Италии, где самой большой опасностью было подстрелить кого-нибудь, когда пьян, быть подстреленным кем-нибудь, кто пьян, или упасть в нужник, когда пьян, что и случилось с одним полковником, которого отец знал лично; прежде чем полковника вытащили, на него успели несколько раз испражниться. Помимо этого была лишь одна опасность – подцепить венерическое заболевание от итальянской шлюхи. А так как мой отец не пил и не гулял, то он вполне безопасно пережил Вторую мировую войну.
Он покинул Италию, перекочевав на военном транспорте через Тринидад в Бразилию – «которая как Италия в Португалии», писал он моей матери. Он прилетел обратно в Штаты с контуженным пилотом, который пронесся на своем С-47 над самой широкой улицей Майами. С воздуха мой отец узнал автостоянку, на которой Эрла когда-то стошнило после очередного выступления.
Вклад моей матери в военные усилия – хотя она выполняла работу секретаря в своей альма-матер, Томпсоновской семинарии для девиц, – заключался в медицинской подготовке: она окончила учрежденные годом раньше курсы медсестер при больнице Дейри. Она работала там одну восьмичасовую смену в неделю, а иногда ее вызывали на подмены, что случалось довольно часто (медицинских сестер ужасно не хватало). Ее любимыми местами там были родовое отделение и зал приема родов; она прекрасно знала, каково это – рожать в больнице, когда рядом нет мужа. Вот так моя мать провела войну.
Сразу после войны отец свозил тренера Боба посмотреть футбольный матч в бостонском парке Фенвей. Возвращаясь на Северный вокзал, чтобы ехать домой, они встретили одного из гарвардских приятелей отца, который продал им «шевроле»-седан 1940 года выпуска за шестьсот долларов – чуть дороже, чем тот стоил новый, но машина была в хорошем состоянии, а бензин тогда был удивительно дешев, может быть двадцать центов за галлон; тренер Боб и мой отец поделили стоимость страховки пополам, и, таким образом, в нашей семье появилась машина. Пока отец заканчивал свою учебу в Гарварде, у матери появилась идея свозить Фрэнка, Фрэнни и меня на пляж на побережье Нью-Гэмпшира. Айова Боб возил нас однажды в Белые горы, где Фрэнка покусали осы, когда Фрэнни толкнула его прямо на их гнездо.
Жизнь в Гарварде изменилась, аудитории были переполнены; «малиновые» набрали новую команду. Студенты-слависты присваивали себе честь открытия Америкой водки; никто ее ни с чем не мешал – пили по-русски, охлажденной, из маленьких рюмок, – но мой отец не изменял пиву и переквалифицировался на английскую литературу. Таким образом, он снова пытался ускорить окончание учебы.
Биг-бендов в округе было немного. Танцы потеряли прежнее значение, да и Эрл был слишком немощным, чтобы выступать. В первое Рождество после увольнения из военно-воздушных сил мой отец работал в отделе игрушек магазина «Джордан Марш» и опять сделал моей матери ребенка – на этот раз Лилли. Таких же конкретных поводов для того, чтобы назвать Лилли Лилли, как те, по которым Фрэнка назвали Фрэнком, Фрэнни – Фрэнни, а меня – Джоном, не было. Собственно, это всю жизнь не давало Лилли покоя, и, может быть, куда сильнее, чем мы подозревали; не исключено, что она даже страдала от этого всю жизнь.
Отец окончил Гарвард в 1946 году. Школу Дейри только что возглавил новый директор, который провел собеседование с моим отцом в Гарвардском факультетском клубе и предложил ему работу: преподавать английский и служить тренером по двум видам спорта, с начальной зарплатой в две тысячи сто долларов. Возможно, эту идею новому директору подал тренер Боб. Моему отцу было двадцать шесть: он принял предложение школы Дейри, хотя вряд ли видел в этом свое призвание. Это просто означало, что он наконец-то сможет жить вместе с моей матерью и нами, детьми, в семейном доме Бейтсов, неподалеку от своего отца и от своего древнего медведя. На этом этапе жизни мечты моего отца были для него намного важнее, чем образование, возможно, более важны, чем мы, дети, и уж определенно важнее, чем Вторая мировая война. («На каждом этапе его жизни», – добавила бы Фрэнни.)
Лилли родилась в 1946 году, когда Фрэнку было уже шесть лет, Фрэнни – пять, а мне – четыре. У нас внезапно появился отец, действительно, как впервые в жизни; до сих пор он был на войне, учился, разъезжал с медведем. Он был для нас незнакомцем.
Первое, что он для нас сделал осенью 1946 года, так это взял нас в штат Мэн, где мы никогда раньше не бывали, посетить «Арбутнот-что-на-море». Конечно, это было романтическое паломничество для моего отца и матери: путешествие в прошлые времена. Лилли была слишком мала для такой дальней поездки, а Эрл слишком стар, но отец настоял на том, чтобы Эрл поехал с нами.
– Господи! Ведь «Арбутнот» – это и его место тоже, – сказал отец матери. – «Арбутнот» без Штата Мэн – это совсем не то же самое!
Итак, Лилли была оставлена с тренером Бобом, мать вела «шевроле» 1940 года, с Фрэнком, Фрэнни и мной, горой одеял и большой корзинкой съестного. Отец запустил «индиан» 1937 года и усадил Эрла в коляску. Вот так мы и путешествовали, невероятно медленно, по извилистому шоссе, за много лет до того, как там проложили Мэнскую магистраль. Потребовалось несколько часов, чтобы добраться до Брансуика, еще час, чтобы миновать Бат. И вот мы увидели бурные сине-фиолетовые воды Кеннебека, впадающего в море, форт Пофан, и рыбачьи хижины на мысу, и цепь, натянутую поперек дороги, ведущей в «Арбутнот». Вывеска гласила:
ЗАКРЫТО ДО НАЧАЛА СЕЗОНА!
«Арбутнот» был закрыт уже много сезонов. Отец, должно быть, понял это очень скоро после того, как поднял цепь, и наш караван начал двигаться к старому отелю. Побелка выцвела и приобрела мертвенно-грязноватый оттенок, здания стояли покинутыми и заколоченными; все окна, не забранные досками, были выбиты камнями или пулями. Поблекший флаг восемнадцатой лунки был воткнут между половицами танцевальной террасы; он безвольно обвис, как будто свидетельствуя: замок Арбутнота был взят штурмом.
– Боже мой, – сказал отец.
Мы, дети, сгрудились вокруг матери и начали хныкать. Было холодно, туманно; само место пугало нас. Нам говорили, что мы поедем в курортный отель, и если это и есть то, что называется отелем, то нам здесь определенно не нравилось. Густые пучки травы пробивались сквозь глинистые трещины на теннисном корте, а лужайка для крокета была вся покрыта доходившими отцу до колен остролистыми болотными травами, что так буйно растут у соленой воды. Фрэнк порезался о старые воротца и распустил сопли. Фрэнни требовала, чтобы отец взял ее на руки. Я вцепился в мамину юбку. Эрл, которого ужасно мучил артрит, отказался вылезать из мотоцикла и начал срывать намордник. Когда отец снял с него намордник, Эрл нашел что-то в грязи и попытался съесть; это был старый теннисный мячик, который отец отобрал у него и забросил далеко, в сторону моря. Эрл решил, что с ним играют, и побежал догонять мячик; затем старый медведь, кажется, забыл, что он делает, и просто сел, уставившись на причалы. Возможно, он их почти не видел.
Гостиничная пристань просела. Лодочную станцию смыло бурей во время войны. Рыбаки попытались по-своему использовать бесхозные пирсы – оборудовали там заводи вдобавок к тем, на мысу, где устанавливали свои верши ловцы омаров и где маячил с ружьем какой-то мужчина или мальчик. Далекая фигура с ружьем встревожила мать. Он поставлен там, чтобы стрелять тюленей, объяснил отец. Именно из-за тюленей рыбалка в мэнских заводях никогда не могла быть особо успешной: тюлени заплывали в заводи, обжирались запертой в ловушку рыбой и отправлялись восвояси. Таким образом, они уничтожали значительную часть улова, а к тому же еще и сети портили. Рыбаки везде, где только возможно, отстреливали тюленей.
– Это как раз то, что Фрейд назвал бы «одним из вопиющих законов природы», – сказал отец.
Он настоял на том, чтобы показать нам общежития, где когда-то останавливались они с матерью.
Они, наверное, очень расстраивались – для нас-то, детей, здесь было просто неуютно и пусто, – но я думаю, что моя мать была больше удручена реакцией отца на падение «Арбутнота», чем переживала сама из-за случившегося с некогда великолепным курортом.
– Война многое изменила, – сказала она, продемонстрировав нам свое знаменитое пожатие плеч.
– Господи Исусе, – продолжал причитать отец. – Подумай только, чем бы это могло быть! – восклицал он. – Как это можно было – развалить его? Они были недостаточно демократичны, – говорил он нам, расстроенной ребятне. – Можно было придерживаться стандартов, хорошего вкуса и все же не настолько задирать нос. Должен же был быть какой-то компромисс между «Арбутнотом» и дырой наподобие Хэмптон-Бич. Господи Исусе.
Следуя за ним, мы обходили разбитые здания, изуродованные и дико заросшие лужайки. Мы нашли старый автобус, на котором ездили оркестранты, и грузовик, который использовала бригада, ухаживающая за лужайками; он был полон ржавых клюшек для гольфа. Эти машины чинил и заставлял ездить Фрейд; больше они уже не ездили.
– Господи Исусе, – повторил отец.
Мы услышали, как откуда-то издалека зовет нас Эрл.
– Эрл! – позвал он.
Мы услышали два ружейных выстрела. Откуда-то издалека, со стороны причалов на мысу. Думаю, мы все поняли, что стреляли не по тюленям. Это был Эрл.
– О нет, Вин! – закричала мать.
Она подхватила меня и побежала; Фрэнк бежал, описывая вокруг нее возбужденные круги. Отец бежал, держа на руках Фрэнни.
– Штат Мэн! – кричал он.
– Я застрелил медведя! – кричал мальчишка на пристани. – Я застрелил целого медведя!
Это был мальчишка в рабочем комбинезоне и фланелевой рубашке; обе его коленки высовывались из штанин комбинезона, а морковного цвета волосы стояли дыбом и блестели от брызг соленой воды. У него были очень плохие зубы; ему было тринадцать или четырнадцать лет.
– Я убил медведя! – верещал он.
Он был очень возбужден, и рыбаки в море, наверное, очень удивлялись, с чего это он так кричит. Они не могли слышать его из-за шума моторов и морского ветра и, медленно развернув свои лодки к пристани, всей кучей направились к берегу, чтобы посмотреть, что происходит.
Эрл лежал на причале, взгромоздив свою большую голову на бухту троса; задние лапы он поджал под себя, одна его передняя лапа всего лишь на дюйм не дотянулась до корзины, где лежала рыба для приманки. Глаза медведя были так плохи, что он, наверное, принял мальчика с ружьем за отца с удочкой. Может быть, он даже смутно вспомнил, что съел на этой пристани целую уйму сайды. Бродя по берегу, старый медведь слишком близко подошел к мальчику и своим еще достаточно чутким носом уловил запах приманки. Мальчик, наблюдающий за морем – за тюленями, – несомненно, испугался медвежьего приветствия. Он был хорошим стрелком, но с такого расстояния даже мазила попал бы в Эрла; мальчик дважды выстрелил медведю в сердце.
– Ух ты, я не знал, что он чей-то, – сказал моей матери мальчик с ружьем. – Я не знал, что он домашний.
– Конечно не знал, – успокоила его моя мать.
– Извините, мистер, – сказал мальчик отцу, но отец его не слышал.
Он сидел рядом с Эрлом на причале, положив его голову к себе на колени. Он прижал старую морду Эрла к животу и плакал, и плакал. Он, конечно, плакал не только об Эрле. Он плакал об «Арбутноте», о Фрейде и о лете 1939 года, но мы были обеспокоены, мы, дети, потому что в то время мы знали Эрла дольше и больше, чем собственного отца. Нам было совершенно неясно, почему человек, вернувшийся из Гарварда, вернувшийся с войны, должен был распустить слезы и обнимать нашего старого медведя. Мы, все мы, были слишком молоды, чтобы по-настоящему знать медведя, но его присутствие, ощущение его густой шерсти, его резкое, гниловатое дыхание, его запах, отдающий мочой и напоминающий запах мертвой герани, были для нас более памятны, чем, например, тень Латина Эмеритуса и матери моей матери.
Я по-настоящему запомнил тот день у разрушенного «Арбутнота». Мне тогда было четыре года, но я искренне верю, что это были мои первые воспоминания о самой жизни, в противоположность тому, что было, но о чем мне всего лишь рассказывали, в противоположность картинкам, которые для меня рисовали другие люди. Человек с сильным телом и лицом джентльмена – это был мой отец, который приехал, чтобы жить с нами; он сидел на прогнившей пристани, над опасными водами моря и всхлипывал, держа на коленях голову Эрла. Маленькие лодочки приближались все ближе и ближе. Моя мать прижала нас к себе так же крепко, как отец – Эрла.
– Кажись, тупой оболтус подстрелил чью-то псину, – сказал мужчина в одной из лодок.
На причал вскарабкался старый рыбак в грязно-желтой штормовке; из-под его клочковатой грязно-белой бороды проглядывала задубелая, в рытвинах, кожа. Его мокрые сапоги хлюпали, а рыбой он пропах сильнее, чем корзина с приманкой, к которой тянулся Эрл. Рыбак был достаточно стар, чтобы застать золотые денечки «Арбутнота-что-на-море». Да и сам он тоже явно видал лучшие дни.
Разглядев мертвого медведя, рыбак стянул свою широкую зюйдвестку лапой тяжелой и корявой, как багор.
– Бог ты мой, – сказал он, благоговейно обхватывая плечи потрясенного мальчика с ружьем. – Бог ты мой. Хана Штату Мэн.
Глава 2
Первый отель «Нью-Гэмпшир»
Первый отель «Нью-Гэмпшир» родился примерно так: когда школа Дейри поняла, что, если не принимать и девочек тоже, школе просто не выжить, Томпсоновская семинария для девиц осталась не у дел. На рынке недвижимости Дейри внезапно появился невостребованный большой кусок – а рынок этот был в постоянной депрессии. Никто не знал, что делать с огромным зданием, бывшим когда-то женской школой.
– Сжечь его, – предложила моя мать, – а на освободившемся месте разбить парк.
Это и было что-то вроде парка: огромный участок земли, может быть около двух акров, в самом центре разрушающегося сердца города Дейри. Старые деревянные домики, когда-то предназначенные для больших семей, а теперь заселенные мирными вдовами и вдовцами и отставными преподавателями, томились среди умирающих вязов, окружавших четырехэтажное каменное чудище – здание школы, названной в честь Этель Томпсон. Мисс Томпсон была епископальным священником, успешно выдавая себя за мужчину до самой своей смерти (преподобный Эдвард Томпсон, пастор Дейриского епископального прихода, о котором шла слава, что он прятал у себя дома беглых рабов). Открытие, что это женщина (последовавшее за несчастным случаем, когда она была задавлена, меняя колесо на своей повозке), не стало сюрпризом для некоторых мужчин в Дейри, которые хаживали к ней со своими невзгодами, когда ее слава как приходского пастора достигла высшей точки. И все же каким-то образом она накопила изрядную сумму, из которой ни одного пенни не оставила церкви; она все завещала на создание женской семинарии, «пока, – писала Этель Томпсон, – эта гадкая мужская академия не вынуждена будет принимать девочек».
Мой отец был согласен, что школа Дейри – гадка. И хотя мы, дети, любили играть на спортивных площадках, отец постоянно напоминал нам, что школа Дейри не «настоящая» школа. Ведь на месте города Дейри когда-то были молочные фермы[5] – ну а спортивные площадки школы были когда-то пастбищами; а когда в начале 1800-х была организована школа, старые коровники рядом с ней разрешили не сносить, а старым коровам позволялось свободно бродить вокруг школьных зданий – как студентам. Современная перепланировка превратила пастбища в спортивные площадки, но коровники, как и первые школьные здания, по-прежнему стояли в самом центре кампуса, а несколько, если можно так выразиться, символических коров все еще занимали места в коровниках. Это была школьная «стратегия игры», как говорил тренер Боб, предусматривавшая, что школьники будут ухаживать за коровами и одновременно посещать школьные занятия; из-за стратегии этой и учеба шла плохо, и коров плохо содержали, и перед Первой мировой войной от нее отказались. Однако в школе Дейри все еще водились преподаватели, которые твердо верили, что эту комбинацию школы и фермы следует вернуть к жизни, – причем многие из них были из числа самых новеньких, самых молодых преподавателей.
Мой отец сопротивлялся плану возвращения школы Дейри к тому, что он называл «экспериментальным образованием в хлеву».
– Когда мои ребята будут достаточно взрослыми, чтобы пойти в эту убогую школу, – в ярости говорил он моей матери и тренеру Бобу, – они, уж конечно, получат академический балл за посадку сада.
– И университетскую благодарность за погрузку навоза! – говорил Айова Боб.
Другими словами, школа находилась в поисках собственной философии. Она теперь твердо считалась второсортной среди подготовительных школ. Хотя она и строила свой курс с опорой на академические знания, преподавательский корпус все менее и менее был способен преподнести эти знания и соответственно не видел потребности в таком умении, а ученики становились все менее восприимчивы. В школу поступало все меньше народа, а потому и условия поступления упростились; школа стала одним из тех мест, куда можно было немедленно поступить, если тебя вышвырнули из другой школы. Некоторые преподаватели, которые, как мой отец, верили, что людей надо учить чтению, письму и даже правилам пунктуации, считали возню с такими учениками пустой тратой времени и готовы были махнуть на них рукой.
– Бисер перед свиньями, – изрекал мой отец. – Мы с таким же успехом можем учить их косить сено и доить коров.
– Они и в футбол не могут играть тоже, – сокрушался тренер Боб. – Они не хотят блокировать друг друга.
– Они не могут даже бегать, – говорил отец.
– Они не могут никого ударить, – говорил Айова Боб.
– Еще как могут, – заявил Фрэнк, который всегда встревал в разговор.
– Они залезли в оранжерею и совершили там акт вандализма. Повредили растения… – сказала мать, которая читала об этом инциденте в школьной газете, которую отец называл безграмотной.
– Один из них показал мне свою штучку, – сообщила Фрэнни, которая всегда что-нибудь вставляла некстати.
– Где? – спросил отец.
– За хоккейным полем, – ответила Фрэнни.
– А что ты вообще делала за хоккейным полем? – недовольно, как всегда, поинтересовался Фрэнк.
– Хоккейное поле в полной непригодности, – сказал тренер Боб. – За ним никто не ухаживает с тех пор, как уволился этот человек, не помню как его звали.
– Он не уволился, он умер, – сказал отец.
Теперь, когда Айова Боб состарился, отец часто раздражался, беседуя со своим отцом.
В 1950 году Фрэнку было десять, Фрэнни – девять, мне – восемь, а Лилли – четыре; Эгг только что родился и по невинности своей не разделял нашего ужаса при мысли о том, что в один прекрасный день нам придется пойти в эту проклятущую школу. Отец считал, что к тому времени, когда Фрэнни настанет пора пойти в школу, туда будут принимать и девочек.
– Не из каких-то там прогрессивных помышлений, – заявлял он, – а просто чтобы избежать банкротства.
Он, конечно, оказался прав. К 1952 году академические стандарты школы Дейри вызывали сомнение; народу поступало все меньше, а с качеством поступающих дело обстояло и того хуже. Чем меньше учеников поступало в школу Дейри, тем выше становилась плата за обучение, что также лишало школу учеников, и в результате учительский штат приходилось сокращать, а некоторые преподаватели – с принципами и каким-либо независимым доходом – сами подавали в отставку.
В 1953 году школьная футбольная команда подошла к концу сезона со счетом 1:9; тренер Боб считал, что школа ждет не дождется, когда он уйдет в отставку, дабы навсегда покончить с футболом; это было слишком накладно, а бывшим питомцам, которые прежде финансово поддерживали футбол, да и всю физкультурную программу школы Дейри, стало стыдно приходить и смотреть на их игру.
– Все это из-за чертовой школьной формы, – заявил Айова Боб; отец закатил глаза и постарался с терпением отнестись к надвигающейся старости Боба.
Отец знал старость по Эрлу. Но, честно говоря, тренер Боб по поводу формы был не совсем не прав.
Цвета школы Дейри были взяты от ныне вымершей породы коров – по замыслу темно-шоколадный и ярко-серебряный. Но с годами, с ростом производства синтетических тканей, это насыщенное какао с серебром стало тусклым и мрачным.
– Цвет глины с облаками, – говорил мой отец.
Учащиеся школы Дейри, которые играли с нами, ребятами, когда не показывали Фрэнни свои штучки, просветили нас, как еще называют цвета, которые были символами школы. Старший ученик по имени Де Мео – Ральф Де Мео, одна из немногих звезд Айовы Боба и звезда весенних и зимних спринтерских забегов у отца, – объяснил Фрэнку, Фрэнни и мне, что в действительности эти цвета значат.
– Серый – все равно что цвет лица покойника, – сказал Де Мео.
Мне было десять, и я его боялся; Фрэнни было одиннадцать, но она вела себя так, как будто была старше его; Фрэнку было двенадцать, и он боялся всех.
– Серый – все равно что цвет лица покойника, – медленно повторил Де Мео для меня. – А коричневый, коровье-коричневый, как цвет испражнений, – сказал он. – Испражнения – это значит говно, Фрэнк.
– Я знаю, – сказал Фрэнк.
– Покажи мне это опять, – сказала Фрэнни Де Мео; она имела в виду его штучку.
Таким образом, смерть и дерьмо были цветами умирающей школы Дейри. Пытаясь преодолеть это проклятие, а заодно и другие, тянущиеся от коровьей истории и не слишком изящной старины Нью-Гэмпшира, правление школы и решило начать принимать женщин в число учащихся.
– Это, по крайней мере, поднимет требования.
– Для футбола это будет конец, – сказал старый тренер Боб.
– Девочки играют в футбол лучше, чем большинство твоих парней, – сказал отец.
– Я это и имел в виду, – подтвердил Айова Боб.
– Ральф Де Мео играет очень хорошо, – заметила Фрэнни.
– Играет с чем очень хорошо? – спросил я, и Фрэнни пнула меня под столом.
Фрэнк сидел мрачный; больше любого из нас он находился в опасной близости от Фрэнни и как раз напротив меня.
– У Де Мео, по крайней мере, есть скорость, – сказал отец.
– Де Мео, по крайней мере, умеет бить, – сказал тренер Боб.
– Это уж будь уверен, – сказал Фрэнк.
Фрэнку несколько раз доставалось от Де Мео.
Именно Фрэнни как-то защитила меня от Ральфа. Однажды мы наблюдали, как они красили линии на футбольном поле, – вдвоем с Фрэнни мы прятались от Фрэнка (мы часто прятались от Фрэнка). Де Мео подошел и толкнул меня к бортику. На нем была его футбольная форма: дерьмо-исмерть номер 19 (его возраст). Он снял шлем, выплюнул загубник на гаревую дорожку и блеснул Фрэнни своими зубами.
– Вали отсюда, – сказал он мне. – Мне надо круто побазарить с твоей сестрой.
– Не надо его толкать, – заметила Фрэнни.
– Ей только двенадцать, – сказал я.
– Вали, – сказал Де Мео.
– Не надо его толкать, – сказала Фрэнни Де Мео, – ему всего одиннадцать.
– Я хотел тебе сказать, что очень жалко, – сказал ей Де Мео. – Когда ты сюда поступишь, меня уже здесь не будет. Я уже окончу школу.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросила Фрэнни.
– Они собираются принимать сюда девчонок, – ответил Де Мео.
– Знаю, – сказала Фрэнни. – Ну и что с того?
– Просто жаль, вот и все, – сказал он ей. – Меня здесь не будет, когда ты наконец достаточно подрастешь.
Фрэнни пожала плечами; это было мамино пожатие плечами, независимое и симпатичное. Я поднял с гаревой дорожки загубник Де Мео – скользкий и облепленный песком – и запустил в него.
– А не запихать ли тебе его обратно в рот? – спросил я его.
Я мог быстро бегать, но не думал, что сумею бежать быстрее Де Мео.
– Вали, – сказал он.
Он швырнул загубник мне в голову, но я увернулся. Тот куда-то улетел.
– А что это ты не играешь? – спросила его Фрэнни.
За серым деревянным забором, который окружал «стадион» школы Дейри, начиналось футбольное поле, и оттуда доносился стук наплечников и шлемов.
– У меня в паху травма, – сказал Де Мео Фрэнни. – Хочешь посмотреть?
– Надеюсь, у тебя это отвалится, – сказал я.
– Я ведь могу тебя и поймать, Джонни, – сказал он, продолжая глядеть на Фрэнни.
Никто не называл меня Джонни.
– С твоей травмой тебе меня не поймать, – сказал я.
Я оказался не прав; он нагнал меня на сорокафутовой отметке и ткнул лицом в свежую краску. Он как раз встал коленями мне на спину, когда я услышал, как он резко выдохнул; он свалился с меня и лежал на боку на гаревой дорожке.
– Господи, – сказал он тихим, слабым голосом.
Фрэнни ухватилась за жестяную чашечку в его бандаже и резко ее крутанула вокруг его интимных органов, как мы это тогда называли.
После этого мы оба смогли убежать.
– Откуда ты знала? – спросил я ее. – Про эту штуку у него в бандаже? Я хочу сказать, про чашечку?
– Он мне как-то показывал, – мрачно сказала она.
Мы тихо лежали в сосновых иголках глубоко в лесу, который простирался за спортивным полем; мы слышали свистки тренера Боба и столкновения игроков, но были укрыты от них от всех.
Фрэнни никогда не возмущалась, когда Де Мео колотил Фрэнка, и я спросил, почему она вмешалась, когда Ральф попытался намять бока мне.
– Ты не Фрэнк, – свирепо сказала она.