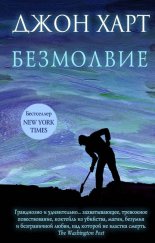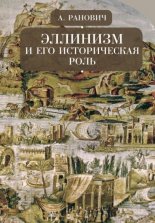Планета мистера Заммлера Беллоу Сол

– Вальтер, мне жаль. Жаль, что ты страдаешь.
Странные вещи происходили в комнате Заммлера. В присутствии его бумаг, книг, сигарной тумбочки, раковины, электроплитки и жаропрочной колбы.
– Я буду за тебя молиться, Вальтер.
Брух перестал плакать – очевидно, от удивления.
– Что ты будешь делать, дядя Заммлер? Молиться? – Голос Вальтера утратил баритональную музыкальность. Он снова принялся грубо выплевывать слова. – Значит, дядя Заммлер, у меня женские руки, а у тебя молитвы?
Раздался брюшной смех. Вальтер хохотал и фыркал, смешно раскачиваясь всем телом вперед-назад, держась за бока, зажмурив глаза и показывая ноздри. Однако он не насмехался над Заммлером. Вовсе нет. Такие вещи следовало различать. Различать, и различать, и различать. Все дело было именно в различении, а не в объяснении. Объяснение – это для масс. Для образования взрослого населения. Для развития общественного сознания. Для ментального уровня, сравнимого, скажем, с экономическим уровнем жизни пролетариата 1848 года. Но различение? Это более высокая ступень.
– Я буду за тебя молиться, – повторил Заммлер.
После этого разговор вошел на некоторое время в обычное русло приятельской беседы. Заммлер был ознакомлен с содержанием писем, которые Брух послал в «Пост», «Ньюздэй» и «Таймс», полемизируя с их музыкальными обозревателями. На сцену снова вернулся густо загримированный Вальтер-клоун: драчливый, нелепый, грубый, смешной. А Заммлеру хотелось немного отдохнуть. Привести себя в порядок. Шумное гортанное дадаистское шутовство Бруха было заразительно. Заммлер чуть не сказал, переняв его тон: «Изыди, Вальтер! Убирайся, чтобы я мог о тебе помолиться!» Но Брух вдруг спросил:
– Когда ждешь зятя?
– Кого? Айзена?
– Ну да. Он приезжает. Если уже не приехал.
– Я не знал. Он много раз грозился перебраться в Нью-Йорк, но для того чтобы продавать здесь свои картины. Шула ему не нужна.
– Знаю, – сказал Брух. – Она так его боится…
– Ничего у них не выйдет. Он слишком агрессивен. Она действительно боится его, но все же будет польщена: вообразит, что он приехал ее отвоевывать. На самом деле Айзен о женщинах не думает. Ему подай выставку на Мэдисон-авеню.
– Твой зять так много о себе мнит?
– В Хайфе он выучился на печатника и гравера. В его мастерской мне сказали, что он надежный работник. Но потом Айзен увлекся искусством: в свободное время стал заниматься живописью и делать офорты. Всем родственникам разослал их портреты, сделанные по фотографиям. Не видел? Они отвратительны. Порождения больного ума и уродливой души. Не знаю, как ему это удалось, но при помощи цвета он сделал портретируемых совершенно бесцветными. Все стали похожи на покойников с черными губами и красными глазами. Не лица, а какое-то недоеденное жаркое из зеленоватой печенки. И в то же время похоже на мазню девочки, которая всем пририсовывает губки бантиком и длинные реснички. Я, честно говоря, ужаснулся, когда увидел себя в образе пупсика из катакомб. Айзен плюс ко всему использует глянцевый лак, под которым я выглядел совсем как в гробу. Можно подумать, самой смерти мне будет мало: надо ее предварительно отрепетировать. Впрочем, пускай приезжает. Не исключено, что безумная интуиция не обманывает его. В Нью-Йорке любят бодрых маньяков. Многие высоколобые интеллектуалы уже объявили безумие высшей мудростью. Айзен, чего доброго, мог бы прославиться, если бы писал в таком стиле государственных деятелей: Линдона Джонсона, генерала Вестморленда, Раска, Никсона или Мелвина Лейрда. Если власть и деньги сводят людей с ума, то почему бы людям не обретать власть и деньги через сумасшествие? Было бы логично.
Заммлер разулся, и его длинным костлявым ногам стало холодно. Он прикрыл их размахрившимся атласным одеялом. Решив, что пожилой джентльмен хочет спать или разговор принял неинтересный для него оборот, Брух попрощался. Натянул черное пальто, нахлобучил тугую кепку и суетливо убежал куда-то. Короткие ноги, задница, как мешок, на брюках велосипедные зажимы… Разве это не самоубийство – ездить на велосипеде по Манхэттену?
Заммлер вернулся к размышлениям о карманнике, о том, как этот негр прижал его своим телом к грыжеобразно вспученным тканевым обоям подъезда. Вспомнил две пары темных очков. Похожий на толстую рептилию член, свисающий с ладони. Розовато-коричневатый (как у лежалого шоколада) цвет этой штуковины откровенно ассоциировался с младенцами, которых она должна была порождать. Уродливая, противная, смехотворная, но все-таки исполненная значительности. Под натиском тех мыслей, которым он уже не пытался противиться, мистер Заммлер привык по-своему, по-другому расставлять акценты в интимных вопросах. Разумеется, он и карманник были очень разные. Во всем. И по уму, и по характеру, и по духу. Их разделяли целые мили. Что же касается сугубо биологического аспекта, то раньше мистер Заммлер считал себя вполне привлекательным в этом отношении – на еврейский манер. Только это никогда для него много не значило, а сейчас, на восьмом десятке, еще меньше, чем когда-либо. А тем временем весь западный мир был охвачен сексуальным безумием. Заммлер смутно припомнил, что где-то слышал, как тем аргументом, к которому прибег негр-карманник, воспользовался сам президент Соединенных Штатов. Попросив дам удалиться, он продемонстрировал себя представителям прессы и спросил: «Неужели мужику с такими причиндалами нельзя доверить страну?» История, конечно, была апокрифическая, но (если учитывать личность главы государства) не совсем невероятная. Потом большое значение имел сам тот факт, что этот анекдот возник и расползся на весь город, добравшись даже до вестсайдской комнатушки Заммлера. Еще один симптом – последняя выставка Пикассо, на открытие которой Заммлера привела Анджела. Это был не только показ произведений искусства, но и демонстрация в сексуальном смысле. Пикассо под старость стал одержим вагинами и фаллосами. Охваченный яростной и комичной болью прощания, он создавал половые органы тысячами, а то и десятками тысяч. Лингам и йони[44]. Заммлер подумал, что, внезапно придя ему на память, эти санскритские слова его озарили. Немного расширили горизонт. Однако их эффекта оказалось недостаточно для того, чтобы разобраться в такой проблемной теме. А тема была очень проблемной. Заммлеру вспомнилось одно из заявлений Анджелы Грунер. Как-то раз, после нескольких бокалов, она, веселая и смеющаяся, почувствовала себя с дядей Заммлером совсем свободно (до грубости) и выпалила ему: «Еврейский мозг, негритянский член, нордическая красота – вот чего хочет женщина». Таков ее образ идеального мужчины. Что ж, у нее, между прочим, кредитные счета в самых шикарных магазинах Нью-Йорка, она может себе позволить выбирать лучшее со всего света. Если того, чего ей хочется, нет у Пуччи, она закажет это в «Эрмесе». У Анджелы есть все, что покупается за деньги. Все, что могут дать человеку роскошь, красота и сексуальная изощренность. Если бы она могла найти своего идеального самца, этот продукт божественного синтеза, она бы сумела сделать так, чтобы для него игра стоила свеч. Анджела ни перед кем бы не оробела – на сей счет можно было не сомневаться. В минуты, подобные этой, мистер Заммлер получал особое удовольствие от своих лунных мечтаний. Артемида – богиня луны и целомудрия… Переселившись на другую планету, люди должны будут усердно трудиться только затем, чтобы жить, чтобы дышать. Им придется строго следить за мерными шкалами бесчисленных приборов. Условия станут совсем другими. Суровые служители техники превратятся почти что в священников.
Если к мистеру Заммлеру не приходил Брух со своими навязчивыми исповедями, то приходила Маргот: после трех лет добропорядочного вдовства она снова начала задумываться о сердечных делах (разумеется, это были не столько практические замыслы, сколько всесторонние теоретические дискуссии ad infinitum[45]). Если не приходила она, то приходил Феффер – герой бесконечных альковных приключений. Если же не являлся и он, тогда для доверительной беседы являлась Анджела. Правда, «доверительная беседа» – слова не совсем подходящие. Скорее это было выплескивание хаоса – акт, часто принимавший тираническую форму, особенно с тех пор, как отцу Анджелы стало нездоровиться (сейчас Грунер вообще угодил в больницу). По поводу этого хаоса у Заммлера были кое-какие идеи. У него на все был свой взгляд – весьма оригинальный, но чем, как не им, руководствоваться в жизни? Конечно, Заммлер понимал, что может ошибаться. Ведь он европеец, столкнувшийся с американскими феноменами. Непонимание Америки европейцами порой принимает комичные формы. Заммлер помнил, как после первого поражения Стивенсона[46] многие беженцы собрались бежать дальше, в Мексику или Японию, поскольку были уверены, что Айк установит в стране военную диктатуру. Но как бы ни складывались отношения между двумя континентами, кое-какие европейские заимствования прижились в Америке очень хорошо. Прежде всего, психоанализ и экзистенциализм. Оба явления связаны с сексуальной революцией.
Вне зависимости от правоты или неправоты мистера Заммлера, над Анджелой Грунер сейчас нависли тяжелые облака. Ее – свободную, богатую, очаровательную и лишь самую малость грубоватую – ожидала большая печаль. Первая причина – проблемы в отношениях с Уортоном Хоррикером. Он нравился ей, она была им увлечена, возможно, даже любила его. В последние два года Заммлер мало слышал о других мужчинах. Верность, строгая и буквальная, вообще-то не значилась у Анджелы в меню, но потребность в Хоррикере делала ее старомодной. Этот молодой человек занимался исследованиями рынка в какой-то фирме на Мэдисон-авеню, слыл королем статистики. Был младше Анджелы. Спортсмен (теннис, тяжелая атлетика). Родом из Калифорнии. Высокий, превосходные зубы. Дома держал гимнастическое оборудование. Анджела говорила про наклонную доску с ножными ремнями для упражнений на пресс и стальную перекладину для подтягиваний в дверном проеме, а еще про холодную мебель из хрома и мрамора, кожаные аксессуары, британские офицерские складные стулья, предметы оп- и поп-арта, множество зеркал и отраженный свет. Хоррикер был хорош собой – Заммлер не спорил, хотя и считал, что этот энергичный, немного недооформившийся молодой красавец, вероятно, имеет природную склонность к тому, чтобы стать негодяем. (Иначе зачем ему столько мускулов? Неужто для здоровья, а не для бандитизма?) «А как одевается!» – восторгалась Анджела хрипловатым голосом комической актрисы. По-калифорнийски длинноногий, узкобедрый, с рассыпчатыми длинными волосами, мило вьющимися сзади на шее, это был ультрасовременный денди. Очень придирчивый не только к своей, но и к чужой одежде. Даже Анджела подвергалась строгой инспекции в духе вест-пойнтского военного училища. Однажды, решив, что она одета неподобающе, Хоррикер бросил ее на улице. Перешел на другую сторону. Изготовленные на заказ рубашки, туфли и свитеры регулярно поставлялись ему из Лондона и Милана. Анджела говорила, что, когда Уортон сидит в кресле своего парикмахера (нет, «стилиста»!), хочется играть духовную музыку. Он стригся у грека на Пятьдесят шестой авеню в Ист-Сайде. Да, Заммлер много знал об Уортоне Хоррикере. О его здоровом питании. (Хоррикер даже приносил Заммлеру баночки с сухими дрожжами, улучшающими пищеварение, и тот оценил их благотворный эффект.) А галстуки! У Хоррикера была целая коллекция восхитительных галстуков. Неизбежно напрашивалось сравнение с чернокожим карманником. Об этом культе мужской элегантности следовало поразмыслить. Туманно припоминалось что-то важное: о Соломоне во всей его славе и о полевых лилиях[47]. Как бы то ни было, невзирая на нетерпимость к плохо одетым людям, надменную привычку себя баловать и щеголеватое имя этого американского еврея в третьем поколении, Заммлер не пренебрегал тем, чтобы всерьез подумать о нем. Сочувствовал ему, понимая, какой дезориентирующей и растлевающей силой обладают чары Анджелы. Ведь она действует коварно, хотя и не имеет такого намерения, а хочет лишь веселиться, дарить радость, быть яркой, свободной, красивой и здоровой. Относиться к жизни, как большинство молодых американцев (поколение пепси – так, кажется, они себя называют). Откровенничая с дядей Заммлером, Анджела оказывала ему честь. Почему именно ему? Из всех пожилых беженцев она считала его самым понимающим, самым образованным, самым европейски-широко-разносторонне-гибко-продвинуто мыслящим, самым молодым в душе. К тому же она полагала, что дядя Заммлер очень интересуется всяческими новыми веяниями. Не делал ли он над собой некоторых усилий, чтобы заслужить такую оценку? Не одалживал ли себя с охотой, не подыгрывал ли Анджеле, исполняя роль старого мудрого европейца? Если так, то ему следовало самому на себя обидеться. А именно так это и было. От молодой родственницы Заммлер слышал признания, которых не хотел слышать. Подобно тому, как в автобусе видел человеческие поступки, которых не хотел видеть. Но разве он не ездил снова и снова по одному и тому же маршруту, чтобы посмотреть на чернокожего вора?
Анджела описывала дяде события своей жизни прямолинейно и без умолчаний. Заходила в его комнату, снимала пальто и платок, встряхивала освобожденными волосами, окрашенными под енотовый мех и пахнущими арабским мускусом (этот запах потом держался, как ореховая морилка на пальцах, на всем плохоньком текстиле заммлеровской спальни: на сиденьях стульев, на покрывале и даже на шторах). Анджела садилась. На ногах белые чулки в «гусиную лапку» (или, как говорят французы, pied de poule), на щеках буйный румянец, голубые глаза сексуально темнеют, белая плоть горла пышет жизненными силами. Одним своим видом Анджела делала громкое заявление от лица своего пола в адрес противоположного. Сейчас люди считают необходимым слегка заглушать подобные высказывания комическими нотками, и Анджела следовала этой тенденции. В Америке определенные формы успеха требуют сопровождающего элемента пародии, насмешки над собой, сатиры, направленной на себя. Это можно было наблюдать на примере актрисы Мэй Уэст и сенатора Дирксена. В словах Анджелы иной раз как будто бы тоже сквозил чужой мстительный разум. Стул, на котором она сидела, положив ногу на ногу, казался слишком хрупким и прямым для ее бедер. Она открывала сумочку, доставала сигарету, Заммлер подносил зажигалку. Ей нравились его манеры. Выпуская дым через ноздри, она, если была в хорошей форме, глядела весело, с легкой хитрецой. Прекрасная дева. А Заммлер старый отшельник. Когда от избытка дружеских чувств к нему она начинала смеяться, оказывалось, что у нее большой рот и большой язык. Внутри элегантной женщины сидела вульгарная. Губы были красные, зато язык часто бледный. Этот язык, женский язык, играл, очевидно, незаурядную роль в ее свободной роскошной жизни.
На первое свидание с Уортоном Хоррикером она вприпрыжку примчалась из Ист-Виллиджа. Нужно было успеть добраться из южной части Манхэттена в северную с какой-то тусовки, от которой не получилось отговориться. Травку она в тот вечер не курила, только пила виски. От травы она никогда так не кайфовала, как ей особенно нравилось. Четыре раза позвонила она Уортону из переполненного клуба. Он сказал, что должен спать: уже второй час ночи. Он помешан на сне, на здоровье… Но Анджела все-таки ворвалась к нему, взасос его поцеловала и громко объявила: «Будем трахаться до утра!» Только сначала ей нужно было помыться, потому что весь вечер она томилась от предвкушения. «Женщина как скунс. У нас столько запахов, дядя!» – пояснила она. Сняв с себя все, но забыв про колготки, Анджела плюхнулась в ванну. Обалдевший Уортон сидел в халате на крышке унитаза, пока она, краснолицая от виски, намыливала грудь. Как ее грудь выглядит, Заммлер прекрасно себе представлял, ибо глубоко декольтированные платья Анджелы мало что скрывали. Итак, она намылилась, ополоснулась, мокрые колготки были с трудом, но весело стянуты, и Хоррикер за руку подвел ее к постели. Точнее, она его: он шел сзади, целуя ее плечи и шею. «О!» – вскрикнула она и была покрыта.
Мистеру Заммлеру полагалось благосклонно выслушивать подобные рассказы, изобилующие всяческими интимными подробностями. Любопытно, что Герберт Уэллс более умно и тактично, однако тоже говорил с ним о своих сексуальных страстях, хотя от такой высокоинтеллектуальной личности кто-нибудь, пожалуй, мог ожидать взглядов, более созвучных позиции Софокла: «Я с величайшей радостью ушел от этого, как уходят от яростного и лютого повелителя»[48]. Нет, ничего подобного. Насколько Заммлер помнил, на восьмом десятке Уэллс все еще страстно увлекался девушками, убедительно аргументируя это тем, что возросшая продолжительность жизни должна повлечь за собой пересмотр норм сексуального поведения. Раньше человек, измученный тяжелым трудом и плохим питанием, умирал лет в тридцать, успев к этому возрасту исчерпать свою половую силу. Ромео и Джульетта были подростками. В цивилизованном обществе средняя продолжительность жизни приближается к семидесяти годам, значит, старые стандарты грубой поспешности, преждевременного истощения и ранней обреченности пора отбросить. Злясь и даже постепенно приходя в ярость, Уэллс говорил о границах возможностей человеческого мозга, о его слабеющей с годами способности живо интересоваться новыми событиями. Утопист, он не представлял себе, что то будущее, на которое он надеется, станет эпохой сексуального переизбытка, порнографии, аномалий. Скорее, он ждал, что, когда будет счищена прежняя мрачная болезненная грязь, появится новый человек – более высокий, сильный, зрелый, мозговитый. Хорошее питание и кислород прибавят ему жизненной энергии. Он сможет есть и пить разумно, быть автономным в своих желаниях и регулировать их, ходить голым и притом спокойно исполнять свои обязанности, заниматься завораживающим и в то же время полезным умственным трудом. Да, тот трепет, который на протяжении веков вызывала у человечества преходящность смертной красоты и земных удовольствий, скоро пройдет. Сменится мудростью, порожденной продлением нашего срока.
О морщинистые лица, седые бороды, глаза, «источающие густую камедь и сливовую смолу», о полнейшее отсутствие ума и слабые поджилки… Прочь из этого воздуха, по-крабьи задом наперед в могилу…[49] У Гамлета был свой взгляд на это. Много раз Заммлер выслушивал Анджелу, лежа на своей кровати и двумя разными глазами рассматривая два (как минимум) комплекса проблем. Сильная резь между ребром и бедром заставляла его присогнуть одну ногу в тщетном поиске облегчения. От этого лицо принимало слегка укоризненное и в то же время сочувственное выражение. Каждодневная столовая ложка пищевых дрожжей (первичного продукта натуральных сахаров, который он растворял в соке и взбалтывал до розовой пены) помогала ему сохранять здоровый цвет лица. Одним из преимуществ долгожительства было, пожалуй, божественное умение себя забавлять. Можно представить, как забавляется Бог, создавая модели, способные развиваться в течение долгого времени! Заммлер знал бабушку и деда Анджелы. Они были ортодоксальными иудеями. Тем любопытнее ему казалось ее язычество. Иногда он сомневался в том, что евреи пригодны для нынешнего римско-вудуистского эротического примитивизма, что отдельный человек может освободиться от многовековой ментальной дисциплины и наследственной привычки подчиняться законам. Невзирая на стремление к эротическому лидерству, демонстрируемое современными еврейскими исследователями ума и души, Заммлер все же не расставался со своими сомнениями.