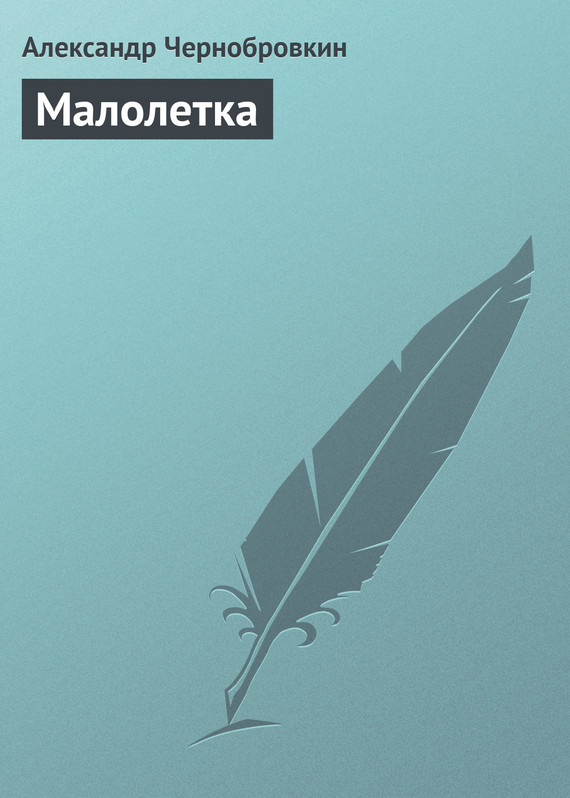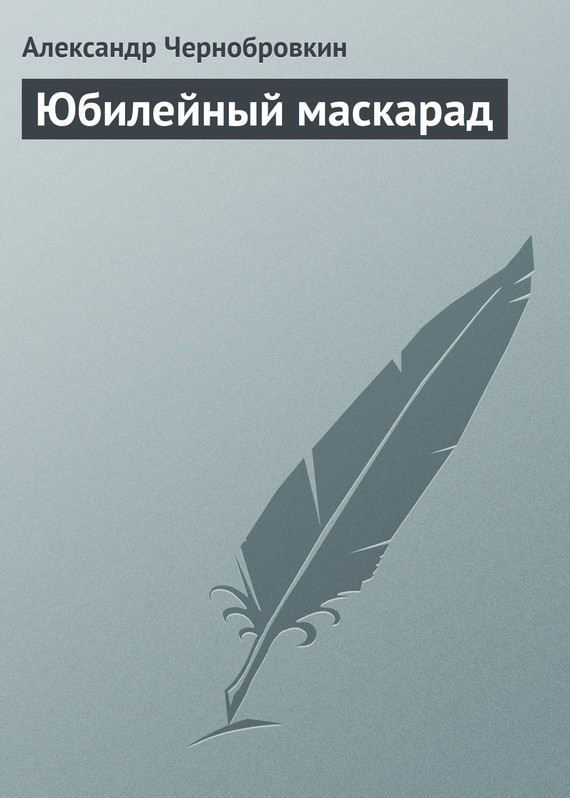Блокада Ленинграда. Народная книга памяти Коллектив авторов
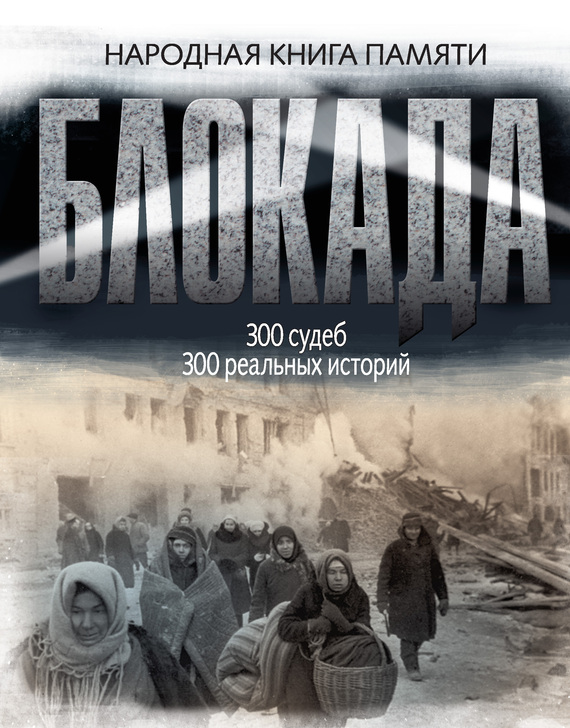
После войны Людмила Владимировна окончила 283 школу в Ленинском районе, жила с матерью, которая вернулась из Франции, где почти всю войну содержалась в концлагере. Трудовой стаж Людмилы Владимировны более 40 лет, Ветеран труда. Вырастила дочь, есть два внука. В Стрельне поселилась в начале 50-х годов, сейчас живет в Петергофе. Ведет большую общественную работу, казначей в Обществе жителей блокадного Ленинграда 2-го микрорайона.
Артюхевич Галина Александровна
Война пришлась на мою юность
У войны свои дороги, и каждому досталось сполна… Великая Отечественная пришлась на нашу юность. В 1941 году я как раз окончила школу в Ленинграде и решила поступать в пединститут, но вместо этого получила направление на работу в детский сад воспитателем. В тот год была создана комиссия по выявлению детей, потерявших родителей, и начали массово открываться детские дома. На долю воспитателей выпали тяжелые испытания. Ежедневно в детские учреждения поступало огромное количество истощенных ребятишек, а потом началось сокращение продуктов и хлеба. Город уже находился под огнем артиллерии врага. 19 сентября 1941 года фашистская авиация сбросила на Ленинград полтысячи фугасных и почти полторы тысячи зажигательных бомб, а где-то через неделю последовало новое сообщение о сокращении норм хлеба: рабочим полагалось по 300 граммов, служащим и детям – по 125 граммов. Да, это уже была ленинградская блокада…
Опасаясь вражеских налетов на Ленинград, детей начали вывозить в южные районы области, однако не учли угрозы оккупации этих районов. Наш детский сад получил направление на станцию Неболочи в Ленинградскую область. Детям сказали, что едем на дачу, но жить там пришлось недолго. Однажды, гуляя с воспитанниками на нашей любимой поляне у леса, я услышала немецкую речь и поняла, что надо быстро возвращаться к дому. Передо мной стояла задача – быстро собрать детей. Тогда я сказала ребятам: «Кто быстрее добежит до дома, получит приз». Я их только и видела! Проходя мимо вышки воинской части, я увидела солдата, несшего дежурство. Предупредила его, что в лесу немцы. Он сказал, чтобы мы собирали вещи и что в ночь на подводах нас отвезут на вокзал. Дачники в поездах покатили обратно на свою родину. А нас там встретили частые обстрелы и бомбежки. Детей из сада уже не разбирали по домам, и нас всех распределили по интернатам. Я получила назначение в детский дом № 11 Калининского района.
Приближалась зима. В тот год она была очень холодной, а отопления не было. Наш детский дом занимал помещение бывшей школы на Полюстровском проспекте. Обогревались буржуйкой, которую топили школьными партами. Ночевали только в бомбоубежищах. Ко всему привыкли, кроме голода. Голод косил всех: и взрослых, и детей. Работникам детских учреждений пришло специальное распоряжение: «Отвлекать детей от разговоров и рассказов о пище». Но, как ни старались это делать, не получалось. Шести– и семилетние детишки, как только просыпались, начинали перечислять, что им варила мама и как было вкусно. В итоге все шишки сыпались на нашего повара. Тогда она придумала свой рецепт и назвала его «витаминчики». Повар жила у лесопарка и по дороге на работу рвала сосновые иголки, кипятила их. Я же вечерами ходила в госпиталь, который располагался в здании Лесотехнической академии, помогала раскладывать порционно для раненых бойцов сахарный песок и масло. За это мне давали две столовых ложки песку, который мы добавляли в «витаминчики». Давали детям по полстакана этого напитка, и все были довольны. Но и это вскоре прекратилось, а следовательно, возобновились разговоры о «маминой еде». Тогда я нашла решение: сказала детям, что знаю, почему у нас нет прежней еды. Все притихли, а я продолжила: потому что все съел Гитлер и его армия. «Когда его поймают и разобьют армию фашистов, тогда у нас опять все будет, но для этого надо, чтобы вы перестали говорить о еде! – сказала я. – Для этого ваши папы и мамы ушли на фронт». И они мне поверили. А когда кто-то забывался, на него все ополчались, и он замолкал. В 1942 году для ослабленных детей стали выделять диетическое питание. Спасала Дорога жизни, через которую со всех сторон Большой земли приходило подкрепление. Зимой на подводах, а летом – баржами. Борьба за сохранность жизни детей блокадного Ленинграда была трудной, но благородной. Сейчас стесняются писать и говорить о многом: например, правду о количестве детей и взрослых, лежащих на дне Ладожского озера, о массовой вшивости и дистрофических поносах. Но для нас, работников детских учреждений, это навсегда осталось в памяти.
В третий этап эвакуации в 1942 году наш детский дом отправился по Дороге жизни, пролегавшей по льду Ладожского озера. Работа проходила в темпе – медлить было подобно смерти. Строй солдат образовал живой коридор, по которому из рук в руки передавали каждого ребенка и укладывали в барже на матрасы. Вот так мы отправились на противоположный берег, где нас ждал вкусный обед. Дальше путь пролегал по Большой земле на поезде до реки Волги, а оттуда – на красивом пароходе до Ульяновска. Свое 19-летие я встретила, проплывая мимо живописного местечка Жигули. Детей поместили в детский дом ульяновского села Бекетовка, а нас расселили по избам. Местные жители, зная, что мы ленинградцы, очень сердечно к нам относились, старались чем-нибудь угостить, много помогал и местный совхоз – снабжал парным молоком. Однажды нам привезли подарки из Америки. Слух быстро разнесся по селу, и все пришли посмотреть, чем пожертвовали «господа». Когда распечатали тюки, нашему удивлению не было предела. Для детей-сирот прислали туфли на каблуках, поношенные платья с кринолинами, шляпы с перьями и посуду с фашистскими знаками. Посуду мы сразу разбили, а детей нарядили и выпустили к народу, чтобы все знали, что нам дарят.
В марте 1945 года я получила повестку и мобилизационный листок. Мне было предписано в трехдневный срок явиться в Ленинград на восстановительные работы на завод металлоконструкций. Со мной в дорогу собирались еще несколько ленинградцев. Расставание с детьми было очень печальным. Отправились в путь, но до Ленинграда так и не доехали, только до Волховстроя, что на реке Волхов. От нас потребовали пропуск для проезда по мосту, но у нас его не было. В результате нас оставили на местном заводе, сказав, что это филиал головного. Мы чувствовали, что это обман, но в военное время рабочие руки были нужны везде. Нас определили в общежитие и отправили в литейный цех плавки на работу. У некоторых женщин были дети, и они, уходя на работу, оставляли своих чад в общежитии. Однажды, возвращаясь со смены, мы увидели у здания большую толпу. Оказалось, что все дети погибли, – в куче мусора они нашли снаряд, постучали по нему камнем, и все взлетело на воздух. Мы собрали все куски в ящик и похоронили ребятишек, а на следующий день не вышли на работу. Я составила телеграмму в Ленинград, написала про гибель детей, но ее не приняли. Тогда я решила в ответ на обман придумать хитрость. Познакомилась с девушкой, которая работала на телеграфе. Погуляла с ней, разработали обоюдный план за моей подписью, и телеграмма была отправлена в Министерство цветных металлов в Москву. Спустя четыре дня в общежитие зашли двое мужчин и приказали нам собираться. Мы решили, что это конец, а оказалось – спасение. Нас усадили в грузовик, повезли через мост, на середине у патруля сделали остановку, выставили ящик с водкой и поехали в Ленинград. На заводе всех определили на работы и предлагали обеспечить жильем. Я отказалась и поехала на свою квартиру, но она была занята новыми жильцами, а вещи мои разграблены. В итоге вернулась на завод и определилась в общежитие на Обводном канале. В отделе кадров мне сказали: раз сумела послать такую телеграмму, будешь работать помощницей коммерческого директора. Так я получила новую специальность.
День Победы я встречала в Ленинграде с огромным букетом полевых цветов. Это был настоящий праздник – солдаты-победители, уставшие и улыбающиеся, и жители блокадного города, труженики тыла – все были невероятно счастливыми, кричали «Ура!», обнимались, целовались, как старые знакомые. Мы поднимались, жили, нас называли одуванчиками, а город мы свой сохранили. В награду мне дали медаль – «За оборону Ленинграда».
Аспенников Александр Тихонович
Мы хвастались – у кого какой осколок
Когда началась война, мне было 8 лет, я должен был идти в первый класс. Я не сразу понял, что произошло, – были бомбежки, воздушные тревоги, но мне, восьмилетнему, казалось, что это не страшно. Мы, ребята, бегали, собирали осколки, хвастались между собой, у кого какой осколок.
Потом началась блокада. В это время эвакуировали детские сады, школы, но мама нас не отпустила. Первое время мы ходили в бомбоубежище, а потом мама просто сажала сестру и меня на кровать и садилась сама, чтобы если убьет, то сразу всех. Однажды меня контузило взрывом. Дом был разрушен, и нас переселили в барак рядом, в одной комнате жило несколько семей.
Мать ходила, искала где что поесть. Доставала детскую присыпку, пекла ее на сковородке. Брали горчицу, заливали ее водой, через несколько дней горечь сходила, и из нее тоже пекли лепешки.
Я уже не мог ходить, лежал на кровати. Над кроватью на гвоздике висело пальто. Когда приходила мать и давала мне кусочек хлеба, я клал его в карман пальто и по крошечке доставал и ел. Сестренка была помоложе и более пухленькая, она еще бегала. Голод я уже не очень хорошо помню, все притупилось.
Наш сосед работал на военном заводе, семью он отправил в эвакуацию. Помню, что он разводил и ел резиновый клей. Потом тоже умер.
Мама сумела достать нам эвакуационный билет. Сестра отца помогла нам добраться до вокзала, меня везли на санках, я сам идти не мог. Началась тревога, и все убежали с перронов, бросив вещи. Когда вернулись, вещей не нашли. Нас погрузили в теплушки и повезли к Ладожскому озеру, там быстро, бегом, пересадили в грузовик-полуторку с тентом. Перевезли через озеро, посадили в вагоны. Ехали долго, на остановках давали суп, иногда манную кашу и круглый хлеб в дорогу. Кто-то умирал, их сразу выгружали – двери были все время приоткрыты. Посередине теплушки стояла чугунная печка с трубой. Как-то я сушился у печки и сжег себе штаны. Состав гнали мимо Москвы, и мы вышли, поехали к бабушке в Томилино в Подмосковье. Там же я пошел в школу, потом в железнодорожное училище.
Бабуркина Галина Александровна (Бойкова)
Выжили только мы с сестрой
У нас была большая семья, а в войну выжили только мы с моей сестрой Тамарой. Соседка по квартире так все организовала, что нас забрали в один детский дом.
Увезли нас под Тюмень, в деревню Антипино. Помню, как местные жители кормили нас хлебом. Они плакали, когда смотрели на нас.
Нас кидало из одного детдома в другой, так мы и объехали практически все сибирские детские дома. Я прожила в них с 2 до 16 лет. Все наши воспитатели были коренными ленинградцами, очень добрыми и порядочными людьми. О них остались исключительно добрые и трогательные воспоминания.
Багадыров Урунбек
До конца блокады защищал Ленинград
Мой отец Багадыров Урунбек воевал с 1942 года у генерала Марецкого. В боях получил ранения в ноги, но, несмотря на это, до конца блокады защищал Ленинград. Получил офицерское звание. Отец не любил говорить про войну. Единственное, что он рассказывал, – историю о том, как у него на глазах убили друга, который полез первым готовить проход, а сослуживцы не смогли оказать ему помощь, чтобы не выдать всю группу. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». После войны служил в Невельской дивизии. Умер в 1980 году.
Хочется, чтобы и его небольшой вклад не был забыт.
Базилевич Валентина Григорьевна
Нас обстрелял немецкий самолет
Валентина Базилевич родилась в Ленинграде. Во время блокады от голода умер ее отец. Она вспоминает, как умирали на улицах люди, как немцы бомбили эшелоны, увозившие эвакуированных блокадников. В 1954 году вместе с мужем Валентина Базилевич переехала в Крым.
Сейчас волею судьбы мы оказались за границей – в Украине. А родилась я в Ленинграде, где прошли мое детство и часть юности. Вспоминаю тяжелые дни блокады, в которые мы потеряли многих своих родных. От голода умерла мамина сестра, мои двоюродные брат и сестра. А самое больное – в 39 лет умер мой папа. Умирая, он попросил что-нибудь покушать. Но нам нечего было ему дать. Страшно. Все мы уже ходили как тени.
Голод, холод. Ни воды, ни света. Бесконечные бомбежки. В бомбоубежище мы не ходили, хотя оно и было у нас во дворе. За водой ездили с саночками на застывшую Неву. Помню, однажды мама дала мне корочку хлеба, я проглотила ее и не почувствовала вкуса. Мне было так обидно, что я заплакала. Однажды мама шла по улице, и ее вдруг кто-то толкнул, она посторонилась, и человек упал прямо рядом. Он умер.
Полуживых, 9 марта 1942 года нас эвакуировали. Ехали мы на машине по застывшей Ладоге. Было очень страшно, так как лед уже подтаивал и машина могла в любой момент уйти под воду. Когда мы уже ехали на поезде, нас обстрелял немецкий самолет. Бомба попала прямо в паровоз. Мы все выскочили из поезда и спрятались в поле среди травы.
Эвакуировали нас с воинскими частями на Северный Кавказ, в г. Орджоникидзе, а затем в Тбилиси. Там я поступила в ремесленное училище, где мы работали по 12 часов и выпускали продукцию оборонного значения. По окончании училища я вернулась в Ленинград. Там я пошла работать на завод «Трубосталь». За хорошие успехи была выбрана депутатом в городской совет Ленинграда. В Ленинграде познакомилась с моим будущим мужем, который приехал в Ленинград из Крыма. В 1954 году мы с ним переехали в Крым.
Балицкая Ирина Михайловна
Из моей родни погибли 24 человека
Мой папа в первые же дни Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. До войны он был начальником отдела в большом ЦКБ. В Ленинграде я осталась с мамой и братом, который был младше меня на год. Во время войны мама работала в военном госпитале, и иногда ее сутками не было дома. Хорошо, что с нами по соседству жила бабушка, которая иногда заходила и приглядывала за мной и братом. Мы жили в Ломанском переулке (теперь это улица Комиссара Смирнова), в доме, где находился Выборгский Дворец культуры.
В первые дни войны, когда начиналась бомбежка, все убегали с детьми в бомбоубежище. У нас у всех за спиной были рюкзачки, в которых лежали подушки. Кушать уже было практически нечего. В 1941 – 1942 годах на город обрушивались сильные обстрелы и бомбежки. Около нас находилось здание Военно-медицинской академии, которую очень часто бомбили. В нашем доме тоже был военный госпиталь. Часто, когда мы бежали в бомбоубежище, мы видели в небе зеленые цепочки – это были следы от ракетниц, из которых пускали специальные снаряды, сигнализирующие летчикам, какие дома надо бомбить. То есть госпиталь был для фашистов как раз нужным объектом.
В нашем доме все время было очень холодно. Мы жили в комнате площадью 26 метров. Место, где мы спали, было отгорожено буфетом и шкафом. Однажды снаряд попал в здание напротив, у нас в комнате вылетели все стекла. Мы спаслись только потому, что на нас не упали буфет и шкаф. Потом мы заделали окна простынями и одеялами.
Чтобы хоть немного нас с братиком отвлекать, перед уходом на работу мама говорила, чтобы мы рисовали. Я, как и все девочки, всегда рисовала цветочки, принцесс, а братишка рисовал только подбитые самолеты и танки, причем и наши, и вражеские. Весной 1942 года брат умер от голода.
Когда уже было тепло, я ходила к маме в госпиталь. Там я читала раненым бойцам стихотворения и что-то перед ними танцевала. Однажды один из раненых угостил меня сухарем, в середине которого была дырка. Боец сказал, что этот сухарь был пробит, и он собирался оставить его на память, но я так хорошо танцевала и пела, что он решил его отдать мне. Это был такой подарок.
На первый салют, который был во время прорыва блокады, мы не ходили, сил просто не было. Но мы его слышали и уже знали, что скоро победа.
Помню день окончания войны – был очень солнечный день, шли войска, им навстречу бросали полевые цветы. Все окна были открыты. Люди встречали солдат кто с радостью, кто со слезами, потому что очень многие погибли. Из моей родни во время войны погибли 24 человека. Четверо из них лежат на Пискаревском мемориальном кладбище: мой дедушка, бабушка, дядя и брат. Другие наши родственники жили в разных районах Ленинграда, и мы даже не знаем, на каких кладбищах они похоронены.
Папа пришел с войны больной, он был серьезно ранен.
Я считаю, что в таких жестоких условиях холода и голода, бомбежек и обстрелов столько людей сумело выжить и сохранить город только благодаря вере в победу, мужеству и тому, что мы все время держались вместе и помогали друг другу.
Сейчас основная задача общества – это связь поколений. Мы, блокадники, часто бываем в школах и лицеях и общаемся с подростками. Эти встречи всегда получаются очень радостные и трогательные. Каждое 27 января, в день снятия блокады Ленинграда, мы со школьниками возлагаем цветы, ребята выступают перед нами, рассказывают стихи. В такие минуты сразу вспоминается собственное детство.
Баранов Юрий Леонидович
Я помню, как это выглядело, – живые скелеты
Юрий Леонидович родился в Ленинграде, закончил «Военмех». Работал мастером-технологом в Новосибирске, затем вернулся в родной город и защитил диссертацию. Позднее занимался подготовкой оборудования для производства числового программного управления (ЧПУ). Имеет сына.
Когда началась война, мне было пять лет. Перед этим я отдыхал в летнем детском садике в Толмачево, куда меня направили от работы отца. И вот началась война, приехал отец, чтобы забрать меня домой. А по закону того времени детей в детских садах и школах должны были перевозить организованно, никуда их развозить было нельзя. И вот отцу отказали, но все-таки с большим трудом ему удалось меня оттуда вытащить и, как оказалось потом, таким образом спасти меня от смерти. Детей, которых тогда повезли на Большую землю в эшелонах, накрыло во время бомбардировки, и все они погибли.
Помню, когда мы приехали в Ленинград, я помогал матушке клеить на окна бумажные кресты для того, чтобы при взрывах стекла не вылетали. Окна также зашторивали, чтобы не проходило ни лучика света. Когда включалась сирена, сообщавшая о начале воздушной тревоги, мы бежали в подвал, где пережидали налеты. По радио в эфире на частоте сердцебиения тикал метроном, на углах улиц стояли раструбы громкоговорителей и, когда начинался налет, объявляли: «Внимание, внимание, начинается воздушная тревога». Как-то рядом с нашим домом взорвалась бомба, и мы, обрадовавшись, что освободилось место, потом играли на этой площадке в футбол.
Электричества и отопления не было. В квартире топили печку и камин. Мы заготавливали дрова, и я таскал эти полешки из подвала, где они хранились, на пятый этаж.
Тогда ленинградцы сильно голодали, но в нашей семье было немножечко полегче. Мой отец был военным, служил на Балтийском флоте и пересылал нам продукты, которые ему полагались. В 1940 году родилась моя сестра, и моя мама сидела с ней. У нас были иждивенческие карточки, на них получали, по-моему, по 200 грамм хлеба. Я плохо помню, что мы ели, мальчишке трудно запомнить, потому что забота об этом лежала на родителях. Мой дед работал на хладокомбинате и тоже нам помогал. До революции он был приказчиком, затем перешел на сторону большевиков и занял пост начальника Наркомпроса. Ему дали трехкомнатную квартиру, где мы и жили. Потом он перешел работать на склады, и ему удавалось доставать где-то еду.
Запомнился такой случай. В нашем же доме жили мои родственники, сестры бабушки. У них была собака, великолепная овчарка. Что меня поразило, так это то, что, когда наступило голодное время, они ее не съели. Не смогли. Собака в результате умерла, и они ее где-то похоронили.
В 1942 году, после того как мы пережили самый тяжелый зимний период, нас отправили в эвакуацию. Мы поехали в Ярославскую область, в местечко Коровники. Там тоже жили плохо. Чтобы заработать, матушка ходила сдавать кровь, работала на сборке плотов для сплава древесины, сажала картошку. В это время моя сестра простудилась, заболела воспалением легких и умерла. Так я потерял сестру.
Помню, когда нас бомбили, мы с мальчишками собирали осколки и хвастались ими друг перед другом. Еще запомнилось, что, когда мы были в эвакуации в Ярославле, матушка потащила меня на спектакль «Волки и овцы» в драматический театр, почему-то она думала, что мне, мальчишке, эта взрослая пьеса будет интересна.
В 1944 году мне исполнялось 8 лет, и пора было идти в школу. Матушка решила забрать меня в Ленинград. И вот, чтобы добраться до поезда, она тащила меня 20 километров от деревни до станции в тридцатиградусный мороз.
Всех людей, которые приезжали в Ленинград, первым делом заставляли проходить санобработку. Все вещи, в которых люди приезжали, сжигались, чтобы уничтожить вшей. Потом все шли в баню, и я помню, как это выглядело, – живые скелеты!
В 1944 году в Ленинграде ситуация тоже была сложная. Помню, я ходил отоваривать карточки, и как-то у меня их чуть не украли. Ели и дуранду. После войны меня признали дистрофиком, но я не могу сказать, что сильно страдал в блокаду, все ужасы того времени отразились в основном на взрослых.
Бардышева Галина Викторовна
Немецкие самолеты кружили так низко, что казалось, вот-вот заденут березу
Я родилась в Ораниенбауме в 1932 году. Мы жили большой семьей в Красной (бывшей Троицкой) слободе, у дороги, в деревянном доме под номером 5. В 1938 году мой брат тяжело болел. Его выходил дедушка Иван Федорович Казаков. Сам он умер в сентябре, не дожив до 54 лет. Годом раньше развелись наши родители… Пожалуй, именно в связи с этими событиями я очень рано шагнула в мир взрослых и ощутила, что в их жизни давно и прочно поселилась тревога.
В сентябре 1941 года мама работала на строительстве оборонительных сооружений. Их команда рыла окопы на Гостилицком шоссе, многие оттуда не вернулись, когда наша оборона была прорвана и Петергоф пал. Маме, по счастью, удалось выбраться.
В первый год войны школы в Ораниенбауме были закрыты. Некоторые ораниенбаумские блокадники утверждают, что учились тогда в подвале дома № 51 по проспекту Юного ленинца. Я не согласна с такой трактовкой событий. Действительно, в 1942 году в подвале-бомбоубежище дома № 51 какое-то время собирались жившие поблизости школьники средних классов, приходили и некоторые их учителя. Они беседовали, обменивались впечатлениями, читали книги, многие приносили с собой учебники. Учителей уважали, их с интересом слушали, но это общение было неформальным, не являлось обязательным, не было массовым и организованным, то есть его нельзя расценивать как учебный процесс.
В воскресенье 22 июня 1941 года у нас были гости – дядя Вася с семьей. Кадровый военный Василий Васильевич Казаков был дедушкиным племянником. В тот день мы рано сели обедать, так как потом собирались идти в парк. Вдруг по радио сообщили, что началась война. Я только окончила первый класс «парковской» школы – так называли обычную школу, размещавшуюся в старинном здании Картинного дома в Нижнем парке. Мне было тогда 9 лет, моему брату Вове (Владимир Викторович Тумашев) – 6,5 года.
С первых дней войны через жилищные конторы развернулась бурная деятельность по обеспечению самообороны. Прежде всего готовились к воздушным налетам и бомбежкам. К нашим деревянным домам подвезли песок, глину, бочки для воды и противопожарный инвентарь (ведра, багры, щипцы). Все это надо было перетащить на чердаки. Дети помогали взрослым. Мы разводили глину с водой и обмазывали ею балки на чердаке: считалось, что это должно защитить деревянные конструкции от огня. На оконные стекла мы клеили крест-накрест полоски бумаги.
Июльским днем в небе появились два немецких самолета. Они кружили так низко, что казалось, вот-вот заденут березу возле нашего дома. Вероятно, это были самолеты-разведчики. В конце лета или начале сентября в Ораниенбауме появились первые беженцы, многие из них пришли из Петергофа.
Городское население мобилизовали на разные работы, в том числе на рытье щелей-укрытий, там жители должны были укрываться при воздушных налетах. Поначалу так и поступали – женщины хватали детей и бежали под вражескими самолетами в укрытие. Бабушка же сразу заявила, что это – дурь, и наотрез отказалась от такой «самозащиты».
Летом 1943 года мою маму Антонину Ивановну Тумашеву-Казакову наградили медалью «За оборону Ленинграда», а в конце 1945 года – медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Нашей бабушке Марии Прохоровне Казаковой-Студийской медали и почести не полагались, так как она считалась домохозяйкой-иждивенкой. Хотя и до войны, и в войну она была так называемой «уполномоченной», то есть помощницей участкового. Она следила за порядком в районе и за соблюдением светомаскировки. Бабушка умерла в апреле 1953 года, похоронена рядом с дедушкой на Троицком кладбище в Красной слободе.
Батова Зинаида Ивановна
Мама снимала одежду, брала молоток и била им по всем швам
О блокаде Ленинграда мне рассказывала моя мама, Батова Зинаида Ивановна. Ее родители – жители Ленинграда – поженились сразу после революции, а в 1923 году у них родилась дочь Зина. Через девять лет у моей мамы появился брат Василий. Дедушка и бабушка всю жизнь работали на ткацкой фабрике. Сначала они жили на Митрофановском шоссе в четвертом доме, потом переехали на улицу Курляндскую, в дом № 24/27, кв. 50.
Когда началась война, моей маме было 18 лет. Потом блокада Ленинграда… Мама работала на ткацкой фабрике, той же, что и ее родители. Первым умер отец. Мама (моя бабушка) слегла осенью 1942 года. Брат Вася оставался дома с мамой. Когда можно было пораньше уйти с работы, Зина торопилась к своим. Иногда приносила свой паек – бидончик похлебки, который получала на фабрике. Попасть в дом было непросто. Не было воды, не работала канализация. Все испражнения люди вываливали прямо в подъезд. А зимой все это свисало сосульками и бугрилось глыбами. Добравшись до своей квартиры, Зина делила все, что у нее было из еды, с братиком и мамой. Братик, съев свое, начинал хныкать: «Я кушать хочу». Мама отдавала ему свою еду.
В блокаду было очень много вшей. Мама снимала с себя одежду, брала молоток и била им по всем швам. Потом одежду вытряхивала и надевала на себя.
Как-то мама пришла с работы, но дверь была заперта, на стук никто не отзывался. Она постучала к соседке, ее брат находился там… Она взяла ключ и открыла дверь, а там лежала ее мама, накрытая простыней. Бабушка умерла зимой 1942 года. Первый раз в жизни Зина упала в обморок. Наревевшись, зашила свою мамочку в простыню, положила на санки и увезла.
Брат Вася оставался дома один. И в бомбежки Зина сильно за него переживала. На работе ей предложили оформить Васю в детский дом – там и присмотрят, и накормят. Зина согласилась. Теперь по вечерам после работы она торопилась навестить брата.
Однажды Зина пришла в детдом, а детей нет! Ей сказали, что их вывезли. Кто вывез, куда, как это произошло, до сих пор неизвестно. Так моя мама потеряла своего брата – Батова Василия Ивановича (1931 – 1932 г. р.). Искала она его всю жизнь, ищем его теперь и мы, надеясь получить хотя бы какую-то информацию о нем.
Зимой 1944 года маме предложили уехать в город Пушкин. Ехали в грузовиках. Все свои вещи она положила в кабину, на место рядом с водителем, а сама забралась в кузов машины. По дороге их начали бомбить, снаряд упал рядом с кабиной водителя… Зина упала на пол кузова, успев лишь прикрыть руками голову. Мягкие ткани рук у нее срезало осколками. Все вещи, документы и фотографии сгорели в кабине. Осталась в чем была.
После этого случая мама попала в госпиталь, где долго лечилась. Там она и познакомилась с молодым офицером, своим будущим мужем, моим папой. В 1946 году они поженились. Папа – кадровый военный, поэтому им пришлось помотаться по гарнизонам.
Мама всегда очень уважительно относилась к еде. И нас, своих детей, приучила к этому. В нашей семье никогда не выкидывали хлеб. Это грех.
Умерла мама в 1966 году, здоровье у нее всю жизнь было слабое.
Когда мы бываем в Петербурге, обязательно посещаем Пискаревское кладбище. Светлая память всем безвременно умершим! В моей душе до сих пор теплится надежда, что мы когда-нибудь узнаем, что случилось с моим дядей – Батовым Василием Ивановичем.
Батенина (Ларина) Октябрина Константиновна
Мы вступили в народное ополчение
Октябрина Константиновна уехала из Ленинграда во время войны, окончила философский факультет Московского университета, затем вернулась в родной город. Ее муж был слепым, и она всю жизнь помогала ему в научной работе – переводила с латыни, польского, читала книги, делала выписки в библиотеке, водила его на выставки и фильмы, помогала увидеть мир ее глазами.
Сейчас мне 88 лет, а к началу войны едва исполнилось 18. Я только что закончила школу № 107 на Выборгской стороне. 21 июня у нас был выпускной вечер, мы полночи прогуляли и потом проспали часов до 11. Утром я мылась на кухне, а в комнате меня ждала подруга. Мы с ней собирались ехать в ЦПКиО (Центральный парк культуры и отдыха), на Кировские острова. Вдруг она мне говорит, что по радио должны сообщить важное известие. Мы стали ждать. Вскоре Молотов обратился к народу, сказав, что на Советский Союз напали фашисты. Вот так я узнала о войне.
Был прекрасный день, и через открытую балконную дверь тюлевая занавеска надувалась от ветра, как парус. Еще накануне у меня было ощущение начала новой жизни – впереди университетские годы, вся жизнь… И этот летящий тюлевый парус остался в памяти как воспоминание о последнем мирном дне, о последнем мирном часе.
Вместо парка культуры и отдыха мы пошли в военкомат. Оттуда нас шуганули, поскольку у нас не было военной специальности, мы даже близко не смогли подойти – стояла большая очередь, пришло много мальчишек. Тогда мы надумали бежать в нашу школу. Во время финской войны там был госпиталь, и очень многое из оборудования еще осталось. Моя подруга подумала, что там будут снова устраивать госпиталь. И правда! Мы пришли, сказали главврачу, пожилому мужчине, что хотим что-нибудь сделать. Он послал нас выносить из классов парты, и мы вытаскивали их из всех комнат этого большого здания, устали до того, что я почувствовала во рту вкус крови. Так у меня прошел первый день войны.
Потом я все-таки пыталась попасть в военкомат, но это была инициатива на пустом месте, поскольку и зрение у меня было плохое, и стрелять я не умела. Я была максималисткой – ну как же, я же комсомолка, вот сразу побегу и стрелять начну. Но меня хорошо остудили в военкомате. Тогда я решила – ах так?! До этого я успела подать документы в университет, так я рванула туда, забрала их и решила идти на завод, поскольку было ясно, что с заводов рабочих заберут на фронт, а тут тоже кто-то должен работать. Я пошла на телефонный завод «Красная заря», который был шефом нашей школы. Меня взяли ученицей-монтажницей делать полевые телефоны. Мама у меня работала там же, но я пошла в другой цех, чтобы никто не подумал, что она мне помогает.
Через несколько дней было объявлено о создании отрядов народного ополчения. Я тут же побежала домой оставить маме записку, куда я ухожу, и встретила ее на лестнице. Она говорит: «А я иду за тобой, чтобы мы пошли записываться в народное ополчение». И мы вступили в народное ополчение. В школе, кажется в № 96 на Большом Сампсониевском, сделали казарму, ночевали мы там, дома практически не жили. Там тоже оставались кровати и столы со времен финской войны. Утром мы уходили строем на завод и работали до позднего вечера. Обедать нас водили в столовку напротив «Красной зари», там давали похлебку – водичку, в которой плавала какая-нибудь макаронина. После работы мы возвращались в казармы и там учились. Изучали телефон, азбуку Морзе, владение станковым пулеметом и винтовкой. Меня записали в отряд связистов – с моими физическими данными я больше никуда особенно и не годилась.
Ополчение просуществовало несколько месяцев, и осенью нас прикрыли. Кого могли, переводили в армейские части. Как-то я работаю, ко мне подходит дядька и трогает за плечо. Я говорю: «В чем дело?» А он говорит: «Наши все погибли». Целый отряд из ополчения послали под Лугу, и почти все там полегли, этот мужчина был одним из немногих, кто вернулся. Уже в мирное время я приезжала под Лугу. Меня спрашивали: «Что ты все в землю смотришь?» А я говорю: «Ищу, где лежат наши ребята». Если бы меня послали с ними, тоже бы там лежала.
8 сентября, когда горели Бадаевские склады, я вылезла на крышу. Мы гасили зажигалки, и я лазила почти ежедневно – мне было проще подняться наверх, чем спускаться с пятого этажа вниз, в подвал, куда нас всех загоняли. Вместе со мной на крыше сидел один парень, он помогал нашей дворничихе тушить зажигалки. И вот мы сидим на крыше, а перед нами синее пламя! Я очень удивлялась, почему оно такого цвета. Но красиво было, скажу я вам! Тогда мы еще не чувствовали голода, позволяли себе роскошь не выкупать что-то по карточкам. В магазинах стояли баночки с консервированными крабами, и никто не брал. Мы как-то не очень знали, что такое крабы, была селедка – и ладно. Яйца, масло, сахар были – а крабы – это как-то не про нас. И вдруг это все из магазинов смели!
Помню, я привела ребятишек, брата и двоюродного брата, в столовку. Мы взяли еду по карточкам, а братик, ему года три было, не доел котлетку, и потом, во время голода, он мне все говорил: «Ты помнишь ту котлетку? Дай мне ее». Брат ходил в очаг – так тогда назывался детский сад, на Выборгской улице. Это был особенный детский сад: за всю блокаду там не умер ни один ребенок, ни у одного ничего не украли! Заведующую Татьяну Яковлевну назначила в свое время на эту должность Надежда Крупская, и она взялась за это дело с таким энтузиазмом и ответственностью! Она говорила, что у нее могут умереть все сотрудники, но не умрет ни один ребенок. Хлеб, который им был положен, дети получали весь. В детских учреждениях давали не 125 грамм, а 150, заведующая делила этот хлеб на три части, и дети получали его трижды в день. Печка, старинная изразцовая, еще дореволюционная, всегда была горячая, к ней подходили по несколько детишек и грели спины и ручки. Погреется одна группа, потом другая, и затем их всех укладывали под одеяло. Мы приносили брату часть своего хлеба. Детский сад находился в большой коммунальной квартире, и на лестнице сидели бабушки и мамы, у которых не было сил подняться к ребенку. Некоторые так и умирали на лестнице. Брат выжил, сейчас он ученый, изучает низкие температуры, разъезжает по всему миру. И когда я на него обижаюсь, я в шутку говорю: «И зачем только я тебе свой хлеб отдавала?»
Мне было легче, так как я работала на заводе, многого не видела и не знала. Когда выходила из завода, то шла в булочную выкупать хлеб. До сентября на заводе еще кормили. Вырезали из карточек талоны на крупу, на мясо, а давали супчик, где плавала одна макаронинка. Я запомнила этот суп, поскольку как-то раз привела в столовую свою подругу, которая имела только иждивенческую карточку. Мы ели из одной тарелки и отталкивали эту макаронину друг другу: «Твоя карточка, ты и ешь!» – «Нет ты, ты голоднее!» Вот так и толкали ее обе, пока не размочалили ее вконец.
В сентябре и октябре еще было терпимо. Седьмого ноября по карточкам давали пирожные в «Норде», сейчас это кафе «Север» на Невском проспекте. У меня был выходной, и я с ночи стояла в очереди. Утром я выкупила эти пирожные, а потом оказалось, что они вовсе и не вкусные, сделанные из отмытого жженого сахара, который сгорел на Бадаевских складах.
Помню одного мужчину, который ходил в столовой и облизывал за всеми тарелки. Я поглядела на него и подумала, что он скоро умрет. Не знаю, может, он карточки потерял, может, ему просто не хватало, но он уже дошел до такого. Как-то я видела женщину, у которой украли все карточки, в том числе детские. Она каталась по полу и кричала, и никто ничем не мог ей помочь. Потом кто-то сказал, что ей надо идти в райком партии, может, там ей помогли. Но вот эта картина – как она катается по полу – осталась у меня в памяти на всю жизнь!
В конце января на хлебозаводах не было воды, и они не могли сделать хлеб. И вот представьте: люди получают всего 125 грамм, рабочие – по 250, и несколько дней вообще никакого хлеба! Тут-то народ много умирал.
В булочной было немножко теплей, чем в квартирах, в домах вообще был сплошной лед. Если у кого-то стояла печурка, можно было обогреваться, но мы печурку купили довольно поздно, где-то в феврале, когда перестали ночевать на заводе. Потом завод вообще остановился, поскольку не было электричества.
Мы топили буржуйку книгами. У кого была пила, тот мог распилить мебель, а у нас ее не было. Тут-то и выяснилось, какие книги самые ценные: сначала сожгли журнал «Крокодил», потом «Огонек», потом всякие научные, потом дошло дело до беллетристики. Кончилось дело тем, что у нас остались только классики марксизма и что-то из русской литературы. Перед тем как сжечь книги, я их читала. Когда на заводе не было тока и останавливалось производство, я сидела и читала. Меня спрашивали: «Ну что ты сидишь, глаза портишь при этой коптилке?» Я отвечала: «Я боюсь, что умру и так и не дочитаю Стендаля – „Красное и черное“, „Пармскую обитель“». Когда я взяла книжку «Последний из могикан», я сказала: «Вот интересно – последняя из ленинградцев сжигает „Последнего из могикан“». Я не очень жалела западную литературу, а немцев вообще сожгла первыми. В школе мы учили немецкий, и у меня были немецкие книги – их я сожгла сразу.
Весной я заболела, у меня была сильнейшая дистрофия. Мама вызвала врача, и он выписал мне бюллетень. Маме дали предписание уехать из Ленинграда. Она была довольно значимым партийным работником, и еще в начале войны ее хотели направить на организацию партизанской работы в области. Но кто-то из тех, кто ее посылал, вспомнил, что у нее есть маленький сын. Мама хотела, чтобы он остался со мной, но ей отказали. Это апрель, числа я помню плохо, в это время я уже довольно часто теряла сознание.
До Финляндского вокзала нас проводила одна женщина, которую мы наняли за хлеб, чтобы она довезла на саночках брата. Нас погрузили в плацкартный поезд – на вокзале до сих пор есть надпись, что «С этого перрона уходили поезда по Дороге жизни». Вагон был настолько переполнен, что одной ногой я стояла на полу, а другой на каких-то вещах. Ни прилечь, ни опереться нельзя было. А маму запихали в другой вагон. Потом меня спросили, почему я одна, и, когда я сказала, что мама в другом вагоне, меня выгнали. Я побежала по пустой платформе к тому вагону и услышала мамин голос. А проводница ее тоже внутрь не пускает. Брата запихнули, передали по людям, а нас не пускают! С мамой совсем плохо стало, она говорит: «Слушайте, что же вы делаете! Мы же потеряем трехлетнего мальчишку, он там, в вагоне! У нас ни вещей, ни документов – все там!» Проводница все-таки смилостивилась, и нас пустили. Мы простояли еще несколько часов и в этом вагоне, и только ночью поезд, наконец, поехал. Тихо-тихо, беззвучно, крадучись. Каждые 15 минут мы останавливались, и на остановках из вагонов выносили трупы и складывали вдоль дороги, и, когда мы доехали, в вагоне стало уже довольно просторно, можно было даже сидеть на полочке.
Рядом с нами сидела одна семья: папа, мама и двое детей – мальчик лет восьми и младенец. Маленький ребенок рот открывает-закрывает, стали искать врача, нашли какую-то женщину, а ребенок уже умер. И эта женщина сказала, что, если бы нашли ему хоть немного водички, он бы выжил. Он пережил всю блокаду, а умер на Дороге жизни. Мы сидели с мамой в разных концах вагона, я написала ей записку, что надо им как-то помочь. И мама отрезала кусочек от нашего пайка на несколько дней и передала по вагону в наш конец. Если бы я была режиссером, я бы сняла фильм: люди передавали этот кусочек ладонью кверху, и каждый говорил: «Я этот хлеб передаю» – и следующему. Несколько минут хлеб кочевал по вагону, и представляете – голодные умирающие люди, и никто не откусил, не утаил ни крошки! Я была счастлива, что мы могли помочь хотя бы старшему брату этого умершего младенца.
Когда поезд доехал до Кабоны, все вышли. С собой в школьном портфельчике у меня были только фотографии и документы. Мама говорит: «У нас с тобой вещи в вагоне остались». Я говорю: «Да ну их, что мы без смены белья не проживем?» И мы ничего не взяли. Потом нас посадили в открытые грузовики, и мы кое-как проползли по Дороге жизни через Ладогу, колеса были все в воде.
Затем мы поехали в Алма-Ату. Еще до блокады в Ленинграде висело обращение казахского акына: «Ленинградцы – братья мои! Ленинград – гордость моя! Ближе брата, ближе сестры Ленинграду Алма-Ата!» Вот мы и решили, раз мы им ближе брата и сестры, поедем в Алма-Ату. По приезде мама как партийный работник пошла в райком партии устраиваться на работу. Когда там узнали, что мы из блокадного Ленинграда, все забегали – кто стакан кипятка несет, кто конфетку, кто что. Жена одного из генералов очень хорошо организовала там питание блокадников.
После приезда я провалялась в нескольких больницах – сначала с дистрофией, потом с тифом. Оттуда уже я поехала в Москву поступать в университет. Это был 1943 год.
Беляева Валентина Владимировна
Я не боялась смерти!
Мое детство закончилось в 10 лет. С началом войны отец сразу же ушел добровольцем на фронт, а мы с мамой и бабушкой остались в Ленинграде. Мы жили рядом с Московским райсоветом в окружении крупных предприятий, которые выпускали оружие, танки, обувь, – словом, все для фронта. Немцы знали об этом, поэтому и бомбежки были целенаправленными. Поначалу с сигналом тревоги мы еще спускались в бомбоубежище, а потом сил не осталось совсем.
Мама работала на фабрике «Скороход» и была на казарменном положении, приносила нам с бабулей паек (2 кусочка хлеба по 125 грамм) и строго наказывала принимать как лекарство – по частям, которые она сама нарезала. Бабуля почти все отдавала мне и в феврале 1942 года умерла от голода. Два дня я лежала в пустой холодной квартире одна с мертвой бабушкой, пока не пришла мама и на саночках не увезла труп на кладбище. Я маме помогала завернуть бабушку в простыню и спустить с 4 этажа вниз. Мое здоровье подорвалось, я заболела воспалением легких и лежала, закутавшись во все, что мама могла найти. Я не боялась смерти и, чтобы занять себя, считала секунды, складывая в минуты и потом в часы. Ждала включения радио, оно стало для многих изможденных ленинградских ребятишек членом семьи, добрым другом.
В сентябре 1942 года я пошла в школу, в 3-й класс. На уроках литературы учительница Александра Ивановна рассказывала о долге и ответственности перед Родиной. Мы верили в победу. Помню, как увидела в последний раз отца, заскочившего домой на несколько минут, когда его полк переводили на другую линию фронта. При прорыве блокады в 1943 году отец погиб.
Весной 1943 года нас, школьников, посылали копать траншеи на Пискаревке. И теперь я никогда не забываю в памятные даты обязательно возложить цветы и помянуть тех, кто лежит в земле Пискаревского мемориала.
Блат Зинаида Моисеевна
Меня откинуло воздушной волной к стенке!
Наш дом был огорожен металлическим заборчиком, там росла акация, липы, дикие яблони. Когда началась блокада и голод, мама рвала в этом саду лебеду, крапиву, листья липы, смешивала их с чем-то и пекла что-то вроде булочек. Мама была запасливой женщиной, у нас дома хранилась картошка, квашеная капуста.
До войны папа построил сарайчик, мы держали там кур и зерно для корма, и вот за счет этих кур и зерна мы и выживали. Рядом с моей школой находились скотные дворы, люди держали там коров. Когда началась война, кормить их стало нечем, надо было резать. В городе остались в основном женщины, и они просили резать скот моего папу, давали взамен какие-то куски.
В столовую привозили баланду – воду, разбавленную мукой. Мама брала бидон этой баланды, кидала туда что-то от курицы, овес или еще что-то, вот так мы и питались.
Часть еды я носила моему дяде, маминому брату. Было холодно, идти приходилось далеко. У брата было трое дочерей, одна из них девятимесячная, жена и мать, и я предложила родителям взять эту маленькую девочку к нам. Они согласились. Я пошла к брату, и, когда проходила мимо трамвайной остановки, где стояли люди, началась воздушная тревога. Спрятаться в бомбоубежище мы не успели, начался обстрел. Многих убило – кому голову снесло, кому что. Меня откинуло воздушной волной к стенке.
Через неделю я снова пошла к дяде навестить девочек, прихожу, а мне говорят, что их отправили в госпиталь с дизентерией. Я пришла в больницу, а они уже умерли. Дядя умер еще накануне, его тело завернули в одеяло и положили во дворе к стенке – так тогда хоронили. Тогда многие бросали трупы прямо на улицах, в сугробах, чтобы сохранить карточки умершего.
Блюмина Галина Евгеньевна
Мы помогали взрослым гасить зажигалки
Когда немецкие войска вплотную подошли к Ленинграду, мне только исполнилось 11 лет. Из немецких окопов на окраине города была видна конечная остановка трамвая – так нам говорили в те дни по радио. Это было в сентябре 1941 года, а до этого город подвергался постоянным обстрелам и бомбежкам. В те дни мы в школу уже не ходили, а жили в бомбоубежище, в подвальном помещении нашего дома.
Во дворе нашего дома на Васильевском острове, на 9-й линии, находилась зенитная батарея с бойцами. Она все время стреляла по самолетам, которые сбрасывали зажигательные бомбы на крыши домов. Город был замаскирован сетками, чтобы с самолетов не было видно, где находятся самые главные памятники и мосты. Это Зимний дворец – Эрмитаж, Адмиралтейство, Петропавловская крепость, Невский проспект, Исаакиевский собор и многие другие. В домах создавались детские бригады, которые помогали взрослым гасить зажигалки. Мы были в брезентовых рукавицах и в защитных касках на голове, так как зажигательные бомбы пробивали крыши, падали на чердак и крутились, как волчок, исторгая из себя море искр, вызывая пожар и освещая огнем все вокруг. Мы – дети с 10 лет и старше – брали в рукавицах бомбы и выбрасывали их в окна чердака на брусчатку двора (тогда асфальтированных дворов еще не было), где они тухли.
По приказу горисполкома надо было разбирать сараи, находившиеся во дворах домов, так как на Васильевском острове в ряде домов было печное отопление. Взрослые и дети выходили во двор и работали там до темноты, разнося доски и дрова в квартиры. Наша мама освободила целиком одну комнату, которую мы заполнили дровами. Это, скорее всего, и спасло нас от гибели, так как мы были хоть и голодные, но жили в тепле – буржуйка топилась у нас круглосуточно. А нас было 6 человек в семье – папа, мама и четверо детей, младшему из которых было 4 года.
В начале войны многие школы и детские сады выехали на Валдай и в окрестности Ленинграда, чтобы переждать бои. Все без исключения люди считали, что война вот-вот кончится, ведь между СССР и Германией был подписан мирный договор о ненападении. Но этого не случилось, и наши родители приехали в сентябре последними составами, чтобы забрать нас домой. Эти два месяца, пока нас не было, наша мудрая мама доставала продукты по завышенным ценам, где только могла, так как четверых детей нужно было кормить каждый день. Горели от бомбежек Бадаевские склады, сахар тек, пропитывая землю, и все жители города собирали этот сахар вместе со снегом и землей.
В пригороде оставались неубранными колхозные поля. Мы с мамой ходили туда и собирали картошку, брюкву, свеклу, капусту и турнепс. Мои родители работали в то время на заводе им. Калинина, папа – инженером, а мама – товароведом. С начала войны у папы была бронь, то есть от военной службы он был освобожден (у него были больные легкие), но на рытье окопов он уехал. А через месяц отца привезли домой, он начал кашлять кровью, так как сильно там простудился. Положили его в больницу, но кормить больных там было нечем. Мама его выхаживала в больнице, но, когда отца выписали, он был очень слабый.
Все мы пухли от голода и слабели с каждым днем. Запасы маминых продуктов давно кончились, а пополнять их было нечем. Собирали во дворе грязный снег и делали из него чистую воду. Ежедневно кипяток и 125 граммов хлеба на одного человека. На продуктовые карточки ничего не давали. К тому же в тот год была удивительно суровая и снежная зима. В бомбоубежище мы уже не спускались, не было сил, лежали на кроватях в одной комнате, где теплилась буржуйка.
В один из дней мама нам сказала, что у нее нет больше сил бороться и так жить, что мы затопим буржуйку, закроем трубу и ляжем спать, чтобы утром не проснуться. Это была бы самая легкая смерть – мы все дружно согласились с ней. Спорил лишь отец, который не хотел умирать. Прямо при нас он сказал маме: «Мы с тобой должны жить, и поэтому все те продукты, что дают нам на всю семью, должны съедать мы, а дети у нас еще будут». Это было очень жестоко, от голода у него помутился рассудок. Но мама с отцом не согласилась, мы все были ей очень дороги. Моему отцу в тот момент было 43 года, а маме 37 лет.
И в этот день к нам пришли люди, которых прислали с завода известить маму и папу о том, что нас эвакуируют на Большую землю.
С Финляндского вокзала отходили поезда в сторону Ладожского озера, по Дороге жизни. Но до этого надо было набраться сил и добраться до завода пешком, чтобы выписать на всех нас документы на дорогу. Папа еле оделся, так как он был очень болен и слаб, и ушел. Пришел ночью с документами, мы взяли большие санки у дворника и отправились на вокзал. В санки мама сложила кое-какие вещи, которые мы потом в дороге меняли на продукты.
Но вот мы отправились в эвакуацию и добрались до станции Ладожская. Папа встретил шофера с завода, и тот помог нам перебраться на ту сторону по льду, на его машине. Сверху очень хорошо днем и ночью просматривалась эта дорога, немцы бомбили ее, а воронки припорашивало снегом, и их было не видно. Мы чудом уцелели – перед нами машина угодила в воронку и ушла под лед вместе с людьми. Мы добрались до противоположного берега, и там нас поместили в бараки в ожидании поезда на Большую землю. Это были теплушки для перевозки скота.
В каждом вагоне были нары и буржуйка, правда, без дров. Дрова на остановках мы должны были добывать сами. На вокзале станции Жихарево нас накормили горячим обедом. Он состоял из ячневого супа, ячневой каши с бараниной и хлеба. К тому же каждому давали по одному куску сырокопченой колбасы и по одной плитке шоколада. Люди съедали все это сразу и тут же умирали, так и не поняв причины страшных мучений. Опять же наша мудрая мама, получив все это, послала отца за кипятком. Он не пошел – боялся, что она все это съест сама, и даже полез с ней драться, отбирать еду. На все это было очень тяжело смотреть. Две мои старшие сестры взяли бидон и принесли кипяток. Мама разводила одну ложку выданной каши с кипятком и каждый час кормила нас. Ведь баранина – очень тяжелое мясо даже для здорового человека.
Посадили нас в теплушки, из всех щелей дуло и сквозило, а единственная буржуйка, стоявшая посреди теплушки, не могла обогреть всех людей. На остановках, разъездах, когда поезд останавливался, наиболее здоровые бежали в лес за хворостом для печки. Иногда в такие моменты состав трогался без предупреждения, и люди, измученные голодом, отставали от поезда. Так и моя мама через 10 дней пути, решив выменять немного картошки, отстала от поезда. Догнала она нас через сутки, счастливая и с картошкой в подоле – ее подобрал воинский эшелон с ранеными, которых везли в тыл.
Папа лежал на нарах, больной и слабый. Старшая сестра, которой было восемнадцать, заразилась в поезде сыпным тифом и лежала с высокой температурой. Мама увидела все это и сказала, что мы выходим на ближайшей станции. Это была станция Свега Кировской области, где мама нашла начальника. Сестру и папу осмотрел доктор, а нас отправили за 10 км в деревню, в колхоз. А ведь конечным пунктом нашего маршрута была Казань, куда был эвакуирован завод им. Калинина.
Все мы стали работать в колхозе, зарабатывать трудодни. Денег нам не платили, но председатель выписал нам муку, картошку и другие продукты. Так я в 11 лет научилась запрягать лошадь – возила навоз на поля.
Папа выздоровел, да и сестра поправилась от хорошего питания. Отец уехал в Казань на завод, а мы остались. Но через три месяца папа опять приехал к нам, и снова он был очень сильно болен. Мама все вещи обменивала на продукты, чтобы кормить отца.
Когда война шла уже на территории Германии, мы стали собираться домой, но нас долго не пускали в Ленинград. Когда приехали, квартира наша была уже занята. В 1945 году папа умер – ему было 47 лет. Сестра поступила в Институт железнодорожного транспорта, мама прописалась в общежитии от работы. Потом мы с сестрой вышли замуж за лейтенантов Военно-морского училища им. Фрунзе – так мы оказались в Севастополе. Здесь я живу уже 50 лет.
Богатырев Николай Федорович
Участвовал в прорыве блокады
Богатырёв Николай Фёдорович в начале Великой Отечественной войны служил на полуострове Гангут (Ханко) в составе отряда моряков и участвовал в его обороне. После эвакуации с полуострова – в обороне Ленинграда. В составе 136-й стрелковой дивизии, образованный из 8-й морской бригады, участвовал в прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года. Был ранен. Позднее сражался за освобождение Эстонии. В 1945 году участвовал в боях по освобождению Венгрии, Австрии и Чехословакии. После войны Н. Ф. Богатырёв работал в народном образовании и на партийной работе.
Богданов Юрий Иванович
Мы несли вахты на крышах
Мой отец был летчиком, а мать – врачом. Когда война началась, родители ушли на фронт, и я в возрасте 10-ти лет остался с бабушкой. Жили мы на Васильевском острове.
Вместе со сверстниками я тоже оборонял город от фашистов. Мы несли вахты на крышах, тушили зажигалки, вычисляли шпионов-ракетчиков. Когда мы выявили 15 ракетчиков, нас наградили. В 11 лет я получил медаль «За отвагу».
Днем мы работали – обтачивали болванки для снарядов, потом на фабрике Урицкого паковали махорку для бойцов на фронте. После трудовых смен ходили по госпиталям, ухаживали за ранеными и пожилыми ленинградцами.
Очень запомнился на всю жизнь «тракторный» Дворец Кирова. Там был ожоговый госпиталь. Мы ходили туда в 1942 и 1943 году, поили, кормили раненых, читали им письма, газеты.
Был там летчик Саша, ему перестала писать его девушка. Чтобы его поддержать, мы каждую неделю писали ему письма – якобы от нее. И он всегда ждал это письмо – оно было для него как лекарство.
В первый и второй год войны мы дежурили в булочной, чтобы никто не смог отнять у совсем ослабевших людей хлеб. Мы же провожали самых слабых до дома, брали у них бидончики и с Невы привозили воду. Находили дрова и топили буржуйки. Когда не было дров – топили книгами.
Во время тревог дежурили на чердаках, тушили зажигалки, ловили вражеских сигнальщиков. Обезвредили 15 человек.
В 1941 году умерла бабушка. Я получал на нее иждивенческую карточку. Не рассказал в ЖЭКе, что она скончалась, так она и лежала в нашей комнате до мая 1942 года.
Зимой мы собирались по 3 – 4 человека и на саночках ездили на Ладогу. Там иногда были убитые лошади, но солдаты туши забирали себе, а ноги оставляли. Вот поедем и пару ног привезем, потом в буржуйке осмолим их и варим.
В 1944 году я попал в школу юнг на Соловки, а затем был переведен в такую же школу в Кронштадт. После завершения обучения меня юнгой взяли на Балтийский флот на катерные тральщики. В 1945 году перевели в часть охраны водного района в Севастополь.
В ОВРе Черноморского флота я и прослужил 30 лет, сначала как моторист, позже – старшиной команды мотористов.
Корабли ОВРа воевали и после войны. Катерные тральщики месяцами планомерно разминировали севастопольские фарватеры, уничтожая вражеские якорные и донные мины. Корабль, на котором я служил, расчищал морские дороги на Одессу и Новороссийск, расправлялся с вражескими минами в бухтах главной базы. Части ОВРа главной базы ЧФ после войны постепенно начали пополняться новыми кораблями.
На малых противолодочных кораблях я прошел шесть боевых служб – все они были в Средиземном море. Боевые службы длились иногда до 8-ми месяцев. Если учесть, что бытовые условия были, можно сказать, никудышными, то легко представить, как трудно приходилось нашим морякам в горячей «средиземке».
Отслужив положенное, в звании мичмана ушел в запас. Работал в севастопольском порту сменным диспетчером.
Бок Екатерина Андреевна
Холодец с человеческими ногтями
Моя бабушка, Екатерина Андреевна Бок, рассказывала, что люди в блокаду умирали везде: в подъездах, на улицах… У нее самой отец умер голодной смертью, но его жена, бабулина мама, сумела договориться и похоронить его в чужом склепе на Волковском кладбище… А еще она говорила, что на рынке продавали холодец с человеческими ногтями… жутко даже представить себе весь этот ужас, который пришлось ей пережить…
Болдырева Александра Васильевна
Я чуть не стала мясом для котлеты!
Наша семья не эвакуировалась, мы остались в Ленинграде. Голод пришел с первых же осенних дней, ведь запаса продуктов у нас не было никакого, за исключением одного мешка зеленых капустных листьев, которые мы с мамой собрали после уборки овощей на полях.
Пришла зима, и стало совсем плохо. 125 граммов хлеба надо было разделить на 3 раза. И вот эта третья часть хлеба (вернее, того, что называлось хлебом) и большая чашка подсоленной воды – такое питание было у нас всю зиму.
Зимой 1941 – 1942 годов в школу мы не ходили, так как помещение не отапливалось. Как только наступало раннее утро, я сразу же шла в булочную, чтобы получить свою порцию хлеба. Когда я ложилась спать, то представляла, что в комнате стоят шкафы, а на полках лежат буханки хлеба. И с этой мыслью засыпала.
К весне мое состояние ухудшилось, появилась отечность в ногах, ходить стало трудно, а потом и вовсе на второй этаж, где мы жили, приходилось подниматься ползком по ступенькам.
Однажды наша соседка по квартире предложила моей маме мясные котлеты, но мама ее выпроводила и захлопнула дверь. Я была в неописуемом ужасе – как можно было отказаться от котлет при таком голоде. Но мама мне объяснила, что они сделаны из человеческого мяса, потому что больше негде в такое голодное время достать фарш.
Однажды я сама чуть не стала мясом для котлеты. Это было в начале зимы, видно, я еще не сильно отощала. Когда я возвращалась домой из булочной, за мной увязались двое. Из их разговоров я слышала: «Смотри, эта девочка, видно, не с пайка живет». Они стали меня звать с собой, но хорошо, что рядом шли другие люди, да и дом наш был совсем близко.
Кое-как мы дожили до весны. Все очень ждали появления травы, из которой потом мы делали и суп, и борщ, и лепешки. В мае школьников прикрепили к столовой, и мы ходили туда питаться. Кормили нас, в основном, соей. Суп соевый, лепешки соевые и молоко соевое. Мама моя не выжила, умерла в конце мая.
Воспоминания и эпизоды перед глазами встают только страшные. Рядом с нашим домом была больница, из окна был виден большой сарай – морг, к которому каждый день подъезжала машина, и в нее как дрова забрасывали умерших от голода людей. Когда пришла весна, и стал таять снег, открылась вся антисанитария. За зиму много покойников было брошено в траншеи, у людей не хватало сил довезти тела до кладбища.
И все-таки мы дожили до долгожданной травы, это было наше спасение. Люди стали копать огороды, сажать овощи, используя каждый кусочек земли. Еще было много трудностей, но самую страшную зиму мы пережили.
А позже пришло время, когда наш город освободили от блокады. Это была безграничная радость. Мы выжили.
Бордюкова Светлана Владимировна (Кромачева)
Мое блокадное детство прошло в госпитале
Родилась 02.02.1942 в городе Ленинграде.
Мое блокадное детство прошло в госпитале, где мама работала медсестрой. Во время войны наш дом был разрушен, поэтому нас приписали к госпиталю и обеспечили всеми видами довольствия.
Мама сутками находилась на операциях, а за мной присматривали легкораненые. Они носили меня из палаты в палату, поэтому, когда моя мама освобождалась, ей приходилось искать меня по всему госпиталю.
После снятия блокады в 1944 году госпиталь эвакуировали. Наш состав подвергся бомбежке на станции Бологое. Дальше мама решила не ехать, так как в 40 километрах от Бологое, на станции Баталино, жили ее родители.
Там я в семь лет пошла в первый класс. В 1950 году мы вернулись в Пушкин, и я стала учиться в местной школе. Окончив техникум общественного питания, устроилась на работу поваром. Также работала на заводе «Электросила».
Бриллиантова Ольга Николаевна
Я занималась эвакуацией детей
В воскресенье 22 июня была хорошая погода. Я помогала делать маме прическу – завивала локоны. Тут вбегает сосед: «Объявили войну!» У меня на щипцах локон сожженный так и остался.
После 22 июня начались разговоры об эвакуации, о бомбежках. Я не помню первую бомбежку в городе, но запомнила, как в сентябре сгорели продовольственные Бадаевские склады.
Меня призвали в райком комсомола, и я занималась эвакуацией детей из Ленинграда. Нас было несколько человек, каждому давали свой участок. Мне надо было охватить всех детей в Куйбышевском районе. Не все родители хотели расставаться с детьми, были и проклятия. Как-то один эшелон с эвакуированными детьми немцы разбомбили, а со второго они кое-как добрались пешком обратно в Ленинград.
Напротив нашего дома было бомбоубежище. Я видела, как мужчина вышел из него покурить, а в бомбоубежище попала бомба, и вся его семья – жена и двое детей, все погибли, он остался один. Но в целом город больше страдал от обстрелов.
Карточки ввели, по-моему, еще в июле. Мы ходили с проверками по пунктам, где выдавали карточки, там шла определенная регистрация. К сентябрю у людей, которые не делали запасов, стало не хватать еды, а с ноября начался голод. В декабре уже массово начали умирать мужчины, в марте – женщины. В декабре, несмотря на то что на иждивенческую карточку давали всего 125 грамм хлеба, на служащую – 250 грамм, а на рабочую – 400 грамм, никаких других продуктов не давали вообще. Поскольку я работала в райкоме комсомола, у меня была рабочая карточка (по тем временам эта работа требовала много сил), а у мамы – иждивенческая. Люди ходили, как моя мама, занимать очередь в магазин в 4 – 5 утра. В 8 утра я ее подменяла, потом открывался магазин, и выяснялось, что ничего за ночь не завезли.
Приходилось ходить на рынок, менять вещи на еду. Покупали клей в плитках, одна плитка столярного клея стоила десять рублей, тогда сносная месячная зарплата была в районе 200 рублей. Из клея варили студень, в доме остался перец, лавровый лист, и это все добавляли в клей. Хлеб купить на рынке было почти невозможно, так дорого, хотя, вообще, его продавали. Торговали хлебом около булочных, меняли на вещи, вот я тоже меняла. Все, что было в доме хорошего, все сменяли на еду. Вещи клали на землю, люди смотрели и на что-то там меняли. Как раз перед войной мне подарили шифоновый отрез на платье, очень красивый, его я поменяла на две столовые ложки собачьего жира. У меня было колечко, сережки – все пошло на обмен. Мамину брошь с сапфирами и бриллиантами мы отдали нашей знакомой, и она четыре раза передавала нам по полкило хлеба, в целом получилось два кило хлеба.
Поленья было найти сложно, так что сожгли всю мебель. У нашего дома стоял дровяной склад, и то ли из-за диверсии, то ли осколок попал, но все наши дрова сгорели. Это был декабрь, дома оставаться было очень страшно, и мы собрали документы в маленький чемоданчик, стояли во дворе и смотрели на пожар.
Уже с декабря начали возить саночки с умершими, вы, наверное, видели такие кадры. Транспорта не было, ходили пешком, все было завалено снегом. Идет по улице человек, качается, прислонится, потому что идти дальше нет сил, да так и остается. Трупов на улицах было очень много, их собирали и увозили.
Помню, как-то началась бомбежка, я была на улице Марата. На проезжей части лежала женщина, которую убило осколком, у нее откинулось пальто, и было видно, что вырваны куски мяса и торчали кости. Эту картинку я запомнила навсегда.
В первых числах апреля я получила повестку из военкомата, и меня призвали на фельдшерское обучение. Нас стали готовить к отправке на фронт, обучали во Дворце работников искусств, сейчас это Дом актера. Распорядок дня был такой: утром приходим на завтрак, после завтрака шла строевая подготовка во дворе. В Михайловском саду учились ползать по-пластунски, это потом нам очень пригодилось. После строевой подготовки нас вели в Карельскую столовую, там стоял огромный стол, и мы учились разбирать и собирать станковые пулеметы и револьверы. Потом нас вели обедать в ресторан «Москва», к которому мы были прикреплены, на углу Невского и Владимирского проспектов. После обеда мы, девчонки, шли работать: разбивали ломом лед, чистили улицы, вывозили мусор на санках. К 20-м числам мая мы закончили уборку нашего района.
Когда мы закончили обучение, нас стали распределять по частям. Я попала в 90-ю Краснознаменную стрелковую дивизию. Мама у меня уже не поднималась, я сказала в военкомате, что не могу оставить ее одну. Мне дали бумажку с разрешением, и 29 мая мы с соседкой отнесли ее на носилках в «Октябрьскую» гостиницу напротив Московского вокзала, там размещался стационар для родных военнослужащих. 30 мая нас собрали и повезли на почтово-полевую станцию Ленинградского фронта.
Бубненкова Александра Тимофеевна
Когда мама везла дедушку на кладбище, провалилась в Неву
Моя мама Бубненкова Александра Тимофеевна рассказывала, что они работали на оборонном заводе вместе с сестрой моего отца Бубненковой Клавдией Константиновной, с мамой жила моя старшая сестра Бубненкова Зоя Борисовна, ей было три года, и родители моего отца. Дедушка умер там же, его похоронили в общей могиле и, когда мама везла его на кладбище, провалилась в Неву. С тех пор у нее страшно болели ноги, а бабушка умерла по Дороге жизни через Ладожское озеро, тетя после блокады ушла на фронт. Мама никогда не рассказывала, наверное, не хотела говорить про ужасы. Родители мои и тетя уже давно умерли, а сестра жива и почти здорова.
Бубнов Григорий Михайлович
Самый печальный месяц
У меня нет ни одного позитивного впечатления о войне и блокаде, все только страшные. Мы жили в Люблинском переулке, в доме № 7, квартира 14. Я был тогда совсем маленький и ходил в детский сад. Однажды воспитатели вывели нас из-за столов прямо во время обеда. Как мне потом рассказала мама, вскоре в это здание попала бомба. Это было около Египетского моста.
После того как садик разбомбили, я оставался дома один. У семьи не было никаких возможностей куда-нибудь меня определить. Апрель 1942 года стал самым печальным месяцем для нашей семьи. 16 апреля на Балтийском заводе умирает мой отец. 20 апреля умирает его родная сестра, моя тетя. В конце апреля – начале мая умирает мой дед. Большую часть блокадных дней мне пришлось коротать наедине с черным репродуктором. Мама круглосуточно работала в морском порту телефонисткой. Во время тревоги, если мама была дома, она брала меня на руки и вставала между дверей.
Когда блокада была снята, мама взяла меня на салют. Мы наблюдали его у Базового Матросского клуба на площади Труда.
Когда наши войска возвращались с победой и шли от Нарвского проспекта в сторону Невского, мы с мамой встречали их напротив Никольской церкви.
Буй Ольга Павловна
Мы их помним!